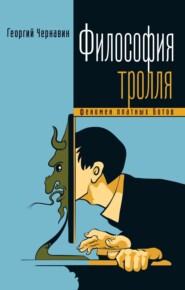По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Подобие совести. Вина, долг и этические заблуждения
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
. Рабочие завода «Динамо» сами в реальном времени цензурируют свои бывшие «насущные» просьбы, в моменте производят переоценку того, что считали важным; все, что они увидели и услышали, «вылилось в один волевой итог: он столько делает, он столько знает, а мы просить хотим!» (Шагинян 1949, 27). То есть хотели просить, но теперь сами понимают неуместность своих просьб, сами почувствовали
. Запомним эту первосцену: ходоки вживляют себе новую форму совести.
Не всем повезло получить прививку новой формы совести в кабинете «откуда видна вся страна» в оболочке специфической «сталинской ласки» (обращенного на них сверхчеловеческого знания и внимания, ободрения), но она переходит по цепочке от получивших: «Каждый из советских людей, получивший эту особую сталинскую ласку, передавал ее дальше – землякам, коллективу, широкому кругу друзей» (Шагинян 1949, 28).
Так чем же новый внутренний голос
отличается от «прежней, жалостливой скорбной совести»?
Мораль буржуазного мира докатилась до чудовищной формулы: «Нам нужны несчастные, чтобы в нас не умирала наша совесть». Эта формула как нельзя лучше служит капитализму, готовит нужные ему резервы поденщиков, рабов труда, отбирает и культивирует в них самые удобные для эксплоататора качества – униженность, безропотность, смирение. Вот какова веками складывавшаяся совесть в старом мире эксплоатации человека человеком. Лишь сбросив страшные, цепкие оковы такой совести, мог начать расти человек смелый, мужественный, хозяин земли, работник, преобразователь, покоритель природы. Наша новая совесть – совесть совершенно иного порядка. Ласка и доброта Сталина, забота, с какой партия Ленина-Сталина пестует человека, – эта ласка и забота поднимает, окрыляет того, на кого она направлена. (Шагинян 1949, 28)
Совесть совершенно иного порядка
возможна только, если сбросить веками складывавшиеся «страшные, цепкие оковы [старой формы] совести». Старая форма совести подпитывалась несчастьем поденщиков, рабов труда; новая форма совести растет вместе с уверенностью в себе, верой в светлое будущее и прочное народное счастье. Новая совесть трансформирует своего носителя: «черты народного характера преображаются под влиянием этой заботы и ласки; человек поднимает голову, смелеет, раскрывает свои внутренние силы; пропадает застенчивость, неуверенность в своих силах, перестает быть „стыдно“, „страшно“ – выступить, сделать, броситься в бой» (Шагинян 1949, 29). Совесть иного порядка
больше не строится по модели стыда; сама ее аффективная составляющая преображается. Жалостливой, униженной, безропотной и смиренной совести противопоставлена смелая совесть хозяина, преобразователя и покорителя. Она передается при помощи окрыляющей «ласки», полученной ходоками и сообщенной дальше по цепочке. Новая совесть – это партийная совесть, то есть коллективный опыт, олицетворенный одним человеком, но интроецированный миллионами:
Каждый свой успех и каждую свою ошибку советский человек рассматривает глазами миллионов родного народа, глазами требовательной своей совести. И в успехе, и в достижении, и в ошибке высокая норма нашей совести – сталинская требовательность к себе. Мы […] мерим себя не жалостливым аршином со скидками на человеческую слабость, а высокой, требовательной, основанной на великом уважении к человеку сталинской совестью. (Шагинян 1949, 29)
Новая форма совести – сталинская совесть
– синтезируется и внедряется глубоко во «внутренний мир» советского человека. Здесь возникает парадокс внешнего и внутреннего: внутри отдельных советских людей прорастает совесть, сформированная извне. Новоприобретенная совесть представляет собой внешний «орган» – это вынесенная вовне, за пределы отдельного человека способность суждения. Она заменяет «жалостливую, скорбную» совесть, как внешний сменный модуль. В самой идее вынесенной вовне, обновляемой совести есть нечто завораживающее.
Каждое свое действие носитель этой совести иного порядка
видит глазами миллионов; представим себе это фантазматическое фасеточное моральное гиперзрение. При этом носитель такой формы совести сверяет ее не со своим индивидуальным внутренним чувством, а с фантомом «сталинской требовательности к себе», то есть моральное чувство тоже вынесено вовне и олицетворено в Большом Другом. Миллионоглазая вынесенная вовне совесть, новый внутренний голос, сталинское строгое суждение о себе – совесть одновременно присутствует в регистре морального гиперзрения, обновленного внутреннего голоса и способности суждения «значимого Другого» (фантазматического строгого суждения, проживаемого как свое).
Разъясняя отличие совести иного порядка
от «старого привычного понимания совести», некая Мариэтта Шагинян приводит пример:
Несколько лет назад в Америке с большим успехом шла в театрах пьеса некоего Уильяма Сарояна, которую критики назвали «гвоздем сезона». Богатые американцы наслаждались этой пьесой, они открыто плакали во время действия и не стеснялись своих слез – наоборот, гордились ими. Пьеса «освежала» их – она показывала не гангстеров и не любовный конфликт, а изгнание семьи безработного из квартиры за невзнос платы. Это было трогательно, это было жалостно. Рабочий кротко выносил из квартиры свой скарб, а зрителей щекотали слезы умиления, слезы собственных добрых чувств. А пока эта пьеса шла на сценах театров, из сотен и сотен настоящих квартир в Америке изгонялись живые семьи безработных, которым нечем было платить за квартиру, и сотни и сотни фермеров везли по дорогам Америки свои тележки со скарбом из покинутых, разоренных гнезд. Это не трогало и не волновало, это было обычно, в этом не проявлялось необходимой кротости и смирения, наоборот – люди обнаруживали неприятные черты мрачного нежелания быть несчастными, скрытой готовности к возмущению. А для того, чтобы буржуа мог чувствовать доброту и жалость, жертвы капиталистического строя должны быть не только несчастны, но и кротки, смиренны в несчастье. (Шагинян 1949, 28)
Под это описание из произведений Сарояна, написанных до 1949 года, подходит только его первая поставленная на сцене пьеса «В горах мое сердце» (1939). Бен Александр, поэт, безуспешно пытается заработать на жизнь исключительно литературным трудом. Семья из трех человек чудом умудряется сводить концы с концами, но в итоге их все-таки выселяют из «дряхлого белого каркасного дома с верандой» (Сароян 1961, 118). Финальная сцена трагикомедии: Александр вместе с тещей и сыном уступают дом новым жильцам, уходят в ночь с одним чемоданом. Непризнанный поэт, который «не ищет работу», так как «работает вдвое больше, чем обыкновенные люди» над новой поэмой, гордо бросает в чемодан «стихи, книги, конверты, хлеб и кое-что из еды» (Сароян 1961, 124–125, 151); теща и сын уходят налегке. «Атлантический ежемесячник» отверг его «великолепные стихи», поэт пытается символически расплатиться с бакалейщиком этими стихами; возмущенный своей непризнанностью, он избавляется от всей своей мебели, широким жестом оставляя ее новым жильцам (Сароян 1961, 136–137, 139). Совесть иного порядка
трансформирует его в «рабочего, кротко выносящего из квартиры свой скарб». Моральное гиперзрение советского человека видит, как «из сотен и сотен настоящих квартир в Америке изгоняются живые семьи безработных, которым нечем платить за квартиру, и сотни и сотни фермеров везут по дорогам Америки свои тележки со скарбом из покинутых, разоренных гнезд» и не замечает комически-утрированную канву повествования, поэтическую стилизацию, а также того, что отец и сын (нынешний поэт и будущий драматург) – это, возможно, две проекции одного человека (Гудков 2018, 296).
Ударная (последняя) реплика пьесы звучит так:
Ты знаешь, папа, я никого не виню, но где-то что-то неладно (I’m not mentioning any names, Pa, but something’s wrong somewhere). (Сароян 1961, 151; Saroyan 1940, 104)
Персонаж пьесы, девятилетний мальчик, никого не винит именно для того, чтобы театральный зритель почувствовал смутную вину («the people are silent with awe and the knowledge that something is wrong»[11 - (Saroyan 1940, 99); «Люди благоговейно молчат и чувствуют, что где-то что-то неладно» (Сароян 1961, 148).]). В отличие от него советский человек хорошо знает, кого винить: капиталистический строй; он-то запросто может выйти на Красную площадь и крикнуть: «Долой Трумэна!» Но это априорное знание о том, кто виноват, играет с ним злую шутку: он сам оказывается выставлен на суд партийной совести
.
Бывает у нас, что советский человек совершает ошибку, наносит урон нашему развитию – все равно, в области ли хозяйства, или искусства, или науки. И тогда его осуждает советское общественное мнение, судит наша партийная совесть. Это – высокий суд, тяжелый для провинившегося. Наши враги за рубежом радостно подхватывают факты такого общественного осуждения и любят поиздеваться над тем, что у нас виновные всенародно признают свои ошибки. Старая, мертвая, схоластическая логика наших врагов не вмещает подлинного объяснения этого факта, она может объяснить его только действием нажима извне, сверху, со стороны. На самом же деле признание своей вины происходит в самом человеке, в глубоком внутреннем мире его совести, требовательно подходящей к себе. Ведь общий высокий идеал, каким живет наш советский народ, сплачивает всех нас в таком тесном единстве, как никогда раньше не было в истории человечества. И человек нового общества дорожит этим единством, он чувствует свою силу удесятеренной, утысячеренной этим драгоценным чувством единства со всем своим народом. (Шагинян 1949, 29)
Старая, мертвая, схоластическая логика врагов не позволяет им даже представить, что вживленная партийная совесть
заставляет признавать свою вину, свидетельствовать против себя. Против провинившегося применяются оргвыводы, но это не только нажим извне, сверху, со стороны – это просыпается и восстает изнутри, из глубины вживленный сменный модуль. Наши враги за рубежом не чувствуют в себе новый внутренний голос
, поэтому они не могут понять то, как у нас «виновные всенародно признают свою ошибки», например, осуждают себя самих за «формализм в музыке». Им незнакома наша первосцена: ходоки не просят о том, за чем пришли, так как в них проснулась совесть иного порядка
.
Возвращаясь к реплике, звучащей под занавес пьесы Сарояна, если бы ее произносил «окрыленный» ходок, то она звучала бы так: Он знает, где у нас что неладно, поэтому я виню только самого себя
.
* * *
Этическое слепое пятно, вынесенное вовне, персонифицированное в фигуре того или иного «самого человечного человека», совесть как сменный модуль, открытый для обновления и перепрошивки – это радикальное решение мучительного вопроса, каким из внутренних голосов я должен руководствоваться: совестью или как бы совестью
, А-совестью или Б-совестью. На смену дилеммы о статусе внутреннего голоса приходит «внешний внутренний голос», чей статус при этом вполне понятен. Совесть иного порядка
, новый внутренний голос
и не скрывают своего внешнего происхождения, что, впрочем, не мешает им оставаться «подобиями совести» в терминологии этой книги.
От двух до пятнадцати
Ученик остался в классе один и стал думать: «Двенадцать? За ночь? Порядка ста-ста двадцати».
(Рубинштейн [1986] 2015, 352, 360–361/Мамонов 2002)[12 - Поэма Льва Рубинштейна «Появление героя» была «перемикширована» (из нее были выбраны фрагменты, а затем перетасованы) Петром Мамоновым в треке «Ученичок», поэтому я считаю возможным говорить о двойном авторстве.]
Вслед за Толстым различать то, что люди часто считают за совесть
и «совесть как сознание духовного существа», вслед за толстым-4 различать коросту как бы проснувшейся совести
и «раз и навсегда проснувшуюся совесть», вслед за Мариэттой Шагинян различать прежнюю жалостливую, скорбную совесть
и «совесть иного порядка» или проводить любое другое различение такого рода – значит исходить из различия подлинной и неподлинной форм совести. Можно, конечно, заявить: бывает только один сорт совести – первый, он же и последний (подлинная совесть); а если совесть какого-то другого сорта, то это не совесть. Но это значило бы закрыть доступ к целой богатой области неподлинных подобий совести.
Если «сортов» несколько, то в некотором смысле трудно остановиться и не найти еще один тип, и еще один… Посмотрим, как нарастает снежный ком перечисления форм совести от двух до пятнадцати наименований. Будет ли это типология или классификация?[13 - Я благодарен Ивану Ёлшину, который обратил мое внимание на этот вопрос. Ближе всего к классификации приближается четырехчастная модель Бернарда Клервосского и анонимного трактата XII века «О четырех родах совести». Также в сторону классификации отчасти тяготеют модели, выбирающие в качестве основания степени (не-)уверенности и метафору сопротивления материалов. Остальные модели скорее представляют собой типологии без единого основания классификации.] Ответ зависит от того, говорим ли мы вслед за некоторыми авторами о «частях» совести или вслед за другими авторами о «родах» (или видах, или типах) совести.
I
Если исходить из того, что совесть одна и она в принципе не заблуждается («Совесть никогда не ошибается и не может ошибаться [irren]; ибо она […] сама есть судья всякого убеждения, но не признает никакого высшего судьи над собою» Фихте [1798] 2006, 187; Fichte 1835, 90), то тогда нет необходимости умножать типы заблуждающейся совести. Правда, в аргументе о том, что совесть не заблуждается потому, что она верховный судья и сама решает, что верно, а что ошибочно, – что-то неуловимо не так. В такой вечно правой совести есть что-то от лакановской невесты, которая всегда приходит на свидание вовремя, поскольку опоздав, она автоматически перестает быть невестой. Конечно, можно на уровне определений исключить возможность говорить о заблуждающейся совести, но не будет ли это игнорированием проблемы? Конечно, можно сказать: «Когда я хочу что-либо делать, мне стоит лишь обратиться за советом к самому себе: все, что я сознаю хорошим, хорошо; все, что я чувствую дурным, дурно; лучший из всех казуистов – совесть» (Руссо 1981, 341; Rousseau 1762, 60). Лучший из казуистов – совесть, только какая из них? Утверждая: совесть одна – а именно правильная (recta), мы тем самым избавляемся от проблемы ложных подобий совести.
Само различение подлинного и неподлинного запускает процесс деления. Если можно говорить о заблуждении совести, то их уже две: правильная совесть и совесть заблуждающаяся.
II
Где одна, там и две. Лютеранская версия берет за основу простое и лапидарное деление: «Закон творит глупую совесть, а Христос радостную счастливую совесть» (Luther 1522, 207)[14 - «Das gesetz macht eyn bl?de gewissen, Christus ein fr?hlichs seligs gewissen» (Luther [1522] 1870, 386).]. Деление (чего бы то ни было) на два типа: а) глупое, и б) радостно-счастливое – напоминает сразу все остроты о том, что все люди делятся на два типа. Тем не менее здесь проговаривается существенное разделение совести ригористско-буквалистской, бездумной (мы бы сказали: идущей на поводу у символических структур), и совести, улавливающей дух учения (феноменологический опыт).
Проблема, которая здесь возникает, напоминает трудности, которые мы встречали у Л. Н. Толстого и толстого-4: когда мы делим что-то на два, результаты деления могут «заражать» друг друга. В таком случае у нас на руках могут оказаться: а) глупая-глупая, б) глупая радостно-счастливая
, в) радостно-счастливая глупая
. Запомним эту первосцену: ходоки вживляют себе новую форму совести.
Не всем повезло получить прививку новой формы совести в кабинете «откуда видна вся страна» в оболочке специфической «сталинской ласки» (обращенного на них сверхчеловеческого знания и внимания, ободрения), но она переходит по цепочке от получивших: «Каждый из советских людей, получивший эту особую сталинскую ласку, передавал ее дальше – землякам, коллективу, широкому кругу друзей» (Шагинян 1949, 28).
Так чем же новый внутренний голос
отличается от «прежней, жалостливой скорбной совести»?
Мораль буржуазного мира докатилась до чудовищной формулы: «Нам нужны несчастные, чтобы в нас не умирала наша совесть». Эта формула как нельзя лучше служит капитализму, готовит нужные ему резервы поденщиков, рабов труда, отбирает и культивирует в них самые удобные для эксплоататора качества – униженность, безропотность, смирение. Вот какова веками складывавшаяся совесть в старом мире эксплоатации человека человеком. Лишь сбросив страшные, цепкие оковы такой совести, мог начать расти человек смелый, мужественный, хозяин земли, работник, преобразователь, покоритель природы. Наша новая совесть – совесть совершенно иного порядка. Ласка и доброта Сталина, забота, с какой партия Ленина-Сталина пестует человека, – эта ласка и забота поднимает, окрыляет того, на кого она направлена. (Шагинян 1949, 28)
Совесть совершенно иного порядка
возможна только, если сбросить веками складывавшиеся «страшные, цепкие оковы [старой формы] совести». Старая форма совести подпитывалась несчастьем поденщиков, рабов труда; новая форма совести растет вместе с уверенностью в себе, верой в светлое будущее и прочное народное счастье. Новая совесть трансформирует своего носителя: «черты народного характера преображаются под влиянием этой заботы и ласки; человек поднимает голову, смелеет, раскрывает свои внутренние силы; пропадает застенчивость, неуверенность в своих силах, перестает быть „стыдно“, „страшно“ – выступить, сделать, броситься в бой» (Шагинян 1949, 29). Совесть иного порядка
больше не строится по модели стыда; сама ее аффективная составляющая преображается. Жалостливой, униженной, безропотной и смиренной совести противопоставлена смелая совесть хозяина, преобразователя и покорителя. Она передается при помощи окрыляющей «ласки», полученной ходоками и сообщенной дальше по цепочке. Новая совесть – это партийная совесть, то есть коллективный опыт, олицетворенный одним человеком, но интроецированный миллионами:
Каждый свой успех и каждую свою ошибку советский человек рассматривает глазами миллионов родного народа, глазами требовательной своей совести. И в успехе, и в достижении, и в ошибке высокая норма нашей совести – сталинская требовательность к себе. Мы […] мерим себя не жалостливым аршином со скидками на человеческую слабость, а высокой, требовательной, основанной на великом уважении к человеку сталинской совестью. (Шагинян 1949, 29)
Новая форма совести – сталинская совесть
– синтезируется и внедряется глубоко во «внутренний мир» советского человека. Здесь возникает парадокс внешнего и внутреннего: внутри отдельных советских людей прорастает совесть, сформированная извне. Новоприобретенная совесть представляет собой внешний «орган» – это вынесенная вовне, за пределы отдельного человека способность суждения. Она заменяет «жалостливую, скорбную» совесть, как внешний сменный модуль. В самой идее вынесенной вовне, обновляемой совести есть нечто завораживающее.
Каждое свое действие носитель этой совести иного порядка
видит глазами миллионов; представим себе это фантазматическое фасеточное моральное гиперзрение. При этом носитель такой формы совести сверяет ее не со своим индивидуальным внутренним чувством, а с фантомом «сталинской требовательности к себе», то есть моральное чувство тоже вынесено вовне и олицетворено в Большом Другом. Миллионоглазая вынесенная вовне совесть, новый внутренний голос, сталинское строгое суждение о себе – совесть одновременно присутствует в регистре морального гиперзрения, обновленного внутреннего голоса и способности суждения «значимого Другого» (фантазматического строгого суждения, проживаемого как свое).
Разъясняя отличие совести иного порядка
от «старого привычного понимания совести», некая Мариэтта Шагинян приводит пример:
Несколько лет назад в Америке с большим успехом шла в театрах пьеса некоего Уильяма Сарояна, которую критики назвали «гвоздем сезона». Богатые американцы наслаждались этой пьесой, они открыто плакали во время действия и не стеснялись своих слез – наоборот, гордились ими. Пьеса «освежала» их – она показывала не гангстеров и не любовный конфликт, а изгнание семьи безработного из квартиры за невзнос платы. Это было трогательно, это было жалостно. Рабочий кротко выносил из квартиры свой скарб, а зрителей щекотали слезы умиления, слезы собственных добрых чувств. А пока эта пьеса шла на сценах театров, из сотен и сотен настоящих квартир в Америке изгонялись живые семьи безработных, которым нечем было платить за квартиру, и сотни и сотни фермеров везли по дорогам Америки свои тележки со скарбом из покинутых, разоренных гнезд. Это не трогало и не волновало, это было обычно, в этом не проявлялось необходимой кротости и смирения, наоборот – люди обнаруживали неприятные черты мрачного нежелания быть несчастными, скрытой готовности к возмущению. А для того, чтобы буржуа мог чувствовать доброту и жалость, жертвы капиталистического строя должны быть не только несчастны, но и кротки, смиренны в несчастье. (Шагинян 1949, 28)
Под это описание из произведений Сарояна, написанных до 1949 года, подходит только его первая поставленная на сцене пьеса «В горах мое сердце» (1939). Бен Александр, поэт, безуспешно пытается заработать на жизнь исключительно литературным трудом. Семья из трех человек чудом умудряется сводить концы с концами, но в итоге их все-таки выселяют из «дряхлого белого каркасного дома с верандой» (Сароян 1961, 118). Финальная сцена трагикомедии: Александр вместе с тещей и сыном уступают дом новым жильцам, уходят в ночь с одним чемоданом. Непризнанный поэт, который «не ищет работу», так как «работает вдвое больше, чем обыкновенные люди» над новой поэмой, гордо бросает в чемодан «стихи, книги, конверты, хлеб и кое-что из еды» (Сароян 1961, 124–125, 151); теща и сын уходят налегке. «Атлантический ежемесячник» отверг его «великолепные стихи», поэт пытается символически расплатиться с бакалейщиком этими стихами; возмущенный своей непризнанностью, он избавляется от всей своей мебели, широким жестом оставляя ее новым жильцам (Сароян 1961, 136–137, 139). Совесть иного порядка
трансформирует его в «рабочего, кротко выносящего из квартиры свой скарб». Моральное гиперзрение советского человека видит, как «из сотен и сотен настоящих квартир в Америке изгоняются живые семьи безработных, которым нечем платить за квартиру, и сотни и сотни фермеров везут по дорогам Америки свои тележки со скарбом из покинутых, разоренных гнезд» и не замечает комически-утрированную канву повествования, поэтическую стилизацию, а также того, что отец и сын (нынешний поэт и будущий драматург) – это, возможно, две проекции одного человека (Гудков 2018, 296).
Ударная (последняя) реплика пьесы звучит так:
Ты знаешь, папа, я никого не виню, но где-то что-то неладно (I’m not mentioning any names, Pa, but something’s wrong somewhere). (Сароян 1961, 151; Saroyan 1940, 104)
Персонаж пьесы, девятилетний мальчик, никого не винит именно для того, чтобы театральный зритель почувствовал смутную вину («the people are silent with awe and the knowledge that something is wrong»[11 - (Saroyan 1940, 99); «Люди благоговейно молчат и чувствуют, что где-то что-то неладно» (Сароян 1961, 148).]). В отличие от него советский человек хорошо знает, кого винить: капиталистический строй; он-то запросто может выйти на Красную площадь и крикнуть: «Долой Трумэна!» Но это априорное знание о том, кто виноват, играет с ним злую шутку: он сам оказывается выставлен на суд партийной совести
.
Бывает у нас, что советский человек совершает ошибку, наносит урон нашему развитию – все равно, в области ли хозяйства, или искусства, или науки. И тогда его осуждает советское общественное мнение, судит наша партийная совесть. Это – высокий суд, тяжелый для провинившегося. Наши враги за рубежом радостно подхватывают факты такого общественного осуждения и любят поиздеваться над тем, что у нас виновные всенародно признают свои ошибки. Старая, мертвая, схоластическая логика наших врагов не вмещает подлинного объяснения этого факта, она может объяснить его только действием нажима извне, сверху, со стороны. На самом же деле признание своей вины происходит в самом человеке, в глубоком внутреннем мире его совести, требовательно подходящей к себе. Ведь общий высокий идеал, каким живет наш советский народ, сплачивает всех нас в таком тесном единстве, как никогда раньше не было в истории человечества. И человек нового общества дорожит этим единством, он чувствует свою силу удесятеренной, утысячеренной этим драгоценным чувством единства со всем своим народом. (Шагинян 1949, 29)
Старая, мертвая, схоластическая логика врагов не позволяет им даже представить, что вживленная партийная совесть
заставляет признавать свою вину, свидетельствовать против себя. Против провинившегося применяются оргвыводы, но это не только нажим извне, сверху, со стороны – это просыпается и восстает изнутри, из глубины вживленный сменный модуль. Наши враги за рубежом не чувствуют в себе новый внутренний голос
, поэтому они не могут понять то, как у нас «виновные всенародно признают свою ошибки», например, осуждают себя самих за «формализм в музыке». Им незнакома наша первосцена: ходоки не просят о том, за чем пришли, так как в них проснулась совесть иного порядка
.
Возвращаясь к реплике, звучащей под занавес пьесы Сарояна, если бы ее произносил «окрыленный» ходок, то она звучала бы так: Он знает, где у нас что неладно, поэтому я виню только самого себя
.
* * *
Этическое слепое пятно, вынесенное вовне, персонифицированное в фигуре того или иного «самого человечного человека», совесть как сменный модуль, открытый для обновления и перепрошивки – это радикальное решение мучительного вопроса, каким из внутренних голосов я должен руководствоваться: совестью или как бы совестью
, А-совестью или Б-совестью. На смену дилеммы о статусе внутреннего голоса приходит «внешний внутренний голос», чей статус при этом вполне понятен. Совесть иного порядка
, новый внутренний голос
и не скрывают своего внешнего происхождения, что, впрочем, не мешает им оставаться «подобиями совести» в терминологии этой книги.
От двух до пятнадцати
Ученик остался в классе один и стал думать: «Двенадцать? За ночь? Порядка ста-ста двадцати».
(Рубинштейн [1986] 2015, 352, 360–361/Мамонов 2002)[12 - Поэма Льва Рубинштейна «Появление героя» была «перемикширована» (из нее были выбраны фрагменты, а затем перетасованы) Петром Мамоновым в треке «Ученичок», поэтому я считаю возможным говорить о двойном авторстве.]
Вслед за Толстым различать то, что люди часто считают за совесть
и «совесть как сознание духовного существа», вслед за толстым-4 различать коросту как бы проснувшейся совести
и «раз и навсегда проснувшуюся совесть», вслед за Мариэттой Шагинян различать прежнюю жалостливую, скорбную совесть
и «совесть иного порядка» или проводить любое другое различение такого рода – значит исходить из различия подлинной и неподлинной форм совести. Можно, конечно, заявить: бывает только один сорт совести – первый, он же и последний (подлинная совесть); а если совесть какого-то другого сорта, то это не совесть. Но это значило бы закрыть доступ к целой богатой области неподлинных подобий совести.
Если «сортов» несколько, то в некотором смысле трудно остановиться и не найти еще один тип, и еще один… Посмотрим, как нарастает снежный ком перечисления форм совести от двух до пятнадцати наименований. Будет ли это типология или классификация?[13 - Я благодарен Ивану Ёлшину, который обратил мое внимание на этот вопрос. Ближе всего к классификации приближается четырехчастная модель Бернарда Клервосского и анонимного трактата XII века «О четырех родах совести». Также в сторону классификации отчасти тяготеют модели, выбирающие в качестве основания степени (не-)уверенности и метафору сопротивления материалов. Остальные модели скорее представляют собой типологии без единого основания классификации.] Ответ зависит от того, говорим ли мы вслед за некоторыми авторами о «частях» совести или вслед за другими авторами о «родах» (или видах, или типах) совести.
I
Если исходить из того, что совесть одна и она в принципе не заблуждается («Совесть никогда не ошибается и не может ошибаться [irren]; ибо она […] сама есть судья всякого убеждения, но не признает никакого высшего судьи над собою» Фихте [1798] 2006, 187; Fichte 1835, 90), то тогда нет необходимости умножать типы заблуждающейся совести. Правда, в аргументе о том, что совесть не заблуждается потому, что она верховный судья и сама решает, что верно, а что ошибочно, – что-то неуловимо не так. В такой вечно правой совести есть что-то от лакановской невесты, которая всегда приходит на свидание вовремя, поскольку опоздав, она автоматически перестает быть невестой. Конечно, можно на уровне определений исключить возможность говорить о заблуждающейся совести, но не будет ли это игнорированием проблемы? Конечно, можно сказать: «Когда я хочу что-либо делать, мне стоит лишь обратиться за советом к самому себе: все, что я сознаю хорошим, хорошо; все, что я чувствую дурным, дурно; лучший из всех казуистов – совесть» (Руссо 1981, 341; Rousseau 1762, 60). Лучший из казуистов – совесть, только какая из них? Утверждая: совесть одна – а именно правильная (recta), мы тем самым избавляемся от проблемы ложных подобий совести.
Само различение подлинного и неподлинного запускает процесс деления. Если можно говорить о заблуждении совести, то их уже две: правильная совесть и совесть заблуждающаяся.
II
Где одна, там и две. Лютеранская версия берет за основу простое и лапидарное деление: «Закон творит глупую совесть, а Христос радостную счастливую совесть» (Luther 1522, 207)[14 - «Das gesetz macht eyn bl?de gewissen, Christus ein fr?hlichs seligs gewissen» (Luther [1522] 1870, 386).]. Деление (чего бы то ни было) на два типа: а) глупое, и б) радостно-счастливое – напоминает сразу все остроты о том, что все люди делятся на два типа. Тем не менее здесь проговаривается существенное разделение совести ригористско-буквалистской, бездумной (мы бы сказали: идущей на поводу у символических структур), и совести, улавливающей дух учения (феноменологический опыт).
Проблема, которая здесь возникает, напоминает трудности, которые мы встречали у Л. Н. Толстого и толстого-4: когда мы делим что-то на два, результаты деления могут «заражать» друг друга. В таком случае у нас на руках могут оказаться: а) глупая-глупая, б) глупая радостно-счастливая
, в) радостно-счастливая глупая