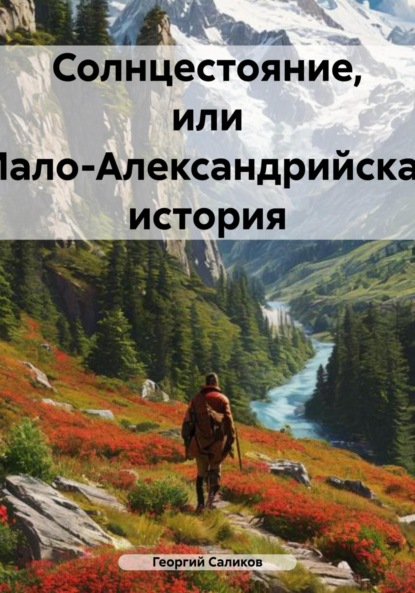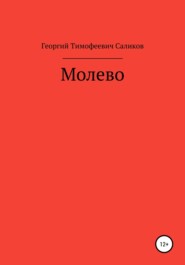По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Солнцестояние, или Мало-Александрийская история
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Георгий Тимофеевич Саликов
Исторические выкрутасы – по-видимому, так следует назвать жанр предлагаемого произведения. Здесь, пребывающие в действительности лица, страны, события, – переплетаются с авторским вымыслом, создавая причудливые происшествия.
Георгий Саликов
Солнцестояние, или Мало-Александрийская история
«Жизненный путь всегда ведёт от вехи до вехи. Вехи жизненности. Иначе путь не имеет смысла».
Синайский отшельник Тимофей.
День зимнего солнцестояния на склоне 1912 года заметно потеплел, накопив пасмурность. Моросящий дождик затуманивал собой статный собор и сочно утемнял гладкое булыжное мощение Исаакиевской площади, на которой ослепительной белизной выступили остатки снежных кучек, собранных ответственными дворниками в эдакие миниатюрные горные вершины. К полудню дождевой туманец улёгся, а на небесном куполе – сплошная серая гущина пасмурности постепенно стягивалась в отдельные сгустки, местами обнажая чистое небо. Всеобъемлющее черно-белое пространство насыщалось нечаянным скромным цветом.
И если сейчас вдруг захочется кому-нибудь кинуть взгляд вдоль Вознесенского проспекта, в тот же миг сквозь голубую щель меж поредевших бледно-фиолетовых облаков покажет себя низкое искроносное солнышко. Да в самый раз точно в арочном проёме колокольни Вознесенской церкви, проявляя на контражур очертания большого праздничного колокола. И внезапная радость, ярко пронзающая кожу, озарит лицо смотрящего, метко дополнив собою общее полотно городского пейзажа, набирающего цвет.
Похоже, так и случилось с юным немецким архитектором Людвигом Мисом, медленно и враскачку прохаживающим по широкому Синему мосту, движением выдавая некое отрицательное состояние духа. Он разглядывал здание, освобождаемое от лесов, сквозь оседающую пелену моросящего дождика на углу Большой Морской улицы, и его лицо копило сероватость презрения. Мог бы вообще не глядеть. А всё из-за того, что ему довелось поссориться с учителем и автором этого нового посольства Германии. Тот маститый немецкий зодчий Петер Беренс командировал его руководить строительством собственного лучшего проектного детища, предпочитая самому чем-то значимым заняться в Берлине. А когда, наконец, надоумил посетить стройплощадку и увидел почти завершённое воплощение проекта (статуи Диоскуров ещё не установили на крыше), сильно опечалился. Не узнал он там собственного авторства. Обвинил Миса в диком самоуправстве. Даже назвал «сопливым выскочкой», вполне оправдывающим его фамилию. «Сырой ты и есть сырой, и мою замечательную архитектуру важнейшего здания тоже превратил в нечто сырое, недопечённое». (Mies – сырой, в переводе с немецкого). Лицо ученика с накопленной на нём пасмурностью презрения резко, до хруста в шее увелось вбок от монументального здания, ставшего чуждым, которое не хотелось до конца освобождать от лесов, чтобы не видеть полной наготы обоюдной неудачи. «Сырой не хуже пережаренного», – поспешно думалось ему об учителе. В тот же миг солнце и появилось в облачной прогалине, придав глянцевой темноте мокрой мостовой острый блеск. Он круто развернул слегка перекошенное тело назад, выправляя шею, навстречу причине вдруг возникшего сполоха на булыжниках. И защурил глаза при падении на них россыпи золотистых лучей из чуть ли ни чудесного источника, обнимающего большой праздничный колокол в проёме колокольни. Будто знак с небес осенил его. Узкие глазные щёлочки загорелись, а уста вмиг растянулись широкой и довольной от радости улыбкой. Лицо обрело цвет.
– Хорошо, – сказал двадцатишестилетний архитектор в полный голос, – подумаешь, важнейшее здание, будет у меня кое-что поважнее.
С этой наскоро отточенной мыслью вслух, подобной скоропалительному блеску на взволнованной булыжником тёмно-серой мостовой Исаакиевской площади, молодой человек махнул обеими руками на манер успешного дирижёра, поднимающего музыкантов после выступления под восторженное рукоплескание публики. "Уф"! И бодро двинулся к пивному заведению в Новом переулке, чтобы там основательно подумать о будущем творчестве. За его спиной статный собор во всей своей полноте засверкал незатуманенным великолепием.
А в ту же пору, когда Людвиг живо шагал по Синему мосту вдоль Мариинского дворца, попутно выкристаллизовывая ближайшую творческую цель, там, в глубине бывшего зимнего сада, что за Помпейским залом, свершалось нечто поистине эпохальное. Состоялось экстренное заседание Совета министров по случаю представления Государем нового главы двух министерств…
Незадолго до того, российская разведка, опасаясь провала, вывела опытного агента В.И. Ульянова под конспиративным псевдонимом Ленин в местечко Поронин, что в Австро-Венгерской Галиции. Тот умел искусно выцеживать нужные сведения из, казалось бы, совершенно косвенных историй. Вместе с тем, исполняя конспиративную легенду и позиционируя себя революционным деятелем, даже ревностным лидером движения, направленного на уничтожение империализма, он почти не вызывал подозрений у французских, английских, германских, швейцарских и австро-венгерских спецслужб. Ну, скажите на милость: может ли быть лазутчиком человек, столь ненавидящий своё отечество во главе с деспотом самодержцем? Мало того, и подельники-бунтовщики не замечали истинного его служения. Конспирационный приём удался до полной безупречности. Даже слишком. Ульянов как натура увлекающаяся и вместе с тем действительно обладающий удивительно заострёнными предводительскими качествами, будто заразился, что ли, привитой к себе легендой. Он потаённо воспитывал внутри себя настоящего вождя, способного на сокрушительную власть. И довоспитался. Инкубационный период развития политического вируса находился уже близким к завершающей стадии. Вот-вот сила привитой заразы сможет-таки преодолеть иммунитет государственного служащего. «Что, если по-настоящему содеять эдакую революциюшку и стать главой нового государства»? – подумывал он каждую ночь перед сном. А затем ему грезились доподлинные революционные события, обязательно венчающиеся преславневшей победой, совмещённой со всенародным ликованием. Правда, тому не позволяли обязательства, подписанные им в клятве агента: «если же окажусь преступником против сей клятвы, – да подвергнусь без суда и добровольно строжайшему наказанию, яко клятвопреступник». Таковые обстоятельства усугублялись ещё и недавним получением личного дворянства. Иммунитет против бунтовщической инфекции пока оказывал сопротивление. Неуверенное. А тут австриякам удалось-таки раскусить российского разведчика ещё в Праге, когда он в «Новом немецком театре», якобы слушая «Евгения Онегина», на самом деле встречался с тайным агентом Германии, работавшим на российскую разведку. С арестом пока медлили. Следили за его перемещениями в Лейпциг, а оттуда в Краков. Там-то и ожидалось задержание. Но тот неожиданно уехал в Поронин. Экая промашка. А когда агентура Австро-Венгрии доложила начальству о накрытии его уже там, в тот же день Владимир Ильич прямо из-под носа австрияков успешно покинул уютное галицийское местечко да и саму «Лоскутную империю».
Вскоре после благополучного возвращения в столицу России, Ульянов немедленно был вызван к императору в Зимний дворец. Там, в Белой столовой его ждали также Коковцев Владимир Николаевич, Сазонов Сергей Дмитриевич, Макаров Александр Александрович и Сухомлинов Владимир Александрович. Иначе говоря, нынешний премьер и ключевые министры. Все сидели за длинным блестящим столом в стиле рококо и с заметной игрой на каждом лице в виде серебристо-золотистых отсветов от глади стола вперемежку с собственным оживлением. У стены на отдельных стульях того же стиля расположились ещё двое высокопоставленных чиновников с туповатой угрюмостью в глазах: Пётр Львович Барк и Борис Владимирович Штюрмер. Туда-сюда медленно прохаживался Григорий Распутин в неизменном крестьянском одеянии. Император дал слово министру внутренних дел Макарову. Тот кивнул головой в сторону Николая Второго, потом улыбнулся Владимиру Ильичу, приглашая его сесть со всеми за длинным столом. Пока ещё действующий агент скромно опустился у края. Министр на мгновение поднял брови. Ему припомнилось недавнее горькое происшествие, оцененное тогда однозначно положительным, а именно «ленский» расстрел. По-видимому, из-за созвучия с ним псевдонима приглашённого – Ленин. То было уничтожение бунтующих, к тому же, по его мнению, совершенно справедливое. А теперь министру предстоит огласить нечто полностью наоборот по отношению к пойманному им созвучию. Он сверкнул глазами и стал зачитывать записку, подготовленную канцелярией Совета министров специально для этой встречи. В ней говорилось о том, что господин Ульянов В.И. в течение многих лет, находясь в тайной командировке, успешно осиливал задания правительства, исполняя поручения от наших финансовых и промышленных ведомств. Получены ценные сведения о новшествах и планах на будущее в финансовой и промышленной сфере Франции, Англии, Швейцарии, Германии, Австро-Венгрии. Однако, используя вполне удачную легенду революционной деятельности, наведённой на свержение государственного устоя нашего отечества, и будто бы таясь от преследования, он слишком увлёкся этой параллельной работой и чуть ли не обернул конспиративную легенду в настоящую реальность. Правительство выражает по этому поводу беспокойство и озабоченность. Рекомендуется немедленно завершить карьеру его разведывательного и параллельного поприща. Докладчик сделал театральную паузу. Потом прочёл дальше, где комиссия предлагает Ульянову В.И. взамен более знаменательную и ответственную работу. А именно: получить один или даже два министерских портфеля. Поскольку наш агент специализировался на финансовой и промышленной разведке в ведущих странах Европы, предлагается дать ему в подчинение либо министерство финансов, либо министерство торговли и промышленности, либо оба вместе. Следует данное назначение обсудить и подготовить кандидата к полезному занятию. Срок подготовки будет зависеть от кандидата. К сему приложено ходатайство о получении им звания потомственного дворянина.
Ульянов, можно сказать, поначалу резко так опешил, но сходу оседлал неожиданную новость, взяв её за узды. Отнекиваться не посмел. Он действительно почувствовал себя на коне. Власть, которой он озаботился все последние ночи, сама отдавалась ему, пусть и не в полноте. «Вот тебе, батенька, и архистраннейшая оказия», – мысленно сказал он сам себе. Распутин, ходивший всё это время туда-сюда, скрипя сапогами да исполняя ладонями некий пассаж, остановился и выдал ими хлёсткую овацию. Барк и Штюрмер, до того безнадёжно предполагая собственное восхождение по служебной лестнице, вскочили со стульев, будто скрытые там пружины вытолкнули их, и почти слитно воскликнули, вонзая взор в любимца императрицы:
– Это твоя идея?
– Нет, не моя, – сказал тот, – я вообще выхожу в отставку.
И он действительно вышел, мягко захлопнув за собой дверь, словно махнул ею на прощание. После того во дворцах императорской фамилии его никто никогда не видел. Извольте полагать что угодно по явленному здесь поводу и сложившимся обстоятельствам. Но только, спустя четыре года, его тело нашли под едва схваченной льдом Фонтанки близ Обуховского моста…
А ещё раньше выпало нечто, значительно необычнее по неожиданности, нежели появление Распутина когда-то при Дворе. Чем-то похожее, но весьма недолгое. В одно погожее утро Зимний дворец посетил чисто одетый, но странный пожилой человек с обликом сельского аристократа. Никем не назвался, но смело, убедительным слогом заявил о способности излечить цесаревича. Его долго не пускали, несмотря на слишком назойливую настойчивость. Но вышло так, что нежданно вблизи показалась императрица и, заслышав речь посетителя, уловила там искренность, что побудило её немедленно согласиться выслушать непрошеного лекаря. Подробно. Тот добавил, будто может излечить не одного цесаревича, но и в целом наше царство-государство от болезни в её истории. Тогда его отвели в готическую библиотеку при кабинете царя. Глава империи повелел всем удалиться, и уединился с пришельцем почти на целый день. Длительный диалог с таинственным гостем прервался всего единожды, когда побывал там цесаревич. Потом, спустя несколько суток безотрывного бдения над мальчиком в его покоях, загадочный пришелец удалился, так и не назвав себя. А наследник престола выздоровел. В последствие выяснилось, что человек с обликом сельского аристократа подсказал императору также идею исторического выздоровления государства. Из длинного списка рекомендаций нам удалось выхватить лишь один пунктик: раздать главарям бунтовщиков высокие государственные должности. По-видимому, тот ошеломительный визит и оказался поводом для добровольной отставки всесильного и незаменимого Григория.
Тогда же в молодой молоканской семье молоканского села-колонии в горах Кавказа, куда раскольничий люд был задолго сослан из Пензенской губернии, родился мальчик. Точно на Пасху. Правда, не первое дитя. До того уже была девочка, названная Машей. Сие событие следовало бы отметить особо. И немедленно нашлось то, чем обозначить прибыток. Заложили фундамент нового дома. Изба, в которой ныне жила семья, ещё была довольно крепкой, хоть и давным-давно поставленной из дубовых брёвен первыми жизнеутверждающе настроенными поселенцами. Впрочем, иных деревьев, пригодных для стройматериалов, здесь поблизости не росло. Но тесновата избёнка, поскольку там вдобавок обитал шурин главы семейства. К тому же, сыну обязательно необходим собственный дом, пусть, как говорится, на потом. Новое жилище срубили тоже из дуба, закончив к концу года. И зимнее солнцестояние встретили уже в нём. Выпал первый снежок. Землю затвердил мороз. Но мелкая каменистая речка, змеевидно стелящаяся в низке села, да имеющая значительный порог, под которым стояла водяная мельница, не собиралась вставать из-за стремительного течения. Называлась она Козлу-чай, но, думаем, козлы к ней никакого отношения не имеют. Её ещё называют иначе: Кизил-чай, что в переводе с азербайджанского означает «Золотая река». Велась ли там добыча золота когда-нибудь, никто не помнит и нигде не написано, хотя, может быть, и поныне втайне кто-то так поступает, накапливая золотым песком пузатые бочонки под кроватью. Возможно иное происхождение здешней народной топонимики. Там, вдоль одного берега, создавая узорчатое обрамление реки-змеи подобно её сброшенной коже, обильно и густо растут низкорослые приземистые кусты кизила с прочными ветками и красно-золотистыми кисло-сладкими ягодами. Не станем гадать, где правда, и где ложь. А вот село своё у её берега местные жители упрямо называли именно «Кизилчай». То ли из-за исправленного названия речки, поскольку не хотелось быть причастными к козлам, то ли из-за установленного предками чаепития с кизиловым вареньем тайной готовки. Так или иначе, но все давно привыкли к такому названию поселения-колонии, и не думали о его происхождении. Надо сказать, чаепитие у молокан является непременным обрядовым действом. Никакая еда не может начаться до той поры, покуда не завершится неспешное принятие чая с густым красно-золотистым вареньем, из слипшихся ягод которого тщательно вытаскиваются продолговатые обоюдно-остренькие косточки. А вино у них было полностью не в чести. Кстати, они и водку, а также иные спиртные напитки называли тоже вином. Нехорошее созвучие, похожее на вину. Помимо исключительно эксклюзивной кизиловой снеди они также по-своему выращивали и квасили капусту. Её способ приготовления тоже держался скрытно от окрестного коренного населения. «Молоканская капуста» как никем не превзойдённая по вкусу и внешнему виду славилась на всём Кавказе среди людей любого происхождения.
Отец семейства, Павел, сын Василия Ивановича Ветрова, мельника, был крепкого телосложения, широк в кости, хотя ростом особо не выступал. Его умелым рукам поддавалась любая мужская работа. Но главным занятием считалось у него строительство домов и колодцев. Павел Васильевич именно по этой причине входил в состав небольшой построечной артели, где не так давно начал заправлять его шурин Тимофей, лет двадцати шести, сын Василия Харитоновича Лавренова, прежнего предводителя дружины строителей. Василий Харитонович, между прочим, обладал особо изысканной аристократической внешностью, выделяясь меж местного люда. «И откуда в нём такая стать»? – шептали селяне. Но не в том состояла его знаменитость. Слава его растекалась из-за виртуозного и универсального рукомесла. И до недавнего исчезновения служил он по совместительству бессменным пресвитером молитвенного дома, знающим почти наизусть весь Новый Завет. Были продолжительные перерывы в этом его деле, поскольку иногда он подрабатывал на стройках в городе Баку. Даже внёс и значительный вклад в строительство нового храма святого Александра Невского, самого величественного на всём юге Российской империи. Но об этом мало кто знал. Ходили слухи, будто Василий Харитонович крестился там в православную веру, будто подвигло его на такое решение каким-то неясным образом дошедшее до него важное слово святого Александра. Слово о защите и стойкости православия в отечестве, когда с двух сторон на него давили иноверцы. С одной – мусульмане, с другой – католики. И защитил. И отстоял. Однако в Кизилчае Василий Харитонович до конца, то есть до своего совершенно внезапного отъезда в неизвестное пространство, продолжал прежнюю общественную деятельность, читая наизусть отрывки из Евангелия в молитвенном доме. И тайно изучал какие-то иные умные книги, приобретённые в городе тоже скрытым путём.
А что касается быта, молокане во всех случаях предпочитали общий труд на манер изначальных христиан. Также и новый дом для родственной семьи возводился неизменно артелью, под скрупулезным руководством юного, но умелого Тимофея Васильевича, по его собственному проекту. В стиле сельского модерна. Дело спорилось ещё благодаря стройным негромким песням, сложенным в такой давности, что дух захватывало от глубины веков. А запевалой, конечно же, обозначался сам заправляющий. Голос его обладал мягким, но сильным тембром, а звуки попадали всегда точно в ноты, без малейшей фальши. Остальные артельщики старались поступать подобно ему, в силу собственных навыков. И дело шло. Слаженно возводимая конструкция здания имела тщательно выверенное соотношение частей и величин. Сначала в чертежах, потом в натуре. Тимофей каким-то неведомым внутренним чутьём отыскивал нужные гармоничные пропорции в плане и на фасадах, а также в декоративных деталях. И тоже, как в пении, без малейшей фальши. «Вот, – подшёптывали сельчане меж собой, оценивая новую избу, поставленную Тимофеем, – племянник, небось, тоже станет хорошим мастером, коль поселился сразу в таком красивом окружении собственного дома». Племянника, хоть и похожего на отца по части широкой кости, назвали в честь его дядьки – тоже Тимофеем. За новым предводителем артели и автором замечательной избы, Тимофеем Васильевичем Лавреновым закрепилось имя Дядька-Тимофей.
Следует заметить, этот молодой самодеятельный зодчий, по настоянию опытного отца, обладающего аристократической внешностью, был вовремя направлен в город Баку для учёбы в гимназии, будучи там под опекой одного знатного азербайджанского вельможи из числа его благодарных клиентов в области изготовления особняков и оснащения их интерьеров. Отец всегда крепко отстаивал всякое своё дело, и теперь приложил все старания, чтобы его сына взяли в престижное заведение. Им и стала Первая мужская гимназия имени императора Александра Третьего, расположенная на Мариинской улице, что параллельно Морской утыкается в только начатый обустраиваться будущий знаменитый Бульвар у моря. Заодно, гимназист обучался музыке вместе с дочкой опекуна в доме на Морской. Чаще всего он видел её в профиль, поскольку обычно сидел рядышком. Пряменький нос, длинные ресницы, плотно сжатые тонкие губы, высокий лоб, каштановые волосы, все в завитушках, но не способные скрыть слишком оттопыренное ухо. Как-то они в четыре руки пытались одолеть фа-минорную балладу Шопена, смеялись, видя, что ничего у них не получается, затем этими же четырьмя руками игриво захлопали в ладоши друг дружке. Знатный вельможа поглядывал за ними, чтоб слишком они не увлекались меж собой. Мало ли, влюбятся, потом беды не миновать. Но, к его счастью, обошлось. Хотя, кто знает? Для вельможи обошлось. И к счастью, ли. А для них? Затаилось что-то в детских сердцах. И взаимное ощущение некой внепространственной близости почти никогда не пропадало. И ожидание. Есть некое глубокое чувство ожидания чего-то весьма событийного. Когда произойдёт событие, совершенно неизвестно, однако будет оно. Непременно. Это ощущение ожидания иногда лишь веяло ветерком, порой будто отдавало тревогой, а то нестерпимо жгло. И забывалось тоже.
Окончив гимназию, опять же по настоянию отца, Тимофей умудрился даже поучиться в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. На архитектурном отделении. Правда, всего один год. Но протяжённость этого времени нанизала на себя столько впечатляющих событий в его жизни, что заменила бы собой целое десятилетие. Кстати, полная продолжительность обучения в Училище и составляла десять лет. Уроки живописи он брал у Кузьмы Петрова-Водкина. В ту пору, когда тот сам находился в усиленных размышлениях и поисках истинного значения цвета. Состояние наставника передавалось ученику настолько естественно, что и Тимофей окунулся в мир поиска. Вообще поиска. Вездесущего.
Он частенько заходил в зал, где стоял рояль. Поигрывал кое-что. Импровизировал. Однажды он увидел на нём кем-то оставленные ноты. Попробовал сыграть. «Похоже на Шопена, только значительно ярче и пронзительнее», – подумалось ему. Прочитал: «Александр Скрябин». Этот автор не был ему знаком, но он ощутил с ним некую близость в отношении ко всякому искусству, где выражена явная сквозистость и чувствуется стремление вверх. В эти же минуты совершенно случайно и будто незаметно неподалёку на стульчике сидел другой преподаватель живописи Леонид Пастернак. Тот внимательно вслушивался в игру юноши и затем подошёл к нему. «Вы первый раз сыграли сию вещицу»? – спросил он с оживлением. «Да, – ответил студент, – и сам впервые услышал». «Занятно. А я заметил точно ту же интонацию, что и в исполнении автора». Тимофей глянул на преподавателя с таким особым чувством, что тому ничего не оставалось, как почти машинально произнести: «Я вас к нему свожу. Ещё успеем».
И действительно, тем же вечером Тимофей оказался в квартире пока ещё таинственного для себя композитора на Большом Новопесковском переулке. Знакомство состоялось изумительно просто. Композитор был весел и непринуждён, почти сходу вовлекаясь в разговор о чём угодно. Глаза его выдавали какой-то необычайно выразительный глубинный блеск. Больше говорили об искусстве, перейдя конкретно о связи живописи и музыки. Так место и значение цвета, заботившие Петрова-Водкина и перепавшие в душу Тимофею, здесь обрели неожиданное развитие. Скрябин сообщил юноше о мистической связи того и другого, рассказав о своём видении первоначальных основ их взаимодействия. Как на уровне эмоциональном, так и на глубинном, да и чисто математическом, исходя из частотности. Можно ведь объединить звуки и цвет в некоем новом виде искусства, где музыка и живопись вместе создадут сильнейшее воздействие на душу человека. Тимофей жадно вслушивался в его слова, принимая их подобно собственным. Увлёкся ими, и в конце добавил от себя: «а ещё ведь можно поместить явление музыки вместе с цветом в некое особенное, может быть, одушевлённое архитектурное пространство». «Да, я об этом тоже думал, пусть будет единение удивительного взаимодействия всех видов искусств, включая поэзию, – поддержал его композитор, – в этом я вижу будущее истинного искусства, создающего грандиозный мир, наполненный духом творчества; будет всеохватывающая вселенская мистерия». Юношеский ум Тимофея теперь получил чрезвычайно сильный импульс для размышлений о мироздании вообще и всём, что там происходит. С кем ещё можно было так увлечённо поговорить о наполненности создания Божьего! Покидая поздно вечером обиталище всеобщей грандиозности, Тимофей попросился ещё раз посетить этот дом. Композитор был не против, но тут же спохватился, сказав, что скоро, фактически через день уезжает в Швейцарию, причём надолго. Юноша опечалился, но и был рад тому, что успел поучаствовать в беседе, выдающейся во всех смыслах.
Полученный здесь толчок повёл его дальше и дальше. А круг знакомств ширился и ширился. Он встречался с философами и поэтами, физиками и астрономами. Читал много литературы, да так, что научился мгновенно считывать текст целыми абзацами. И не пропускал ни одного часа занятий в своём Училище. При всем при том, неизвестно, что за сила вынудила его оставить учёбу. Либо собственная прихоть из-за авантюрного склада ума, либо отчислили его по причине принадлежности к раскольникам, а вероятно, по худому навету. Или вовсе произвелась банальная неуспеваемость из-за чрезмерного увлечения сразу многими занятиями помимо специальности. А, может быть, он решил, что уже обучился всему, что ему было надобно. Трудно понять. Одним словом: тайна.
Вернулся из Москвы, ничего не сказав. Несколько раз ездил в Баку на какой-нибудь попутной телеге, отправляющейся до Ярморочной площади, и высаживался на Мариинской. Осенью. Зимой. Весной. Ни с кем там не встречался. Гулял по любимым с детства улицам. Конечно же, сначала по родной Мариинской. Он следовал мимо гимназии с лёгким, но прерывистым вздохом. И вместе с набиранием воздуха в него будто проникали воспоминания какого-нибудь пустякового случая в её стенах. Доходил до угла Молоканской. Сворачивал в примкнувший к ней одноимённый садик. Посиживал на узорчатой скамейке, возле небольшого водоёма с фонтанчиком. С улыбкой наблюдал за суетливыми воробьями, скапливающимися в кучки да разлетающимися в разные стороны. Оттуда двигался до моря, усаживался на камешек и глядел на вялый прибой. Долго. Возвращался на многолюдную Торговую с двумя параллельными Пассажами. Непременно заглядывал в левый Пассаж, сплошь занятый книжными лавочками, останавливался у каждого развала, изыскивая новинки, и обязательно покупал одну-две книжки. Оттуда выходил на Кривую, где в створе одноимённого узкого переулка виднелась недавно посаженная раскидистая пальма в новом сквере, называемом «Парапет». То ли потому он так назывался, что его обрамляло низкое плоское ограждение, то ли это слово созвучно чему-то армянскому. Например, в Баку похожим армянским словом «карапет» называли низкорослых людей. А тут ещё с одной стороны «Парапета» возвышалась армянская церковь святого Григория Просветителя. Кто знает? В пока ещё полупустынный сквер не заходил, наверное, из-за шумной конки, обходящей его со всех сторон. Далее поднимался по улице Врангельской до Соборной площади с храмом Александра Невского, где неощутимо присутствовало тепло мастеровитых рук отца. Огибал величественное здание против часовой стрелки, будто совершая личный крестный ход. Впрочем, один раз он приезжал туда на Пасху, перед тем, как отметить годовщину рождения племянника и тёзки Тимофея. По окончании Крестного хода, люд стал христосоваться на Соборной площади. Там обычно собираются и бакинские мусульмане. Им нравится собор. Они называют его «Кизил-килисе», что в переводе «Золотой храм». К тому же они знают все христианские праздники. От Рождества до Николы Зимнего. Но особенно им по душе Пасха. Потому что можно свободно целоваться с незнакомыми девушками. Подходят к ним с возгласом «Христос воскрес»! И с восторгом целуются. Троекратно. И озаряются счастьем. Прекрасна эта пасхальная ночь в городе Баку! От Собора путь его вёл к старинной Крепости, где он блуждал по паутине узких улочек, порой забывая, где куда сворачивал, и едва выпутывался. И каждый раз ему в этом помогал случайный выход к стильному комплексу дворца Ширван-шахов, где причудливо переплетаются арочные галереи, порталы, изящные купола мечетей и бань, стройный минарет. Здесь он с не меньшим усердием изучал композиционные хитросплетения архитектурных пропорций восточного искусства. В целом и в деталях. А когда, иной раз, он с Мариинской завёртывал в другую сторону по Торговой улице, то оказывался на Морской, а следом и на Телефонной. Там, среди одноэтажных домов гордо возвышалась новая немецкая кирха. Многие здания на его любимых улицах были тоже совсем новыми, по большей части в стиле модерн или неоготики. Они обильно строились во времена его детства, и Тимофей помнил, как с любопытством следил за ходом строительства, внимательно вчитываясь в их стилистику, и что-то особо отмечал, закладывая в глубины памяти. На Телефонной, почти полностью занятой рельсами, он садился в конку и доезжал до Ярморочной площади, откуда была возможность вернуться в Кизилчай на попутной телеге.
Однажды, во время очередной прогулки по исхоженным улицам, он случайно увидел ту девочку, повзрослевшую дочку его опекуна, знатного вельможи. На Телефонной, возле немецкой кирхи. Оттуда слышались звуки органа, а вместе с ними исходил и немецкий дух, столь же неощутимый, как и тепло рук отца от храма Александра Невского. Она приостановилась, повернула голову в сторону кирхи, обратив к Тимофею свой привычный ему профиль. Тот же пряменький нос, плотно сжатые тонкие губы, высокий лоб, каштановые волосы в завитушках, оттопыренное ухо. Глядела вверх на шпиль, и прислушивалась к едва слышимой хоральной прелюдии Баха. И ни одной шумной конки не появлялось ни с одной, ни с другой стороны. Тимофей тоже застыл на месте. То ли от неожиданности, остро кольнувшей в сердце, то ли от музыки вечности, отменяющей всякий временной ход. Но не окликнул её. Когда она двинулась дальше, он прошёл за ней, побаиваясь, не оглянется ли. Потом снова остановился и проводил её взглядом до исчезновения в толпе прохожих или за поворотом на Ярмарочную площадь. Может быть, стоит догнать её, опередить и развернуться лицом к лицу? Нет. Выйдет какая-то нелепица. А нарочно зайти в почти родной ему дом на Морской он не то, чтобы не решался, мысль такая мгновенно сама ускальзывала.
После того случайного происшествия он перестал ездить в город светлого детства. На много лет. Более того, он женился на девушке из соседнего молоканского поселения. Дело в том, что молокане заключали браки исключительно в кругу собственной конфессии.
Тогда же, отец, Василий Харитонович, как всегда, зная и отстаивая своё дело, передал ему должность предводителя артели, а сам для всех неожиданно покинул семью, село, Кавказ, облачился в достойного вида чистую одежду и двинулся странствовать, следуя внезапному позыву сердца на дела поважнее. Будто сила нераспознанного вселенского разума овладела им и повела в необходимое русло истории. Больше его никто никогда в Кизилчае не видел.
А Василий Иванович Ветров продолжал своё дело мельника. Сама мельница находилась на крутом изгибе речки, укрываясь от села высоким скалистым утёсом, что создавало притягательное воздействие для сельчан. Там, под сенью диких грушевых деревьев всегда бывало уютно и вдохновенно. Причём, сельчане приходили туда не только посидеть в созерцании, но и послушать исторические рассказы Василия Ивановича, что он с удовольствием сотворял.
– Раньше, как вы сами знаете, отцы наши жили в Чембаре, это в Пензенской губернии. Село называлось по имени реки, подобно здешнему, нашему. Тоже нерусское название, доставшееся нам, как говорят, от Волжских булгар. Но никого это не смущало. Хоть и прибыли туда их предки из Суздальщины. Видите, сместились на юг по неизвестной нам причине. А вот отцы наши, из Чембара ещё южнее оказались. Тут. Наверно, таким направлением наш путь уготован безразличной судьбой. Это факт. Потомки, наверное, подадутся дальше на юг. Интересно, куда?
Рассказчик глянул на сидящих поодаль молодых людей. На сына Павла и на дружка его Дядьку-Тимофея. Хмыкнул загадочно и продолжил.
– Но я не о том хотел рассказать. Рядышком, в верстах пятнадцати ещё были Тарханы. Село поменьше, но зато в нём усадьба красивая. С живописными прудами, ухоженным парком. Дед мой, Силантий Никитич, царство ему небесное, частенько туда наезжал по молодости. Приспичило ему влюбиться в Машу Арсеньеву, дочку помещицы Елизаветы Алексеевны, хозяйки усадьбы. Ох и угораздило его! Крепость его любви была непреодолимой. Выходил к ней навстречу в парке по Липовой аллее, оба останавливались, и он вглядывался в её глаза проникновенной красоты, словно вбирая их в себя, в свои глаза, оставляя на них будто печать, что ли. Недолго. Молча. И быстро уходил. Но порой их встречи оказывались более продолжительными. Может быть, даже беседовали они. Только вот взгляд глаза в глаза всегда случался с особенным усердием. Будто действительно печать какая снималась с глаз Маши и оставляла свой несмываемый след на глазах Силантия. Елизавета Алексеевна, женщина дюже властная, узнавая, что он поджидает дочь на Липовой алле, посылала туда кучера, чтоб прогнать его. «Плетью, плетью гони»! Но Силантия это не пугало. Он вообще был человеком бесстрашным с тех пор, как влюбился. Маша, Мария Михайловна, её образ для него был подобен хоругви, с которой витязи идут в бой ради защиты всего самого сокровенного. Та была девушкой очень доброй, и всякий раз корила свою мать за столь жестокое обращение с парнишкой из Чембара. «Ты ведь даже со своими крепостными так не поступаешь, а он человек вольный». Елизавета Алексеевна посмеивалась. «Он, может быть, и вольный, но ты моя, моя дочь». Снова и снова она звала кучера. «Плетью его, плетью»! Потом появился какой-то Юрка. Так называл его дед. Того кучер кнутом не гнал, но мать Маши и его тоже не возлюбила. Дед мой, Силантий будто похихикивал над Юркой, ну не в лицо, потому что и не встречался с ним никогда, а так, чтоб себя успокоить. Но его явно несбыточные надежды на союз с любимой девушкой окончательно рухнули, когда Маша вдруг вышла замуж за этого нелюбимца её матери. Но то были именно надежды, которые, как говорят, умирают последними. Возможно, действительно умирают. И поистине уходят последними из всего того, чего касаются желания. Однако только не любовь. Она-то не гибнет вообще никогда. Она выше всякого желания. Её крепость у Силантия лишь набирала ещё большую силу и отбрасывала прочь любое посягательство. И Машины глаза. Их ясные черты навсегда поселились в его глазах. Там они слились воедино.
Василий Иванович то ли нарочно не называл фамилии того заезжего человека, то ли говорил загадкой. Догадаетесь, мол, сами, если грамотные да просвещённые. В очах его легонько играла искра хитрецы.
– А когда у них родился сын Миша, похожий на свою мать, дед и сам женился. Так ему посоветовали умные люди. Женись, мол, и всё пройдёт, уляжется. И детишки свои выведут тебя к новой жизни вместе с новой любовью. Ждать пришлось недолго. Из Тамбова привезли ему невесту. Хорошую, добрую, покладистую. Так в нашу родню влились новые родственники. Они же оказались и новыми христианами, только что принявшими молоканскую веру. В Тамбове она возникла. Модное в ту пору течение. Потихоньку тамбовчане увлекли весь Чембар своим привлекательным и соблазнительным вероисповеданием. Уж больно убедительными были их речи. Умные были проповедники. Местный поп, хоть тоже не дурак и не менее просвещённый, не очень-то противился. Не выдержал, так сказать, конкуренции по силе убеждения. Его паства уменьшилась, а последователи молокан множились как на дрожжах. Так и мы стали приверженцами нового понимания христианства. Угораздило нас. За то потом и поплатились по-полной. Эх. Да, бессердечно поплатились. Выслали нас куда подальше. То есть, как видите, сюда. В чужие края. Отлучили от родины. Хе-хе. Вот что, друзья мои, в конце концов, делает нереализованная любовь! Наикрепчайшая и непреодолимая, но безнадёжная. Вот её дальнейшие последствия. Хоть и, как говорится, косвенные. Правда, как я понимаю, ничего косвенного вообще не бывает. Всё – в единой связке… Ну, детишки у тамбовчанки действительно появились. И вышел на свет Божий мой отец, Иван Силантич. Ванечка. Были и другие, но померли, царство им небесное. А когда Ваня чуть-чуть подрос, Елизавета Алексеевна, помня деда моего, повелела как-то раз тому же кучеру, который с хлыстом, привезти их обоих в Тарханы. Без посредства орудия понуждения. Ласково привезти. Задумала она погулять вместе с ним и детьми в парке. И походить по уж очень знакомой Силантию Липовой аллее. Маша-то, к тому времени умерла. Вот оно как. Возможно, приглашение тогдашнее чем-то могло успокоить её тягостное и не рубцующееся горе. Добрые дела всегда помогают осадить отчаяние. Подумала, пусть мальчишки подружатся меж собой, коли не вышло ничего у их родителей. Тогда и познакомились два малыша. Ваня и Миша. Такие дела. Встречались они редко, но с большой охотой проводили время этих встреч. Сначала вместе со взрослыми, затем самостоятельно. И здесь, на Кавказе оказались в один и тот же год. По решению императора Николая Первого. Жёсткий был царь. Он ведь декабристов даже повесил. Да. Правда, Мишу сослали на Северный Кавказ, а батюшку моего на Южный, то есть, сюда. Отец говорил, будто видел Мишу в Пятигорске. Издалека. В последний раз. Убили Мишу там. Так жёсткость царя отозвалась жутким эхом. Тоже косвенно ли? Нетушки. Всё – в единой связке… Не оставил Миша никого из наследников. Только бабушку свою, Елизавету Алексеевну, совсем одинокую. А Ваня? Да вот он я, перед вами. Василий Иванович. И дочку свою, первое дитя назвал в честь незабвенной возлюбленной деда моего – Марией…
Василий Иванович возвысил голос и обратил его к своему племяннику Дядьке-Тимофею, весело о чём-то шепчущегося с Павлом:
– А знаешь, Тимка, годков у Миши тогда было всего столько же, сколько тебе теперь!
Между тем, после недолгого совещания у Императора, Ульянову дали возможность стажироваться в обоих министерствах столько, сколько необходимо для окончательного решения. Так, в полдень зимнего солнцестояния он, уже будучи потомственным дворянином, был представлен Совмину в качестве нового министра в Мариинском дворце, когда Людвиг Мис проходил мимо, гадая личную впечатляющую думу.
Много кому на Земле приходили мысли о предстоящих крупных и скромных делах на созидательном поприще. Выстраивались планы самых привлекательных событийных цепочек. Но история выказала выверт.
Началась Мировая война. Воспринимается это словосочетание немного диковинно, поскольку совмещает мир и войну в нечто целое. Ныне оно странновато, поскольку написание слова мир – воспринимается двояко. Означает оно обитание, а также имеет значение покоя, то есть, не войны. Раньше, в прежней орфографии эти слова писались не одинаково. Первое, – «мiръ», второе, – «миръ». Так что началась именно «Мiровая» война. Мир людей вскипел до ярости. Тогда же мобилизация застигла молокан врасплох. Дело в том, что они свято чтили заповедь «не убий», не участвуя не только в побоищах и битвах, но даже в драках и потасовках. Государство, отправляя их в ссылку на Кавказ ещё в первой половине девятнадцатого века, долгое время потворствовало тому, позволяло не служить в армии. Однако срок привилегий давно истёк, и они оказались как все. Заезжий властный чиновник не замедлил прибыть и составил список всех мужчин-сельчан, повелевая им явиться назавтра в призывной пункт города Шемахи. Те покорно подчинились. В том числе Павел Ветров и Дядька-Тимофей. Выстроились в очередь к столу регистрации. Дядька-Тимофей заметил там и своего тестя из соседнего села. Он уже отметился и отошёл к сторонке, шумно вздохнув. Туда же вдруг спешно примчались встревоженные кизилчайские женщины, и наперебой стали тянуть Дядьку-Тимофея за рукава, заодно убедительно умолять военкома о временной его отлучке. Начались, мол, внезапные роды его жены, пусть, мол, увидит своё дитя напоследок, а там уж и воевать будет охотнее. И тесть его тоже вступился издалека, но молча. Лишь моргал и кивал головой. Военком глянул на внезапного будущего отца, и согласительно кивнул головой наподобие тестя, но ни разу не моргнул и не удосужился сверить его со списком, составленным властным чиновником. А когда, после благополучного выхода дочки на свет Божий, вдохновлённый молодой отец послушно вернулся в Шемаху, призывной пункт уже пустовал. Все уехали вместе с начальником пункта. Только одна женщина сидела за столом, перебирая бумаги. «Что мне делать»? – спросил он у неё. «А ты кто будешь»? Тот назвался. Она внимательно и с помощью пальчика перечитала имена в копии списка. «Да тут тебя нет». Дядька-Тимофей проделал то же самое и убедился в отсутствии собственного имени в списке призывников.
Потом, у себя дома, оставаясь без товарищей-артельщиков, ушедших на войну, ждал он, ждал, когда за ним всё-таки заедет военное начальство. Ан тщетно И, наконец, почувствовав себя всеми брошенным, подвязался помощником к мельнику пожилых лет, Василию Ивановичу Ветрову, продолжая соблюдать уже будто навязанную святую заповедь.
А у Павла Васильевича, неведомо воюющего с немцами, тоже вышел ещё ребёночек. Снова мальчик. Назвали Ваней, в честь прадеда. Новый дом ставить новому племяннику мастер пока не задумывал. Ему не давала покоя мысль о том, что он будто бы угодил в невольное дезертирство.
Впрочем, представитель противоположного войска, немец Людвиг Мис, добавивший к себе фамилию матери по голландскому обычаю «ван дер Роэ», в некотором роде коллега Дядьки-Тимофея, и ровесник, хотя вовсе не молоканин, от боевых действий тоже счастливым манером уклонился, несмотря на то, что был рядовым солдатом на Румынском фронте. А данное обстоятельство по всем правилам классической драматургии означало бы непременную встречу в штыки с Дядькой-Тимофеем, если б не сталась чудная оказия с забывчивостью военных чиновников. Но таковая стычка, волею судеб или провидения – отодвинулась на полвека. Совсем по иному поводу и в иносказательном смысле.
В свою очередь, Владимир Ульянов тоже поначалу не приветствовал возникшее положение дел в великом противостоянии великих держав. У него только-только наладились финансовые и промышленные связи с германскими магнатами, сулящие экономические успехи в отечестве. И вот тебе на, следует всё переиначивать уже внутри страны, более того, переводить экономику на военные рельсы. Но, крепко подумав, он вдруг вспомнил вынужденную будто революционную деятельность, наведённую как бы на государственное переустройство, вспомнил собственную, народившуюся в этой связи теорию, навеянную идеями Маркса. Ба! Ведь выпал пренепременный архисчастливый случай! Да. Прикрываясь военной ситуацией, можно сильно подоить ненавистную буржуазию. Оправданно подоить. Помещиков тоже. Конечно. Фабрики – рабочим, землю – крестьянам! Так-так-так-так. Церковь заодно принудим делиться. Ведь Пётр Великий когда-то велел переплавлять колокола в пушки! Ум вскипел. Уединившись в кабинете, упруго сунув большой палец левой руки под жилетку, Владимир Ильич долго сновал туда-сюда вдоль алого половика. Проделалась титаническая мыслительная работа. «Ну-ка, ну-ка, голубчики мои». В итоге он придумал новую промышленно-финансовую систему, дающую максимальный эффект в условиях войны. Вызвал «голубчиков»: знатных промышленников, помещиков, священников. На этом известном совещании, где подолгу не переставали выдаваться немалые стычки и разногласия, в конце концов, удался великий компромисс между всеми членами собрания во имя победы в войне. Среди множества налаженных хитросплетений во всяческих взаимоотношениях различных интересов всех задействованных сторон – почти молниеносно создалось несколько наиболее выделяющихся новшеств. Это особые акционерные общества (ОАО), где каждый рабочий наряду с владельцем предприятия получил свою долю акций, став коллективным собственником. «Фабрики – рабочим»! Батраки и безземельные крестьяне получили свои доли на помещичьих землях, создавая земельные ОАО. «Землю – крестьянам»! Возник небывалый энтузиазм у трудящихся масс. Предприниматели отточили самые простые схемы инвестиций и взаимопоставок продукции, не думая о собственной прибыли. Банкиры, преодолев собственную алчность, ввели облегчённое, хоть и рискованное кредитование. Священники добровольно пожертвовали ценной церковной утварью ради производства оружия, а сами двинулись на фронты словом Божьим вдохновлять солдат на подвиги. Видя такие дела, настоящие самые идейные и самые активные революционеры почти все как один записывались на образованные большевиками диверсионные курсы, а затем отправлялись в решительный бой, создавая безжалостный террор среди противника в его тылу. Сложилась своеобразная партизанская война, когда врагу учиняли урон на всех землях, коими он владел на данный момент. Лев Троцкий, соратник Ленина в конспиративной легенде, по-настоящему мечтавший о мировой революции, тоже вдохновился немало. «Победим в войне, одолеем всю Европу, да наладим в ней истинно социалистические порядки». Он уже угадывал в особых акционерных обществах крепкую основу коллективной собственности, которую доступно видоизменить в особую собственность всей страны, дальше охватить целиком Европу, а там уж весь мир станет таковым. Особым. Император, помня совет странного человека, излечившего цесаревича, назначил Троцкого военным министром. Тот, имея могущественный талант организатора и оратора, ополчал воинов исключительно на победу во имя великого и справедливого будущего для всего человечества. Иосиф Джугашвили, ещё в 1912-м году рекомендованный Ульяновым на разведывательное поприще под псевдонимом Сталин, успешно поднялся по карьерной лестнице и беспрепятственно подошёл к должности министра иностранных дел. Он охотно принял такое предложение царя, имея давно уготованные цели к склонению властей союзников на всепобеждающие социалистические настроения.
Дядька-Тимофей, мучаясь мыслью о вынужденном как бы дезертирстве в течение всей зимы, сам отправился добровольцем на фронт. Благо, не столь далеко, а почти рядышком, на турецкий, где русские войска существенно выдвинулись в необозримые дали неприятельских земель. Участвуя в передовых войсках, он увидел пред собой величественную изумрудно-ультрамариновую гладь озера Ван с его обрамлением из седых горных вершин, и одинокую армянскую церковь, чудом оставшуюся целой почти в центре Османской империи с её исламскими ценностями. Мысленно возник бакинский «Папапет» с тамошней армянской церковью, проявились все собственные прогулки по любимым бакинским улицам, отчётливо предстала единственная встреча «инкогнито» на Телефонной. И профиль той повзрослевшей девочки из детства сам собой проступил сквозь рисунок дальних скал: прямой нос, тонкие губы, высокий лоб, волосы в завитушках, оттопыренное ухо. А когда наступление пустилось дальше на запад, разветвляясь на два фланга, северный и южный, он влился в южное направление. После довольно долгой осады, был взят наиболее укреплённый Искендерун, ключ к Средиземному морю. Здесь его подразделение обосновалось в качестве оккупационного, приняв роль военной полиции. Город получил исконное название Александрия при Иссе, но позже, чтобы сократить его и не спутать с тёзкой в Египте, удалили слова «при Иссе», но добавили слово «Малая». Дядьке-Тимофею эта Малая Александрия пришлась по вкусу. В нём даже ненадолго залегло не слишком познаваемое предчувствие. Слабое, мягкое, но в чём-то настойчивое. Несколько дней подряд, блуждая по его улицам и окрестностям, он ощущал далёкое-далёкое предвестие чего-то знаменательного именно здесь, но в каком-то неясном будущем. Потом, правда, оно отошло, улеглось, позабылось.
А фронт свернул дальше к югу, удалился аж до Палестины, куда к берегам подтянулся и флот. Выходили там-сям, то и дело, смычки с английскими союзническими войсками, идущими из Месопотамии на запад. Произвольно создавалась некая стихийная линия раздела земель Османской империи между обоими союзниками. Англичанам, конечно же, не нравилась такая стихия и такая линия, поскольку они возжелали сами выйти к Палестине, да поглотить её. Но не успели это сделать раньше русских. Ни пехотой, ни флотом. И жгучая, тяжкая досада точила их, не давая внешнеполитического покоя.
Кизилчайские женщины получали весточки с фронтов от мужей и отцов. Жена Дядьки-Тимофея вслух читала приходящие письма своей маленькой дочке. «Скоро увидишь папочку, – поговаривала она всякий раз по прочтении очередного послания, пахнувшего порохом. – И дедушку». Она укладывала их в изящную шкатулку из дуба с медной инкрустацией, подаренную мужем в день свадьбы. Затем поглаживала выпуклую крышку. Весточки были скупыми. О том, что живы, здоровы. Отец ещё писал, что встретил замечательного офицера, грамотно выстраивающего всякую диспозицию. Тот оказался тоже из местных, из Баку. Знатный вельможа, имеющий все основания не воевать, но добровольно ушёл на фронт, оставив дома единственную и очаровательную дочь. Он заметно сильно скучал по ней, без конца рассказывая о её достоинствах, но всякий раз недоумевая, почему она ни в какую не желает выходить замуж. Жена Дядьки-Тимофея по этому поводу покачивала головой, охала и сжимала губы. От Павла, воюющего неведомо где, писем не приходило ни одного, с начала войны.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: