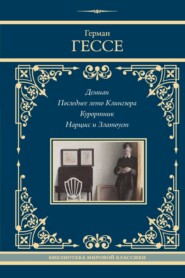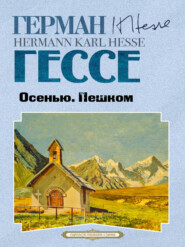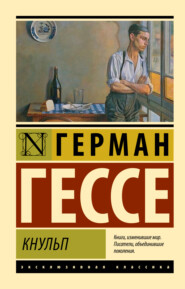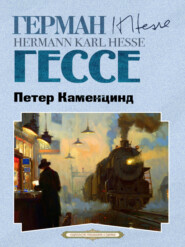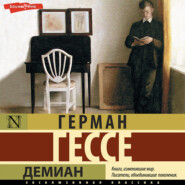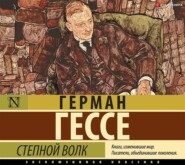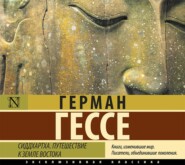По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Кнульп. Демиан. Последнее лето Клингзора. Душа ребенка. Клейн и Вагнер. Сиддхартха
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Этого зовут Энгельберт Ауэр, прожил он больше шести десятков лет. Зато и лежит теперь под резедою, под прелестными цветами, и ему там покойно. Я бы тоже не прочь лежать под резедою, а пока что прихвачу одну из здешних с собой.
– Не стоит, – сказал я, – возьми что-нибудь другое, резеда быстро вянет.
Он, однако, сорвал резеду и украсил ею шляпу, которая лежала рядом на траве.
– Какая здесь дивная тишина! – сказал я.
– В самом деле, – отозвался он. – А будь еще немного тише, мы бы, пожалуй, могли услышать беседу тех, что под землею.
– Да нет, они уже отговорили свое.
– Как знать? Поди, не зря сказывают, что смерть – это сон, а во сне люди часто разговаривают и даже поют.
– С тебя станется.
– Почему бы и нет? Будь я покойником, я бы дождался, когда в воскресный день сюда придут девушки и станут срывать с могилы цветочки, и тогда бы тихонько запел.
– Да, и что же?
– Как что? Песню какую-нибудь.
Кнульп улегся на траву, закрыл глаза и немного погодя тихим, детским голосом запел:
Раз умер я в юности,
Спойте, девы,
Прощальный куплет.
Когда я обратно вернусь,
Когда я обратно вернусь,
То красавцем во цвете лет[7 - Перевод Э. Венгеровой.].
Я невольно засмеялся, хотя песенка мне понравилась. Пел он красиво и нежно, и пусть даже смысл порой расплывался, приятная мелодия все скрашивала.
– Кнульп, – сказал я, – не сули девушкам слишком много, иначе они быстро перестанут тебя слушать. Насчет возвращения еще куда ни шло, хоть никому это в точности не ведомо, а уж что ты вдобавок красавцем будешь, вовсе на воде вилами писано.
– Не спорю, оно конечно. Но мне было бы приятно. Помнишь, позавчера нам повстречался мальчонка с коровой, у которого мы спросили дорогу? Я бы с радостью опять стал таким. А ты нет?
– Я? Нет. Когда-то я знавал одного старика, ему было, пожалуй, за семьдесят, и взгляд у него был добрый такой, спокойный, мне казалось, будто все в нем лишь доброта, мудрость и покой. И с тех пор я иной раз думаю, что хотел бы стать как он.
– Ну, для этого тебе пока годков недостает, знаешь ли. И вообще, странная штука – желания. Кабы вот сию минуту я, кивнув, мог тотчас сделаться пригожим мальчуганом, а ты, кивнув, – почтенным добрым стариканом, то ни один из нас не стал бы кивать. Мы бы охотно остались такими, как есть.
– Что правда, то правда.
– А как же. Да и вообще. Часто я думаю: самое прекрасное, самое расчудесное на свете – стройная юная девушка с белокурыми волосами. Однако это неправда, ведь нередко видишь, что брюнетка пожалуй что еще краше. Вдобавок, вот как сейчас, мне думается иначе: все-таки самое прекрасное, самое расчудесное на свете – красивая птица, когда видишь ее вольно парящей в небесной вышине. А в другой раз нет ничего удивительнее мотылька, белого, например, с красными крапинками на крылышках, или вечернего солнечного зарева в облаках, когда все сияет, но глаз не слепит и выглядит так радостно и безгрешно.
– Твоя правда, Кнульп. Ведь все прекрасно, когда смотришь в добрый час.
– Да. Однако, по-моему, тут есть кое-что еще. По-моему, глядя на самое прекрасное, всегда испытываешь не только удовольствие, но вдобавок печаль или страх.
– Это как же?
– Я вот так разумею: вполне пригожую девушку сочли бы, верно, не столь уж красивой, если б не знали, что сейчас она в самой поре, а потом состарится и умрет. Коли бы красивое вовеки оставалось одинаковым, я бы, пожалуй, порадовался, однако со временем стал бы смотреть холоднее, равнодушнее и думать: можно и не сегодня поглядеть, всегда успеется. Зато на бренное, на то, что не может оставаться одинаковым, я смотрю не просто с радостью, но и с сочувствием.
– А-а, ну да.
– Потому-то нет для меня ничего прекраснее ночного фейерверка. Тогда в воздух летят ракеты, синие и зеленые, поднимаются высоко во тьму и, как раз когда они краше всего, описывают небольшую дугу и гаснут. Наблюдая за этим зрелищем, радуешься и в то же время боишься: вот сейчас все кончится! Это взаимосвязано и куда прекраснее, чем если бы все продолжалось дольше. Согласен?
– Пожалуй. Но применимо опять-таки не ко всему.
– Отчего же?
– Например, если двое любят друг друга и женятся или если два человека заключают дружбу, это как раз оттого и прекрасно, что не кончится сей же час, а продлится долго.
Кнульп пристально посмотрел на меня, потом, взмахнув черными ресницами, задумчиво проговорил:
– Верно. Но и этому приходит конец, как и всему. Многое может погубить дружбу, да и любовь тоже.
– Конечно, только ведь никто об этом не думает, пока оно не случится.
– Не знаю… Видишь ли, я в жизни любил дважды, в смысле по-настоящему, и оба раза твердо верил, что любовь у меня навсегда и перестанет лишь со смертью, но оба раза все кончилось, а я не умер. И друг у меня тоже был, еще дома, в родном городе, и я никак не думал, что жизнь разведет нас в разные стороны. Тем не менее, мы разошлись, и уже давно.
Он умолк, а мне сказать было нечего. Я покамест не изведал горькой муки, неизбежно таящейся в человеческих взаимоотношениях, не узнал покамест, что меж двумя людьми, сколь бы тесно они ни были связаны друг с другом, всегда зияет пропасть, и только любовь способна перекинуть через нее утлый мостик, да и то лишь изредка и ненадолго. Размышлял я о давешних словах моего товарища, из которых мне больше всего пришлись по сердцу рассуждения о фейерверках, ведь я и сам порой испытывал сходные чувства. Безмолвно манящие цветные огни, взмывающие во тьму и слишком скоро в ней тонущие, представлялись мне символом всех человеческих желаний, которые, чем они прекраснее, тем меньше исполняются и тем быстрее угасают. Так я Кнульпу и сказал.
Но он не стал развивать эту мысль. Обронил только:
– Да-да. – И лишь через некоторое время негромко добавил: – Мечты и помышления не имеют ценности, да люди и не поступают так, как думают, наоборот, каждый шаг совершают, в сущности, совершенно безрассудно, просто по зову сердца. Хотя с дружбой и любовью, пожалуй, дело обстоит именно так, как я говорил. В конечном счете у каждого есть что-то сугубо свое, чем невозможно поделиться с другими. Это видно, когда человек умирает. Все тогда плачут и скорбят, день, месяц, а то и год, но затем усопший как бы исчезает, без следа, и в его гробу вполне мог бы лежать какой-нибудь безродный и безвестный подмастерье.
– Не по душе мне это, Кнульп. Мы ведь часто говорили, что в конце концов жизнь должна иметь смысл и главное для человека – быть добрым и благожелательным, а не дурным и враждебным. А как ты сейчас говоришь, выходит, все едино, и мы точно так же могли бы воровать и убивать.
– Нет, голубчик, не могли бы. Попробуй убей первых встречных, коли сможешь! Или потребуй от желтого мотылька стать голубым. Он тебя засмеет.
– Я не о том. Но коли все едино, то какой смысл быть добропорядочным? Ведь раз голубой все равно что желтый, а злой все равно что добрый, добропорядочности просто не существует. Тогда каждый ровно зверь в лесу и поступает по своей натуре и притом не имеет ни заслуги, ни вины.
Кнульп вздохнул.
– Н-да, что тут скажешь? Может, все и так, как ты говоришь. Но тогда нередко и по этой причине глупо огорчаешься, поскольку чуешь, что желания наши ничего не значат и все идет своим путем совершенно без нас. Однако вина оттого никуда не девается, пусть даже человек попросту не мог не быть дурным. Он же чувствует ее в себе. Потому-то доброе заведомо правильно, ведь тогда остаешься удовлетворен и совесть у тебя чиста.
По его лицу я видел, что он наскучил этими разговорами. С ним часто так бывало: он углублялся в философствования, составлял суждения, высказывался за них и против и вдруг прекращал. Раньше я полагал, что ему надоедали мои невразумительные ответы и реплики. Но тут было другое, он чувствовал, что склонность к отвлеченным рассуждениям уводила его туда, где ему недоставало познаний и слов. Конечно, он весьма много читал, в том числе Толстого, только вот не всегда мог в точности отличить истинные умозаключения от ложных и сам это чувствовал. Об ученых он говорил так, как одаренный ребенок говорит о взрослых: поневоле признавал, что у них больше власти и средств, нежели у него, но презирал их, оттого что использовали они их бестолково и при всех своих знаниях и умениях не могли разрешить загадок.
Он снова лежал, подложив руки под голову, смотрел сквозь темную бузинную листву в знойное голубое небо и мурлыкал старинную народную песню о Рейне. Я до сих пор помню последний куплет:
Раньше я красную юбку носила,
Теперь буду в черной юбке ходить,
Лет шесть или семь мне траур носить,
Пока не истлеет в гробу мой милый[8 - Перевод Э. Венгеровой.].
Поздно вечером мы сидели друг против друга на темной опушке рощи, каждый с большим ломтем хлеба и половиной охотничьей колбасы, жевали и смотрели, как ночь вступает в свои права. Всего минуту-другую назад холмы купались в золотом вечернем зареве, расплывались в мягко-текучей дымке света, теперь же обернулись четкими сумрачными силуэтами, а деревья, поля на склонах и заросли кустов черным контуром проступали на фоне неба, которое еще сохраняло чуточку дневной голубизны, но уже наливалось глубокой ночной синью.
Пока было светло, мы вслух читали друг другу потешные рифмы из книжицы под названием «Напевы муз из немецкой шарманки», содержавшей сплошь незатейливые и не вполне пристойные шуточные песни вкупе с небольшими гравюрами на дереве. Но свет угас, положив конец нашему развлечению. После ужина Кнульпу захотелось послушать музыку, я вытащил из кармана губную гармонику, но в ней оказалось полно хлебных крошек, и пришлось сперва прочистить ее, а потом сыграть несколько популярных мелодий. Темнота, окружавшая нас уже некоторое время, успела затопить просторный холмистый ландшафт, последние блеклые отсветы на небе тоже померкли, и мало-помалу в густеющей черноте одна за другой загорались звезды. Легкие, прозрачные звуки гармоники улетали в поля и вскоре терялись в воздушных далях.
– Не стоит, – сказал я, – возьми что-нибудь другое, резеда быстро вянет.
Он, однако, сорвал резеду и украсил ею шляпу, которая лежала рядом на траве.
– Какая здесь дивная тишина! – сказал я.
– В самом деле, – отозвался он. – А будь еще немного тише, мы бы, пожалуй, могли услышать беседу тех, что под землею.
– Да нет, они уже отговорили свое.
– Как знать? Поди, не зря сказывают, что смерть – это сон, а во сне люди часто разговаривают и даже поют.
– С тебя станется.
– Почему бы и нет? Будь я покойником, я бы дождался, когда в воскресный день сюда придут девушки и станут срывать с могилы цветочки, и тогда бы тихонько запел.
– Да, и что же?
– Как что? Песню какую-нибудь.
Кнульп улегся на траву, закрыл глаза и немного погодя тихим, детским голосом запел:
Раз умер я в юности,
Спойте, девы,
Прощальный куплет.
Когда я обратно вернусь,
Когда я обратно вернусь,
То красавцем во цвете лет[7 - Перевод Э. Венгеровой.].
Я невольно засмеялся, хотя песенка мне понравилась. Пел он красиво и нежно, и пусть даже смысл порой расплывался, приятная мелодия все скрашивала.
– Кнульп, – сказал я, – не сули девушкам слишком много, иначе они быстро перестанут тебя слушать. Насчет возвращения еще куда ни шло, хоть никому это в точности не ведомо, а уж что ты вдобавок красавцем будешь, вовсе на воде вилами писано.
– Не спорю, оно конечно. Но мне было бы приятно. Помнишь, позавчера нам повстречался мальчонка с коровой, у которого мы спросили дорогу? Я бы с радостью опять стал таким. А ты нет?
– Я? Нет. Когда-то я знавал одного старика, ему было, пожалуй, за семьдесят, и взгляд у него был добрый такой, спокойный, мне казалось, будто все в нем лишь доброта, мудрость и покой. И с тех пор я иной раз думаю, что хотел бы стать как он.
– Ну, для этого тебе пока годков недостает, знаешь ли. И вообще, странная штука – желания. Кабы вот сию минуту я, кивнув, мог тотчас сделаться пригожим мальчуганом, а ты, кивнув, – почтенным добрым стариканом, то ни один из нас не стал бы кивать. Мы бы охотно остались такими, как есть.
– Что правда, то правда.
– А как же. Да и вообще. Часто я думаю: самое прекрасное, самое расчудесное на свете – стройная юная девушка с белокурыми волосами. Однако это неправда, ведь нередко видишь, что брюнетка пожалуй что еще краше. Вдобавок, вот как сейчас, мне думается иначе: все-таки самое прекрасное, самое расчудесное на свете – красивая птица, когда видишь ее вольно парящей в небесной вышине. А в другой раз нет ничего удивительнее мотылька, белого, например, с красными крапинками на крылышках, или вечернего солнечного зарева в облаках, когда все сияет, но глаз не слепит и выглядит так радостно и безгрешно.
– Твоя правда, Кнульп. Ведь все прекрасно, когда смотришь в добрый час.
– Да. Однако, по-моему, тут есть кое-что еще. По-моему, глядя на самое прекрасное, всегда испытываешь не только удовольствие, но вдобавок печаль или страх.
– Это как же?
– Я вот так разумею: вполне пригожую девушку сочли бы, верно, не столь уж красивой, если б не знали, что сейчас она в самой поре, а потом состарится и умрет. Коли бы красивое вовеки оставалось одинаковым, я бы, пожалуй, порадовался, однако со временем стал бы смотреть холоднее, равнодушнее и думать: можно и не сегодня поглядеть, всегда успеется. Зато на бренное, на то, что не может оставаться одинаковым, я смотрю не просто с радостью, но и с сочувствием.
– А-а, ну да.
– Потому-то нет для меня ничего прекраснее ночного фейерверка. Тогда в воздух летят ракеты, синие и зеленые, поднимаются высоко во тьму и, как раз когда они краше всего, описывают небольшую дугу и гаснут. Наблюдая за этим зрелищем, радуешься и в то же время боишься: вот сейчас все кончится! Это взаимосвязано и куда прекраснее, чем если бы все продолжалось дольше. Согласен?
– Пожалуй. Но применимо опять-таки не ко всему.
– Отчего же?
– Например, если двое любят друг друга и женятся или если два человека заключают дружбу, это как раз оттого и прекрасно, что не кончится сей же час, а продлится долго.
Кнульп пристально посмотрел на меня, потом, взмахнув черными ресницами, задумчиво проговорил:
– Верно. Но и этому приходит конец, как и всему. Многое может погубить дружбу, да и любовь тоже.
– Конечно, только ведь никто об этом не думает, пока оно не случится.
– Не знаю… Видишь ли, я в жизни любил дважды, в смысле по-настоящему, и оба раза твердо верил, что любовь у меня навсегда и перестанет лишь со смертью, но оба раза все кончилось, а я не умер. И друг у меня тоже был, еще дома, в родном городе, и я никак не думал, что жизнь разведет нас в разные стороны. Тем не менее, мы разошлись, и уже давно.
Он умолк, а мне сказать было нечего. Я покамест не изведал горькой муки, неизбежно таящейся в человеческих взаимоотношениях, не узнал покамест, что меж двумя людьми, сколь бы тесно они ни были связаны друг с другом, всегда зияет пропасть, и только любовь способна перекинуть через нее утлый мостик, да и то лишь изредка и ненадолго. Размышлял я о давешних словах моего товарища, из которых мне больше всего пришлись по сердцу рассуждения о фейерверках, ведь я и сам порой испытывал сходные чувства. Безмолвно манящие цветные огни, взмывающие во тьму и слишком скоро в ней тонущие, представлялись мне символом всех человеческих желаний, которые, чем они прекраснее, тем меньше исполняются и тем быстрее угасают. Так я Кнульпу и сказал.
Но он не стал развивать эту мысль. Обронил только:
– Да-да. – И лишь через некоторое время негромко добавил: – Мечты и помышления не имеют ценности, да люди и не поступают так, как думают, наоборот, каждый шаг совершают, в сущности, совершенно безрассудно, просто по зову сердца. Хотя с дружбой и любовью, пожалуй, дело обстоит именно так, как я говорил. В конечном счете у каждого есть что-то сугубо свое, чем невозможно поделиться с другими. Это видно, когда человек умирает. Все тогда плачут и скорбят, день, месяц, а то и год, но затем усопший как бы исчезает, без следа, и в его гробу вполне мог бы лежать какой-нибудь безродный и безвестный подмастерье.
– Не по душе мне это, Кнульп. Мы ведь часто говорили, что в конце концов жизнь должна иметь смысл и главное для человека – быть добрым и благожелательным, а не дурным и враждебным. А как ты сейчас говоришь, выходит, все едино, и мы точно так же могли бы воровать и убивать.
– Нет, голубчик, не могли бы. Попробуй убей первых встречных, коли сможешь! Или потребуй от желтого мотылька стать голубым. Он тебя засмеет.
– Я не о том. Но коли все едино, то какой смысл быть добропорядочным? Ведь раз голубой все равно что желтый, а злой все равно что добрый, добропорядочности просто не существует. Тогда каждый ровно зверь в лесу и поступает по своей натуре и притом не имеет ни заслуги, ни вины.
Кнульп вздохнул.
– Н-да, что тут скажешь? Может, все и так, как ты говоришь. Но тогда нередко и по этой причине глупо огорчаешься, поскольку чуешь, что желания наши ничего не значат и все идет своим путем совершенно без нас. Однако вина оттого никуда не девается, пусть даже человек попросту не мог не быть дурным. Он же чувствует ее в себе. Потому-то доброе заведомо правильно, ведь тогда остаешься удовлетворен и совесть у тебя чиста.
По его лицу я видел, что он наскучил этими разговорами. С ним часто так бывало: он углублялся в философствования, составлял суждения, высказывался за них и против и вдруг прекращал. Раньше я полагал, что ему надоедали мои невразумительные ответы и реплики. Но тут было другое, он чувствовал, что склонность к отвлеченным рассуждениям уводила его туда, где ему недоставало познаний и слов. Конечно, он весьма много читал, в том числе Толстого, только вот не всегда мог в точности отличить истинные умозаключения от ложных и сам это чувствовал. Об ученых он говорил так, как одаренный ребенок говорит о взрослых: поневоле признавал, что у них больше власти и средств, нежели у него, но презирал их, оттого что использовали они их бестолково и при всех своих знаниях и умениях не могли разрешить загадок.
Он снова лежал, подложив руки под голову, смотрел сквозь темную бузинную листву в знойное голубое небо и мурлыкал старинную народную песню о Рейне. Я до сих пор помню последний куплет:
Раньше я красную юбку носила,
Теперь буду в черной юбке ходить,
Лет шесть или семь мне траур носить,
Пока не истлеет в гробу мой милый[8 - Перевод Э. Венгеровой.].
Поздно вечером мы сидели друг против друга на темной опушке рощи, каждый с большим ломтем хлеба и половиной охотничьей колбасы, жевали и смотрели, как ночь вступает в свои права. Всего минуту-другую назад холмы купались в золотом вечернем зареве, расплывались в мягко-текучей дымке света, теперь же обернулись четкими сумрачными силуэтами, а деревья, поля на склонах и заросли кустов черным контуром проступали на фоне неба, которое еще сохраняло чуточку дневной голубизны, но уже наливалось глубокой ночной синью.
Пока было светло, мы вслух читали друг другу потешные рифмы из книжицы под названием «Напевы муз из немецкой шарманки», содержавшей сплошь незатейливые и не вполне пристойные шуточные песни вкупе с небольшими гравюрами на дереве. Но свет угас, положив конец нашему развлечению. После ужина Кнульпу захотелось послушать музыку, я вытащил из кармана губную гармонику, но в ней оказалось полно хлебных крошек, и пришлось сперва прочистить ее, а потом сыграть несколько популярных мелодий. Темнота, окружавшая нас уже некоторое время, успела затопить просторный холмистый ландшафт, последние блеклые отсветы на небе тоже померкли, и мало-помалу в густеющей черноте одна за другой загорались звезды. Легкие, прозрачные звуки гармоники улетали в поля и вскоре терялись в воздушных далях.