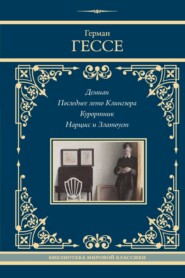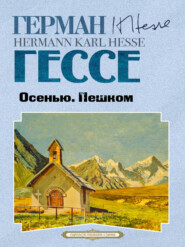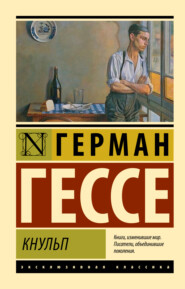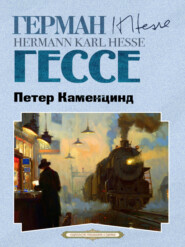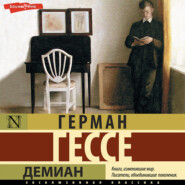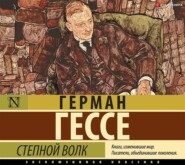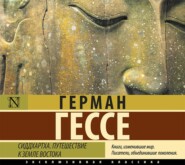По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Кнульп. Демиан. Последнее лето Клингзора. Душа ребенка. Клейн и Вагнер. Сиддхартха
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Нельзя же прямо сейчас спать, – сказал я Кнульпу. – Расскажи мне что-нибудь, необязательно быль, можно и сказку.
Кнульп задумался.
– Хорошо, – сказал он, – будет тебе быль и сказка, все разом. Это ведь сон. Он привиделся мне минувшей осенью, и после еще два раза снилось нечто похожее, об этом я и расскажу…
Представь себе маленький городок и улочку вроде тех, что у меня на родине, фронтоны всех домов нависали над мостовой, но были выше обычного. Я шел по этой улице, и мне казалось, будто я после долгого-долгого отсутствия наконец вернулся домой; впрочем, радовался я как бы только наполовину, что-то здесь было не так, и меня грызло сомнение, не очутился ли я все же не на родине, а в чужом краю. Иные места выглядели совершенно так, как мне помнилось, я тотчас их узнавал, однако многие дома были незнакомы, непривычны, к тому же я не находил ни моста, ни дороги к Рыночной площади, вместо этого прошел мимо незнакомого сада и церкви, напоминавшей кёльнскую или базельскую, с двумя высокими башнями. У нас дома церковь была без башен, только с коротким выступом под временной крышей, потому что строители просчитались с деньгами и материалами и закончить башню не смогли.
С людьми – та же история. Иные, кого я примечал издалека, были мне хорошо знакомы, я помнил их имена и намеревался окликнуть. Но одни успевали зайти в дом, другие – свернуть в боковой переулок, а тот, кто шел навстречу и проходил мимо, преображался, становился чужим; когда же он, разминувшись со мной, вновь отдалялся, я провожал его взглядом и думал, что все-таки это был тот, кого я наверняка знаю. Возле торговой лавки стояла кучка женщин, и одна из них даже показалась мне покойной тетушкой; однако, подойдя, я опять никого не узнал и вдобавок услышал, что говорят они на совершенно чужом наречии, едва мне понятном.
В конце концов я подумал: «Лучше поскорее уйти из этого города, он вроде как тот самый, а вроде как и нет». Но снова и снова я натыкался на знакомый дом или видел впереди знакомое лицо и опять всякий раз обманывался. При этом я не злился и не досадовал, только грустил и пугался; хотел прочесть молитву и изо всех сил вспоминал, да только вот в голову приходили сплошь нелепые, глупые фразы – к примеру, «глубокоуважаемый сударь» и «в имеющих место обстоятельствах», – и я растерянно и печально бормотал их себе под нос.
Кажется, так продолжалось несколько часов; потный и усталый, я по-прежнему безвольно ковылял по городу. Уже свечерело, и я решил спросить у прохожих о постоялом дворе или о большом тракте, но заговорить ни с кем не мог, все шли мимо, будто меня вообще нет. От усталости и отчаяния я едва не плакал.
И вдруг, в очередной раз свернув за угол, я увидел перед собою наш давний переулок, слегка изменившийся и приукрашенный, но меня это ничуть не смутило. Я решительно устремился туда – в самом деле, дома все знакомые, несмотря на сновиденческие выкрутасы, а вот, наконец, и мой старый родительский дом. Тоже непомерно высокий, но в остальном почти как в былые времена; радость и волнение пробежали у меня по спине мурашками страха.
На пороге, однако, стояла моя первая любовь, по имени Генриетта. Правда, она стала как будто бы выше ростом и выглядела немного по-другому, нежели прежде, – еще больше похорошела. Мало того, подходя ближе, я увидел, что красота ее была поистине чудесной, совершенно ангельской, но заметил и что она светлая блондинка, а не шатенка, как Генриетта, тем не менее, это была она, с ног до головы, хоть и просветленная.
«Генриетта!» – окликнул я и снял шляпу, ведь она выглядела так благородно, что я сомневался, пожелает ли она меня узнать.
Она обернулась, посмотрела мне в глаза. Но когда она этак на меня смотрела, я поневоле, с изумлением и стыдом, сообразил, что она вовсе не та, за кого я ее принял, это Лизабет, моя вторая любовь, с которой мы долго жили вместе. «Лизабет!» – воскликнул я, протягивая руку.
Она все смотрела на меня, и взгляд ее проникал мне в самое сердце, вот так, верно, смотрел бы Господь, не сурово и не надменно, а совершенно спокойно и ясно, но до того одухотворенно и возвышенно, что я почувстовал себя чуть ли не собакой. Она же стала серьезна и печальна, потом покачала головой, словно бы услышала не в меру дерзкий вопрос, и руки в ответ не подала, вернулась в дом и тихо затворила за собою дверь. Я еще услыхал, как щелкнул замок.
Я отвернулся и зашагал прочь, и хотя ничего почти не видел от слез и горести, мне все же показалось странным, что город вновь преобразился. Теперь каждый переулок, каждый дом и вообще все было точь-в-точь, как в давние времена, несообразности совершенно исчезли. Фронтоны были теперь не столь высоки и окрашены по-старому, и люди действительно те самые, они с радостным удивлением смотрели на меня, когда узнавали, иные и по имени меня окликали. Однако же я не мог ни ответить, ни остановиться. Во всю прыть спешил знакомой дорогой через мост вон из города и от сердечной боли видел все только сквозь слезы. Неведомо отчего мне казалось, что все здесь для меня кончено и я должен постыдно бежать.
Лишь потом, когда очутился за городом под тополями и волей-неволей приостановился, я вдруг осознал, что побывал на родине, возле нашего дома, а об отце с матерью, о братьях-сестрах, о друзьях и вообще обо всем даже не вспомнил. Сердце мое, как никогда, захлестнули смятение, горечь и стыд. Но воротиться назад и все исправить я не мог, ведь это был сон, и я проснулся.
– У каждого человека, – сказал Кнульп, – своя душа, смешать ее ни с какой другой он не может. Двое людей могут приходить друг к другу, разговаривать друг с другом, находиться совсем рядом. Но души их подобны цветам, каждая приросла корнями к своему месту и не может прийти к другой душе, иначе бы ей пришлось покинуть свои корни, а это невозможно. Цветы источают аромат, рассыпают семена, ведь им хочется друг к другу; но для того, чтобы семя попало в нужное место, цветок ничего сделать не может, тут действует ветер, а он прилетает и улетает, как и куда заблагорассудится.
А позднее он добавил:
– Сон, который я тебе рассказал, пожалуй, имеет тот же смысл. У меня не было намерения обойтись с Генриеттой и с Лизабет несправедливо. Но оттого, что когда-то я любил обеих и желал ими обладать, они слились для меня в сновиденческий образ, который похож на обеих, но не есть ни та ни другая. Этот образ принадлежит мне, однако в нем уже нет ничего живого. Часто размышлял я и о своих родителях. Они считают, что я их дитя и такой же, как они. Но хотя я не могу не любить их, я все равно для них чужой человек, понять которого они не способны. Самое главное во мне, быть может как раз и составляющее мою душу, они полагают несущественным, относят за счет моей молодости или блажи. Притом они любят меня и желают мне только добра. Отец может передать в наследство ребенку нос, глаза и даже ум, но не душу. Она в каждом человеке новая.
На это мне сказать было нечего, ведь в ту пору я еще не задумывался о подобных вещах, во всяком случае по собственному побуждению. При этих философских мудрствованиях я вообще-то чувствовал себя неплохо, потому что сердца моего они не задевали и я мнил, что и для Кнульпа это скорее игра, чем борение. Вдобавок так мирно и хорошо было лежать рядом в сухой траве, ждать ночи и сна и наблюдать за ранними звездами.
– Кнульп, – сказал я, – а ты философ. Тебе бы профессором стать.
Он рассмеялся и, покачав головой, задумчиво обронил:
– Скорее уж мне впору в Армию спасения записаться.
Тут я не выдержал:
– Слушай, хватит мне голову-то морочить! Неужто ты еще и в святые податься надумал?
– Само собой. Каждый человек – святой, коли вправду серьезно относится к своим мыслям и поступкам. Раз считаешь что-либо правильным, так и поступай. И если я когда-нибудь сочту правильным записаться в Армию спасения, то, надеюсь, так и сделаю.
– Именно в Армию спасения!
– Да. И скажу почему. Мне довелось разговаривать с множеством людей и слышать множество ораторов. Я и священников слыхал, и учителей, и бургомистров, и социал-демократов, и либералов; однако не нашлось ни одного, кто говорил бы с серьезностью, идущей от самого сердца, кому бы я поверил, что в крайнем случае он ради своей идеи пожертвует собою. А вот в Армии спасения, при всей их любви к песнопениям и шумихе, я уже раза три-четыре видел и слышал таких, что говорили по-настоящему всерьез.
– Почем ты знаешь?
– Это же видно. Например, один держал речь в деревне, воскресным днем, на улице, средь пыли и зноя, так что скоро совершенно охрип. Он и без того силачом никак не выглядел. И когда уже не мог вымолвить ни слова, попросил трех своих товарищей спеть, а сам тем временем глотнул воды. Полдеревни толпилось вокруг, стар и млад, и все над ним насмехались, все корили. Молодой работник, стоявший в заднем ряду, с кнутом в руке, время от времени, чтобы досадить оратору, оглушительно щелкал этим кнутом, и все каждый раз хохотали. Но бедолага не осерчал, хоть был вовсе не дурак, смекал, в чем дело, пробился своим голосишком через этот спектакль, знай себе улыбался, когда кто другой ревмя бы ревел или бранился. Знаешь, ради жалкого заработка и ради развлечения этак не поступают, тут требуются большая внутренняя просветленность и решимость.
– Пожалуй. Но один не значит все. И человек тонкий и чувствительный вроде тебя в подобных затеях просто не участвует.
– Отчего же. Если он знает и имеет нечто много более ценное, чем вся тонкость и чувствительность. Конечно, всех одним аршином мерить нельзя, однако ж истина должна быть одна для всех.
– Ах, истина! Откуда известно, что как раз эти аллилуйщики владеют истиной?
– Это неизвестно, что верно, то верно. Но я всего-навсего говорю: если однажды я решу, что это истина, то последую за ней.
– Ну да, если! Ты ведь что ни день находишь какую-нибудь мудрость, а назавтра уже в грош ее не ставишь.
Он с удивлением посмотрел на меня:
– Ты сейчас сказал кое-что скверное.
Я хотел было попросить прощения, но он отмахнулся и умолк. А вскоре тихонько пожелал доброй ночи и спокойно улегся, только вряд ли сразу уснул. Я тоже был слишком возбужден и еще час с лишним лежал без сна, подперев голову руками и глядя на ночной ландшафт.
Утром я сразу увидел, что у Кнульпа нынче хороший день. Так я ему и сказал, а он посмотрел на меня сияющим детским взглядом и кивнул:
– Угадал. А знаешь, откуда у человека берутся такие вот хорошие дни?
– Нет, откуда же?
– Все оттого, что ты ночью хорошо выспался и видел прекрасные сны. Только помнить их незачем. Вот так нынче со мной. Мне грезилось что-то сплошь роскошное и отрадное, но я ничего не помню, знаю только, что было чудесно.
И еще прежде, чем мы добрались до ближайшей деревни и заморили червячка парным молоком, его приятный, легкий, беспечный голос успел одарить бодрящее утро тремя-четырьмя новенькими песнями. Записанные и напечатанные, эти песни, пожалуй, показались бы пустячными поделками. Но все-таки Кнульп был поэтом, пусть и не из больших, и, когда он сам пел свои песенки, они часто, словно пригожие сестры, походили на иные из самых прекрасных. А отдельные строчки и строфы, которые мне запомнились, вправду превосходны, и я по сей день очень их ценю. Ни одна из этих песенок не записана, его стихи рождались, жили и умирали бесхитростно и беззаботно, как дуновения ветерка, но сколько же раз они скрашивали жизнь не только мне и ему, но многим другим, старым и молодым.
Оно появляется из-за леса,
Как нарядная барышня из ворот.
Так, заливаясь румянцем, невеста
Гордо к венцу идет[9 - Перевод Э. Венгеровой.].
Вот так пел он тогда о солнце, которое упоминал и славил в своих песнях почти всегда. И странное дело, хотя в разговоре ему никак не удавалось отрешиться от философствования, стишки его отличались редкостной свежестью и непритязательностью, похожие на опрятных ребятишек в светлых летних платьях, что весело скачут вокруг. Нередко они бывали просто забавны и служили затем только, чтобы дать волю шаловливому задору. В тот день он заразил меня своим настроением. Мы приветствовали и поддразнивали всех встречных, так что вслед нам то хохотали, то бранились, и весь день прошел будто праздник. Мы рассказывали друг другу о проделках и шутках школьной поры, придумывали забавные прозвища мимоезжим крестьянам, а часто и их лошадям и волам, объедались у какого-нибудь уединенного садового забора ворованной ежевикой и сберегали силы и подметки башмаков, чуть не каждый час устраивая привал.
Мне казалось, за все время нашего еще не долгого знакомства Кнульп никогда не бывал таким замечательным, милым и общительным, и я радостно предвкушал, что с сегодняшнего дня по-настоящему начнутся наша совместная жизнь, странствие и веселье.
К полудню стало душно, мы больше лежали в траве, чем шли, а под вечер предгрозовая мгла и духота еще сгустились, и мы решили поискать себе на ночь убежище под крышей.
Кнульп мало-помалу притих и приустал, но я этого толком не замечал, ведь он по-прежнему от души смеялся вместе со мной и часто подхватывал мои песни, самому же мне удержу не было, снова и снова в сердце яркими кострами вспыхивала радость. С Кнульпом, пожалуй, все обстояло иначе, праздничные огни в нем уже начали гаснуть. Для меня тогда было в порядке вещей, что в радостные дни я ближе к ночи становился только веселее и никак не мог угомониться, нередко после ночных развлечений часами бродил один по окрестностям, когда других давным-давно сморили усталость и сон.
Радостная вечерняя лихорадка обуяла меня и в тот день, и, когда мы спустились в долину к большой деревне, я радовался веселой ночи. Сперва мы подыскали ночлег – стоявший на отшибе, легкодоступный сарай, а потом отправились в деревню, прямиком в трактир с прекрасным садом, ведь я пригласил друга на ужин и намеревался угостить его омлетом и парой бутылок пива по случаю столь радостного дня.
Кнульп охотно принял приглашение. Но когда мы уселись за столик под раскидистым платаном, он немного смущенно сказал:
– Знаешь, давай не будем устраивать попойку, а? Бутылочку пива я, конечно, осушу, это приятно и в охотку, но больше не стоит.
Кнульп задумался.
– Хорошо, – сказал он, – будет тебе быль и сказка, все разом. Это ведь сон. Он привиделся мне минувшей осенью, и после еще два раза снилось нечто похожее, об этом я и расскажу…
Представь себе маленький городок и улочку вроде тех, что у меня на родине, фронтоны всех домов нависали над мостовой, но были выше обычного. Я шел по этой улице, и мне казалось, будто я после долгого-долгого отсутствия наконец вернулся домой; впрочем, радовался я как бы только наполовину, что-то здесь было не так, и меня грызло сомнение, не очутился ли я все же не на родине, а в чужом краю. Иные места выглядели совершенно так, как мне помнилось, я тотчас их узнавал, однако многие дома были незнакомы, непривычны, к тому же я не находил ни моста, ни дороги к Рыночной площади, вместо этого прошел мимо незнакомого сада и церкви, напоминавшей кёльнскую или базельскую, с двумя высокими башнями. У нас дома церковь была без башен, только с коротким выступом под временной крышей, потому что строители просчитались с деньгами и материалами и закончить башню не смогли.
С людьми – та же история. Иные, кого я примечал издалека, были мне хорошо знакомы, я помнил их имена и намеревался окликнуть. Но одни успевали зайти в дом, другие – свернуть в боковой переулок, а тот, кто шел навстречу и проходил мимо, преображался, становился чужим; когда же он, разминувшись со мной, вновь отдалялся, я провожал его взглядом и думал, что все-таки это был тот, кого я наверняка знаю. Возле торговой лавки стояла кучка женщин, и одна из них даже показалась мне покойной тетушкой; однако, подойдя, я опять никого не узнал и вдобавок услышал, что говорят они на совершенно чужом наречии, едва мне понятном.
В конце концов я подумал: «Лучше поскорее уйти из этого города, он вроде как тот самый, а вроде как и нет». Но снова и снова я натыкался на знакомый дом или видел впереди знакомое лицо и опять всякий раз обманывался. При этом я не злился и не досадовал, только грустил и пугался; хотел прочесть молитву и изо всех сил вспоминал, да только вот в голову приходили сплошь нелепые, глупые фразы – к примеру, «глубокоуважаемый сударь» и «в имеющих место обстоятельствах», – и я растерянно и печально бормотал их себе под нос.
Кажется, так продолжалось несколько часов; потный и усталый, я по-прежнему безвольно ковылял по городу. Уже свечерело, и я решил спросить у прохожих о постоялом дворе или о большом тракте, но заговорить ни с кем не мог, все шли мимо, будто меня вообще нет. От усталости и отчаяния я едва не плакал.
И вдруг, в очередной раз свернув за угол, я увидел перед собою наш давний переулок, слегка изменившийся и приукрашенный, но меня это ничуть не смутило. Я решительно устремился туда – в самом деле, дома все знакомые, несмотря на сновиденческие выкрутасы, а вот, наконец, и мой старый родительский дом. Тоже непомерно высокий, но в остальном почти как в былые времена; радость и волнение пробежали у меня по спине мурашками страха.
На пороге, однако, стояла моя первая любовь, по имени Генриетта. Правда, она стала как будто бы выше ростом и выглядела немного по-другому, нежели прежде, – еще больше похорошела. Мало того, подходя ближе, я увидел, что красота ее была поистине чудесной, совершенно ангельской, но заметил и что она светлая блондинка, а не шатенка, как Генриетта, тем не менее, это была она, с ног до головы, хоть и просветленная.
«Генриетта!» – окликнул я и снял шляпу, ведь она выглядела так благородно, что я сомневался, пожелает ли она меня узнать.
Она обернулась, посмотрела мне в глаза. Но когда она этак на меня смотрела, я поневоле, с изумлением и стыдом, сообразил, что она вовсе не та, за кого я ее принял, это Лизабет, моя вторая любовь, с которой мы долго жили вместе. «Лизабет!» – воскликнул я, протягивая руку.
Она все смотрела на меня, и взгляд ее проникал мне в самое сердце, вот так, верно, смотрел бы Господь, не сурово и не надменно, а совершенно спокойно и ясно, но до того одухотворенно и возвышенно, что я почувстовал себя чуть ли не собакой. Она же стала серьезна и печальна, потом покачала головой, словно бы услышала не в меру дерзкий вопрос, и руки в ответ не подала, вернулась в дом и тихо затворила за собою дверь. Я еще услыхал, как щелкнул замок.
Я отвернулся и зашагал прочь, и хотя ничего почти не видел от слез и горести, мне все же показалось странным, что город вновь преобразился. Теперь каждый переулок, каждый дом и вообще все было точь-в-точь, как в давние времена, несообразности совершенно исчезли. Фронтоны были теперь не столь высоки и окрашены по-старому, и люди действительно те самые, они с радостным удивлением смотрели на меня, когда узнавали, иные и по имени меня окликали. Однако же я не мог ни ответить, ни остановиться. Во всю прыть спешил знакомой дорогой через мост вон из города и от сердечной боли видел все только сквозь слезы. Неведомо отчего мне казалось, что все здесь для меня кончено и я должен постыдно бежать.
Лишь потом, когда очутился за городом под тополями и волей-неволей приостановился, я вдруг осознал, что побывал на родине, возле нашего дома, а об отце с матерью, о братьях-сестрах, о друзьях и вообще обо всем даже не вспомнил. Сердце мое, как никогда, захлестнули смятение, горечь и стыд. Но воротиться назад и все исправить я не мог, ведь это был сон, и я проснулся.
– У каждого человека, – сказал Кнульп, – своя душа, смешать ее ни с какой другой он не может. Двое людей могут приходить друг к другу, разговаривать друг с другом, находиться совсем рядом. Но души их подобны цветам, каждая приросла корнями к своему месту и не может прийти к другой душе, иначе бы ей пришлось покинуть свои корни, а это невозможно. Цветы источают аромат, рассыпают семена, ведь им хочется друг к другу; но для того, чтобы семя попало в нужное место, цветок ничего сделать не может, тут действует ветер, а он прилетает и улетает, как и куда заблагорассудится.
А позднее он добавил:
– Сон, который я тебе рассказал, пожалуй, имеет тот же смысл. У меня не было намерения обойтись с Генриеттой и с Лизабет несправедливо. Но оттого, что когда-то я любил обеих и желал ими обладать, они слились для меня в сновиденческий образ, который похож на обеих, но не есть ни та ни другая. Этот образ принадлежит мне, однако в нем уже нет ничего живого. Часто размышлял я и о своих родителях. Они считают, что я их дитя и такой же, как они. Но хотя я не могу не любить их, я все равно для них чужой человек, понять которого они не способны. Самое главное во мне, быть может как раз и составляющее мою душу, они полагают несущественным, относят за счет моей молодости или блажи. Притом они любят меня и желают мне только добра. Отец может передать в наследство ребенку нос, глаза и даже ум, но не душу. Она в каждом человеке новая.
На это мне сказать было нечего, ведь в ту пору я еще не задумывался о подобных вещах, во всяком случае по собственному побуждению. При этих философских мудрствованиях я вообще-то чувствовал себя неплохо, потому что сердца моего они не задевали и я мнил, что и для Кнульпа это скорее игра, чем борение. Вдобавок так мирно и хорошо было лежать рядом в сухой траве, ждать ночи и сна и наблюдать за ранними звездами.
– Кнульп, – сказал я, – а ты философ. Тебе бы профессором стать.
Он рассмеялся и, покачав головой, задумчиво обронил:
– Скорее уж мне впору в Армию спасения записаться.
Тут я не выдержал:
– Слушай, хватит мне голову-то морочить! Неужто ты еще и в святые податься надумал?
– Само собой. Каждый человек – святой, коли вправду серьезно относится к своим мыслям и поступкам. Раз считаешь что-либо правильным, так и поступай. И если я когда-нибудь сочту правильным записаться в Армию спасения, то, надеюсь, так и сделаю.
– Именно в Армию спасения!
– Да. И скажу почему. Мне довелось разговаривать с множеством людей и слышать множество ораторов. Я и священников слыхал, и учителей, и бургомистров, и социал-демократов, и либералов; однако не нашлось ни одного, кто говорил бы с серьезностью, идущей от самого сердца, кому бы я поверил, что в крайнем случае он ради своей идеи пожертвует собою. А вот в Армии спасения, при всей их любви к песнопениям и шумихе, я уже раза три-четыре видел и слышал таких, что говорили по-настоящему всерьез.
– Почем ты знаешь?
– Это же видно. Например, один держал речь в деревне, воскресным днем, на улице, средь пыли и зноя, так что скоро совершенно охрип. Он и без того силачом никак не выглядел. И когда уже не мог вымолвить ни слова, попросил трех своих товарищей спеть, а сам тем временем глотнул воды. Полдеревни толпилось вокруг, стар и млад, и все над ним насмехались, все корили. Молодой работник, стоявший в заднем ряду, с кнутом в руке, время от времени, чтобы досадить оратору, оглушительно щелкал этим кнутом, и все каждый раз хохотали. Но бедолага не осерчал, хоть был вовсе не дурак, смекал, в чем дело, пробился своим голосишком через этот спектакль, знай себе улыбался, когда кто другой ревмя бы ревел или бранился. Знаешь, ради жалкого заработка и ради развлечения этак не поступают, тут требуются большая внутренняя просветленность и решимость.
– Пожалуй. Но один не значит все. И человек тонкий и чувствительный вроде тебя в подобных затеях просто не участвует.
– Отчего же. Если он знает и имеет нечто много более ценное, чем вся тонкость и чувствительность. Конечно, всех одним аршином мерить нельзя, однако ж истина должна быть одна для всех.
– Ах, истина! Откуда известно, что как раз эти аллилуйщики владеют истиной?
– Это неизвестно, что верно, то верно. Но я всего-навсего говорю: если однажды я решу, что это истина, то последую за ней.
– Ну да, если! Ты ведь что ни день находишь какую-нибудь мудрость, а назавтра уже в грош ее не ставишь.
Он с удивлением посмотрел на меня:
– Ты сейчас сказал кое-что скверное.
Я хотел было попросить прощения, но он отмахнулся и умолк. А вскоре тихонько пожелал доброй ночи и спокойно улегся, только вряд ли сразу уснул. Я тоже был слишком возбужден и еще час с лишним лежал без сна, подперев голову руками и глядя на ночной ландшафт.
Утром я сразу увидел, что у Кнульпа нынче хороший день. Так я ему и сказал, а он посмотрел на меня сияющим детским взглядом и кивнул:
– Угадал. А знаешь, откуда у человека берутся такие вот хорошие дни?
– Нет, откуда же?
– Все оттого, что ты ночью хорошо выспался и видел прекрасные сны. Только помнить их незачем. Вот так нынче со мной. Мне грезилось что-то сплошь роскошное и отрадное, но я ничего не помню, знаю только, что было чудесно.
И еще прежде, чем мы добрались до ближайшей деревни и заморили червячка парным молоком, его приятный, легкий, беспечный голос успел одарить бодрящее утро тремя-четырьмя новенькими песнями. Записанные и напечатанные, эти песни, пожалуй, показались бы пустячными поделками. Но все-таки Кнульп был поэтом, пусть и не из больших, и, когда он сам пел свои песенки, они часто, словно пригожие сестры, походили на иные из самых прекрасных. А отдельные строчки и строфы, которые мне запомнились, вправду превосходны, и я по сей день очень их ценю. Ни одна из этих песенок не записана, его стихи рождались, жили и умирали бесхитростно и беззаботно, как дуновения ветерка, но сколько же раз они скрашивали жизнь не только мне и ему, но многим другим, старым и молодым.
Оно появляется из-за леса,
Как нарядная барышня из ворот.
Так, заливаясь румянцем, невеста
Гордо к венцу идет[9 - Перевод Э. Венгеровой.].
Вот так пел он тогда о солнце, которое упоминал и славил в своих песнях почти всегда. И странное дело, хотя в разговоре ему никак не удавалось отрешиться от философствования, стишки его отличались редкостной свежестью и непритязательностью, похожие на опрятных ребятишек в светлых летних платьях, что весело скачут вокруг. Нередко они бывали просто забавны и служили затем только, чтобы дать волю шаловливому задору. В тот день он заразил меня своим настроением. Мы приветствовали и поддразнивали всех встречных, так что вслед нам то хохотали, то бранились, и весь день прошел будто праздник. Мы рассказывали друг другу о проделках и шутках школьной поры, придумывали забавные прозвища мимоезжим крестьянам, а часто и их лошадям и волам, объедались у какого-нибудь уединенного садового забора ворованной ежевикой и сберегали силы и подметки башмаков, чуть не каждый час устраивая привал.
Мне казалось, за все время нашего еще не долгого знакомства Кнульп никогда не бывал таким замечательным, милым и общительным, и я радостно предвкушал, что с сегодняшнего дня по-настоящему начнутся наша совместная жизнь, странствие и веселье.
К полудню стало душно, мы больше лежали в траве, чем шли, а под вечер предгрозовая мгла и духота еще сгустились, и мы решили поискать себе на ночь убежище под крышей.
Кнульп мало-помалу притих и приустал, но я этого толком не замечал, ведь он по-прежнему от души смеялся вместе со мной и часто подхватывал мои песни, самому же мне удержу не было, снова и снова в сердце яркими кострами вспыхивала радость. С Кнульпом, пожалуй, все обстояло иначе, праздничные огни в нем уже начали гаснуть. Для меня тогда было в порядке вещей, что в радостные дни я ближе к ночи становился только веселее и никак не мог угомониться, нередко после ночных развлечений часами бродил один по окрестностям, когда других давным-давно сморили усталость и сон.
Радостная вечерняя лихорадка обуяла меня и в тот день, и, когда мы спустились в долину к большой деревне, я радовался веселой ночи. Сперва мы подыскали ночлег – стоявший на отшибе, легкодоступный сарай, а потом отправились в деревню, прямиком в трактир с прекрасным садом, ведь я пригласил друга на ужин и намеревался угостить его омлетом и парой бутылок пива по случаю столь радостного дня.
Кнульп охотно принял приглашение. Но когда мы уселись за столик под раскидистым платаном, он немного смущенно сказал:
– Знаешь, давай не будем устраивать попойку, а? Бутылочку пива я, конечно, осушу, это приятно и в охотку, но больше не стоит.