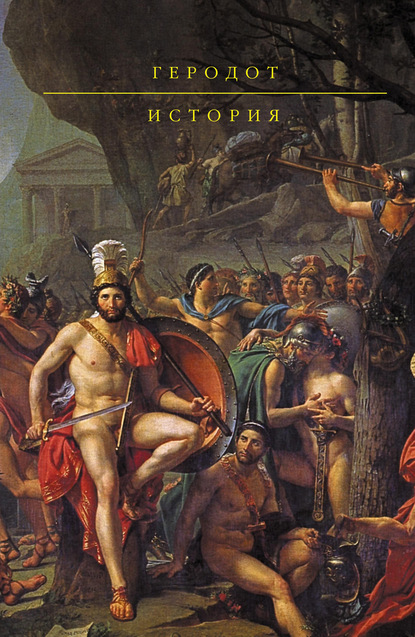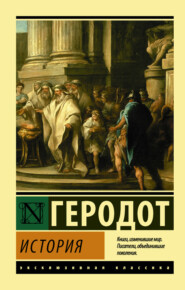По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
История
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ошибочны известия историка о наследственности достоинства верховного жреца в Египте[116 - II, 37. 143.], о разделении египетского населения на касты[117 - II, 37. 143.], о заимствовании эллинами от египтян гадания по жертвенным животным[118 - Там же, 58.]; с ребяческой наивностью храм финикийской Астарты в Мемфисе приписывается Елене[119 - Там же, 112.]; наконец, со слов жрецов историк настойчиво проводит мысль о заимствовании эллинами богов их от египтян[120 - Там же, 43. 50–53.]. Нечего прибавлять, что исторические сведения Геродота о Египте, о временах, предшествовавших Псамметиху, могли быть лишь весьма недостаточными и сбивчивыми. Достаточно напомнить о том, например, что цари, строители больших пирамид, принадлежат к Четвертой династии и жили за несколько веков до Мирида, а Геродот помещает их после царей Двадцатой династии[121 - Там же, 101. 124.].
Как очевидец, Геродот повествует о Вавилоне, о положении его, о его постройках, о нравах жителей и т. п. Новейшие исследователи, главным образом Опперт*, доказали верность множества наблюдений древнего историка. Между тем, этот случай убедительнее других показывает, как мало Геродот заботился о точном разграничении для читателя лично исследованного им от принятого на веру без критики. Вавилонские стены историк мог наблюдать разве в отдельных обломках, уцелевших от разрушений Дария; медных ворот он не мог видеть вовсе, так как они были увезены оттуда задолго до того времени. Следовательно, все те измерения, которые в труде Геродота имеют вид произведенных им самим, были на самом деле только повторением преувеличивавших прошлое народных толков. Ассирийские памятники не оправдывают ни хронологии Геродота, ни известий его об ассирийских царицах и других легендарных данных, источником которых служили народные песни, даже, быть может, не ассириянами сложенные. Равным образом в противоречии с памятниками оказываются известия Геродота о возвышении мидян. В мидийской и мидо – персидской этнографии и истории также встречается немало ошибок, исправленных только в последнее время. Если от этих стран обратимся к Европе, к наиболее интересной для нас стране, Скифии, то и здесь найдем множество неточностей и еще более неясностей. Черное море увеличено им вдвое в длину, а наибольшая ширина показана в полтора раза больше, к тому же оно передвинуто далеко на восток; Азовское море увеличено еще больше; представление о фигуре Таврического полуострова ошибочно; Скифия изображается в виде равностороннего четырехугольника; топография, гидрография и этнография Скифии изложены запутанно и во многом, разумеется, неверно[122 - IV, 85–86. 99.]. Движение киммерийцев он представляет себе в невозможном направлении; не менее трудно понять известие о походе скифов на Херсонес[123 - II, 11–12; VI, 40. 84.]. Нибур* исчисляет множество ошибок эллинского историка в географии, климатологии и других свойствах описываемых им стран и народов.
Присутствие всех этих и подобных ошибок в труде Геродота находит себе объяснение частью в несовершенстве средств к точному изысканию, частью в легковерии писателя, в его склонности к анекдотическому, в неумении применить в каждом отдельном случае то правило относительно различия источников по степени достоверности, необходимость которого очевидно признавал наш историк в теории. Только особенный вкус к анекдоту мог побудить историка ввести длинную басню о похитителях сокровищ Рампсинита, об испытании новорожденных младенцев или о женском одеянии на Эгине в Аргосе и о тамошней посуде[124 - II, 121. 2–3; V, 88–89.]; или о том, как третья жена Демарата сделалась красивейшей женщиной из безобразнейшей девочки[125 - VI, 61.]. Он категорически передает факт, что в Египте во время его пребывания козел имел сообщение с женщиной публично[126 - II, 46.]. Он вполне верит, что у жрицы педасейской Афины вырастает борода каждый раз, когда педасийцам или соседям их грозит какое?либо несчастье[127 - I, 175; VIII, 104.]; подробно передает небылицы о разных народах Ливии, как один из тамошних народов, например, вовсе не имеет языка, а шипит, как летучая мышь, другой не ест ничего одушевленного и не видит никаких снов[128 - IV, 183.184.]; рассказывает анекдот о Софане, одном из платейских героев, который будто бы якорю обязан был своими подвигами[129 - IX, 74.]; по тому же самому побуждению он останавливается на басне о кормлении детей керкирян самосцами[130 - III, 48.].
Следовательно, легковерие, лишь слабая степень умения и охоты определять относительную ценность получаемых известий и согласно этому оттенять их в своем труде, наконец, наклонность к анекдотическому и чрезвычайному – эти свойства историка, особенно неблагоприятные для восстановления прошлого, обязывают читателя относиться не иначе, как с осторожностью и критически и к географической части его труда. Если первоначальное, слишком отрицательное отношение к «отцу истории» оказалось несправедливым, неоправдавшимся ввиду позднейших успехов истории, географии и этнографии, то с другой стороны необходимо воздерживаться и от противоположной крайности. Многие верные известия перемешаны у него с известиями сомнительными и даже явно ошибочными, а потому все они нуждаются в критической проверке. Те же самые успехи знания, которые отняли от имени Геродота старые эпитеты лжеца, клеветника и т. п., показывают ясно, что эллинский историк V века до Р. X. был прежде всего сыном своего времени, и потому оставленный им памятник необычайной любознательности, добросовестности и обширных сведений не отвечает во многих отношениях, да и не может отвечать нынешним требованиям научной достоверности.
Ни многочисленные собственные наблюдения, ни удостоверенная выше любовь к истине, ни многократно обнаруженный скептицизм не в состоянии были перевесить в историке других свойств личных, также препятствовавших правдивому установлению событий и выяснению подлинных мотивов их и причин. Геродот – прежде всего человек глубоко религиозный, твердо верующий в непрестанное вмешательство божества в людские дела, причем божеское откровение совершается в сновидениях, в разного рода знамениях и чудесах, в наказаниях грешников, а иногда и в непосредственных появлениях богов. Так Пан повстречался с афинским глашатаем на пути его в Спарту, боги сами защитили храм от посягательства варваров, когда эти последние покусились было ограбить дельфийский храм Афины Пронеи; священное вооружение само по себе вышло из святилища и легло у порога, а с приближением врагов сверкнула на небе молния, от Парнаса оторвались две вершины, с шумом скатились на варваров и истребили большое число их, в то же время из храма прозвучал громкий голос и раздались боевые кличи; по словам дельфийцев, в преследовании и умерщвлении варваров участвовали два местных героя. Историк уверяет, что оторвавшиеся от Парнаса камни еще в его время лежали на священной земле Афины Пронеи. Голос Афины слышится дважды в Саламинском сражении; в том же сражении принимают участие Вакх, Эант и Теламон; поражение персов при Платеях причиняет Деметра, а на Микале явленный жезл ободряет эллинов и решает участь врагов; Креза от смерти избавляет Аполлон; сооружение храма героям избавило целый род от преждевременной смертности детей и т. д. Благочестивый страх Геродота перед богами внушает ему опасение прогневить божество разоблачением тайн его, повествованием о нем или даже поименованием его. Божество требует внимания к себе, щадит чтущих его и наказывает забывающих или оскорбляющих его. С особенной охотой Геродот отмечает изречения оракулов, гадателей, случаи исполнения всякого рода предсказаний, сновидений и чудесных знамений. Один список относящихся сюда мест красноречиво и безошибочно свидетельствует о настроении историка; отметим только, что и поражение персов в борьбе с эллинами было предсказано оракулом. Однако и здесь Геродот обнаруживает некоторый скептицизм: только ясные изречения гадателей не возбуждают в нем сомнения; пифия бывала подкуплена Алкмеонидами и спартанским царем Клеоменом; Ономакрит подбирал подходящие прорицания, неблагоприятные для персов предсказания скрывались[131 - IX, 42. 43.]; афиняне не последовали устрашающим внушениям пифии – и не ошиблись[132 - VII, 139.].
Что касается воззрений Геродота на божество по отношению к людям, то они представляют смесь понятий различных порядков, и напрасно было бы пытаться свести их к одному какому?либо началу. Завистливость божества исповедывалась Геродотом вместе с современным ему обществом и с другими писателями. Ошибочно смешиваемое с немесидой, или воздаянием каждому по делам его, представление это составляет одну из наиболее характерных и первобытных черт антропоморфизма.
«Ты видишь, – говорит Артабан Ксерксу, – как божество молнией поражает животных, выдающихся над другими, не дозволяя им возноситься; напротив, мелкие животные не раздражают его. Ты видишь также, что оно всегда мечет свои перуны в наибольшие здания и в самые высокие деревья; божеству ведь приятно калечить все выдающееся. Подобно этому и по той же самой причине громадное войско может быть сокрушено малочисленным: если из зависти божество наведет на воинов страх или ударит в них молнией, войско погибнет постыдной смертью. Божество не терпит, чтобы кто?нибудь другой, кроме его самого, мнил высоко о себе»[133 - Там же, 10.]. Вот почему могущественнейшие люди неизбежно подвергаются величайшим несчастьям[134 - Там же, 203]. Божество сокрушает могущество человека тем охотнее и полнее, чем более обладатель его полагается на свои силы и приумножает их. Под влиянием этого верования Геродот не останавливался перед чрезмерным преувеличением Ксерксовых полчищ, ринувшихся на Элладу. Персидские войска в этом походе исчислены историком в 5 233 220 человек, тогда как Ктесий и впоследствии Ефор* определяли численность их в 800 000 или немного больше[135 - Там же, VII, 184.186.].
Читатель видит, что в этих случаях нет и речи о каких?либо преступлениях со стороны сильных лиц против людей или богов; божество не терпит никакого превосходства и только за это сокрушает высокие дома и деревья, истребляет больших животных и губит сильных людей.
Другим предметом божеской зависти служит невозмутимость человеческого благополучия. «Всякое божество завистливо и любит смуту», – замечает Солон Крезу; даруя кому?либо счастье, оно потом окончательно губит счастливца[136 - I, 32.]; давая людям вкусить сладость жизни, завистливое божество отравляет ее несчастьями[137 - VII, 46.]. Благочестивого, богами любимого Креза божество повергает в тяжкую скорбь за то, по предположению историка, что лидийский царь почел себя счастливейшим человеком[138 - I, 34. 87.]. По замечанию того же Креза людские несчастья доставляют наслаждение богам. Поликрат Самосский погиб жестокой смертью, и вина его состояла лишь в постоянстве счастья[139 - III, 40.43. 125.]. В силу такого воззрения человеческое существование неизбежно преисполнено всякого рода неудач и несчастий; «Человек весь – случайность», – замечает Солон, и смерть становится высшей наградой за добродетели, высшим благом человека[140 - I, 31; VII, 46.].
Представление о завистливости и недоброжелательстве божества, несовместимое ни с правилом воздаяния той же мерой, ни с понятием мудрого божеского промысла, есть наследие времен грубых и варварских, принадлежность верования, что страдания людей доставляют богам удовольствие. В древнеэллинской поэзии подобное настроение верховного божества изображено полнее всего в Эсхиловом «Прометее». Источник Зевсовой злобы и жестокости против титана – жажда мести в недавнем победителе – владыке за отважную и удачную попытку могущественного друга улучшить участь тех самых людей, которые Зевсом обречены на прозябание и гибель. Та же самая зависть и недоброжелательство вызывают со стороны богов недовольство Ксерксом за проложение моста через Геллеспонт, запрещение книдянам перекапывать перешеек[141 - I, 174.]; богобоязненный Геродот усматривает в прорытии Афонского перешейка лишь греховную кичливость персидского владыки.
Что представление это перенесено древним эллином с человека на божество, о том ясно свидетельствуют некоторые места самой же истории Геродота. Ахеменес замечает об эллинах, что «они завидуют благополучию других и ненавидят сильнейших»[142 - VII, 236.]. По словам персидского вельможи, «зависть присуща человеку от рождения», но особенно страдает ею единоличный правитель государства, он завидует невзирая на то, что располагает всеми благами, и притом завидует достойнейшим гражданам[143 - III, 80.], подобно тому как Зевс завидует добродетельным людям.
Как мы заметили выше, Геродот смешивает понятия зависти и немесиды, и потому наказание Креза, человека добродетельного, смертью сына готов считать «тяжким возмездием», тогда как необычная гибель преступной Феретимы – превращение заживо в кучу червей – представляется ему проявлением божеской зависти. Относительно Ксеркса и персов замечается двойственность: историк как бы не довольствуется тем, чтобы изобразить поражение варваров и владыки их как последствие величия и кичливости и потому старается представить Ксеркса запятнанным всевозможными преступлениями относительно богов и людей.
По словам Фемистокла, боги и герои, а не люди, спасли Элладу: они не могли допустить, чтобы над Европой и Азией владычествовал один человек, в тому же преступный и нечестивый, который приравнял священные храмы к частным жилищам, низвергал и сжигал святыни, бичом карал море и бросил в него оковы[144 - VIII, 109.]. Несколько выше Ксеркс гордится своим происхождением, а неисчислимое войско, переведенное им в Европу, уподобляло его Зевсу в глазах некоторых эллинов, – обстоятельство, которого самого по себе было достаточно для возбуждения гнева богов[145 - VII, 11. 56.]. Само собой разумеется, Геродот не чувствовал ничего предосудительного в представлении божества завистливым и в этом отношении отличался от Эсхила. У этого последнего мы находим такое выражение: «Издревле существует у людей изречение, что великое, совершенное счастье порождает детей, не погибает бездетным и что от благополучия происходят для потомства неисчислимые беды. Один я думаю иначе: нечестивое поведение родит многие злодеяния, похожие на своего прародителя; но счастливая судьба праведного дома всегда порождает прекрасное потомство». Однако ясное различие между завистью и немесидой встречается впервые у Аристотеля и Плутарха, причем зависть считается пороком, а немесида добродетелью. «Немесида, – говорит философ, – занимает середину между завистливостью и злорадством; ведь оба эти свойства заслуживают порицания, а немесида – похвалы. Немесида состоит в огорчении по поводу того, что блага достаются на долю недостойного, и тот, кто огорчается этим, есть испытывающий немесиду. Он же огорчается и в том случае, если видит, что кто?либо подвергается бедам незаслуженно… Завистливый поступает противоположно этому: он огорчается при виде благополучия кого бы то ни было, достоин же он его или недостоин, безразлично. Подобно этому злорадствующий радуется бедствию другого, и заслуживающего это и не заслуживающего». Добродетелью называет немесиду и Плутарх, понимая под ней негодование против тех, которые пользуются благополучием незаслуженно, когда они, распаляемые безумием и наглостью, должны быть смирены.
Другое религиозное представление Геродота, еще больше сближающее его с двумя древними трагиками и сообщающее всему труду религиозно – этический характер[146 - Там же, 211. 56.], – это представление о немесиде божества, или о справедливом, соответствующем вине возмездии. «За тяжкие обиды следуют от богов и тяжкие наказания», – замечает историк по поводу гибели троянцев за оскорбление Менелая Парисом. То же самое положение высказывает Геродот в конце IV книги по случаю ужасной смерти жестокосердной Феретимы: «Чрезмерная месть ненавистна богам». Орет погибает в наказание за умерщвление Поликрата[147 - III, 128. 126.]. Обходя естественные причины болезни и смерти Клеомена, историк замечает, что он наказан за Демарата[148 - VI, 75. 84; V, 42.]; за Демарата же погиб и Леотихид. Смерть Леонида наказана смертью Мардония[149 - VIII, 114; IX, 64.]. Пеласги наказаны за жестокость относительно афинских женщин и детей их[150 - VII, 139.140.]. Крез потерпел несчастье за убийство Кандавла предком его в пятом колене[151 - I, 13. 91.]. Интересный в этом смысле случай представляет наказание богами жителей Аполлонии за обиду, несправедливо нанесенную ими пастуху Евению[152 - IX, 92.94.]. Историк уверен, что Афины должны были понести наказание за умерщвление глашатаев, он не знает только, какую из постигших Афины бед считать возмездием за это преступление[153 - VII, 133.]. Камбис умирает от того самого меча, каким он смертельно поразил Аписа[154 - III, 64.]. Случай с спартанцем Главком рассказан афинянам с целью убедить, что божество карает в одинаковой мере умысел и самое преступление, преступника, весь дом его и потомство. «У клятвы есть детище, – говорил оракул Главку, – безымянное, безрукое и безногое; клятвопреступника преследует оно с ожесточением, пока не настигнет его, не сокрушит всего его потомства и всего дома». Пифия при этом добавила, что испытывать божество и совершить грех – одно и то же. Главк убоялся грозных речей пифии, возвратил утаенные им деньги; однако «нет более потомков Главка, нет и дома, который почитался бы Главковым: с корнем вырван он из Спарты».
И это представление о воздающем божестве, причем мстительность богов постигает не одного виновного, но простирается на все потомство его, на его родину и т. п., не только разделялось нашим историком с трагиками, но и отвечало господствовавшим в Афинах правовым отношениям. Если так было два – три десятка лет после смерти Перикла, то, разумеется, во время Геродота и для него самого воздаяние равной мерой тем более представлялось верховным законом справедливости. «В прекрасных и ясных речах Лисия, – замечает Тониссен*, – составленных четверть века спустя после смерти Перикла, единственным источником и исключительной целью уголовного права является месть и устрашение».
И с этой стороны Геродотово божество не возвышается над антропоморфическими религиозными верованиями и представляет наследие тех житейских отношений в эллинском обществе, когда личная месть составляла единственное начало правосудия. Отправление божеского правосудия называется у него воздаянием равного. В римском праве существовал особый термин для такого рода наказания, talio, что, по объяснению Исидора*, означает возмездие око за око. В позднейшее время talio было узаконено только за некоторые преступления, главным образом за ложный донос. В самом труде Геродота мы находим характерный пример talionis без вмешательства богов. Так, жители Аполлонии приговорили пастуха Евения к лишению зрения за то, что он заснул на страже и тем допустил волков в стадо овец[155 - IX, 93.]. Два благородных спартанца добровольно изъявляют согласие смыть своей смертью тяготеющую над родиной вину – умерщвление глашатаев Дария[156 - VII, 134.]. Персы жгли эллинские храмы в отмщение за то, что эллины сожгли прежде храм Кибелы в Сардах[157 - V, 102. Ср.: II, 78.]. Гермотим за нанесенную ему обиду отомстил больше всех людей: жертвой мести был не только Панионий, обидевший Гермотима, но и четыре сына его[158 - VIII, 105.]. В гневе на Ликида афинские женщины умертвили жену его и детей[159 - IX, 5.]. Женам виновных баркейцев Феретима отрезала груди и утыкала ими городскую стену[160 - IV, 202.]. Несомненно, эта именно черта людского примитивного суда гораздо раньше Геродота перенесена была на эллинское божество, от которого, по убеждению историка, не может быть скрыто никакое преступление. Человека, обреченного на гибель, божество обманывает, «отнимает у него разум», внушает ему преступные намерения и таким образом ускоряет решение его участи. Божество помрачило раcсудок Астиага; Аполлон в Бранхидах дал вопрошающим ложный ответ, чтобы довести народ их до ненавистного богам деяния и тем самым скорее погубить[161 - I, 127.]. Египетский царь Сабак не следует внушению сновидения, будучи уверен, что божество советует ему совершить злодеяние для того, чтобы подвергнуть его какому?либо бедствию от богов или от людей[162 - II, 139.]. Нагляднее всего такое свойство божества обнаружилось в отношении к Ксерксу во время сборов его в поход на Элладу, когда настойчиво и неоднократно, обещаниями и угрозами божество побуждало персидского владыку к войне с эллинами, которая должна была кончиться позорным для него поражением[163 - VII, 12.19.]. Вполне согласно с таким верованием Геродот недоумевает по поводу несчастий людей, которые за свои добродетели должны бы пользоваться благополучием, и всячески старается оправдать или объяснить незаслуженные катастрофы[164 - I, 91. II, 129. 133. IX, 15 сл.]. Вообще божество у Геродота, так же как и у трагиков, является гораздо более грозным и карающим, нежели помогающим и награждающим. В одном только пункте историк уклоняется от народного верования, не одобряя, подобно Феогниду*, наказания детей за родителей[165 - VII, 137.].
Благость, всепрощение, непротивление злу не имели места в системе воззрений Геродота; положение «око за око, зуб за зуб» составляло основу его морали, но и чрезмерная мстительность также подлежит наказанию[166 - IX, 79. IV, 205.].
Хотя завистливость божества и немесида – понятия между собою не сочетаемые, но оба эти свойства, особенно первое, обусловливают деятельную роль богов в судьбах отдельных личностей и целых общин, народов и государств. Человек нуждается в точном знании воли божества и его настроения ввиду того или иного предприятия или поведения другого. Отсюда чрезвычайно частые случаи людских молений богам, жертв, чудесных знамений, сновидений, изречений оракулов; каждый раз, по убеждению Геродота, человеку необходимо испытать все средства как для умилостивления богов, так и для определения их решения.
Однако тот же Геродот исповедовал и такие верования, которые находятся в непримиримом противоречии с вышерассмотренными представлениями его о богах, об изменчивости их решений, о жертвах, молитвах и т. п. Это – прежде всего понятие о судьбе, о непреложности ее исконных определений. «Так должно случиться, и ни человек, ни само божество не в силах отвратить или изменить неизбежное», – такова ясно выраженная формула Геродотова понятия о роке[167 - I, 91.]; в другом месте фиванец Аттагин замечает, что человек не может отвратить того, чему быть решено божеством[168 - IX, 16.]. Самое покушение отвратить веления рока наказывается божеством[169 - VII, 17.]. Никакие жертвы не могут изменить определений судьбы[170 - III, 43. 64–65. 154. Судьба у Геродота то властвует над богами, то отождествляется с божеством.]. То же самое понятие о неотвратимости определений рока или (?) божества выражено Геродотом и в нескольких еще других случаях. Иногда он довольствуется безличными равнозначными выражениями: «должно» или «не должно было случиться», «будущее неотвратимо».
Столь же мало согласуется с изменчивостью в настроении богов и четвертое религиозное понятие историка – божеское провидение, или промысел божий (??? ????? ? ???????). Само название богов, ????, предполагает, по его мнению, установление богами известного порядка и определенных правил для всего существующего[171 - II, 52.]. В другом месте историк замечает, что промысел божий, как и подобает ему, мудр и целесообразно создал животных, полезных человеку, многоплодными, а вредных – малоплодными[172 - III, 108.].
Понятно, что как роковая, непреложная необходимость всего совершающегося, так и все разумно устроивший промысел божий исключают верование в случайность, в непрестанное, деятельное вмешательство сверхъестественных существ в окружающее, особенно по внушению зависти или мстительности, с одной стороны, под влиянием молитв, жертвоприношений и т. п. – с другой.
Мы не последуем за теми учеными, которые стараются свести все эти разнородные представления древнего историка к общему началу и расположить их в несвойственном им порядке внутренней последовательности и преемственности. Напротив, мы обращаем внимание на эту черту миросозерцания Геродота, как на одну из характерных особенностей недостаточно дисциплинированного ума. Чем ниже спускаемся по ступеням образованности, тем примеры допущения не согласующихся между собою представлений становятся многочисленнее и очевиднее. Так, гомеровские эллины представляли себе покойников то в виде совершенно невещественных теней, то в виде полувещественных обитателей преисподней, пьющих жертвенную кровь, проливающих слезы и т. п. Относительно евреев Спенсер* отмечает, что «они приписывают духам то вещественность, то невещественность, то нечто среднее между той и другой. Например, воскресший представляется им в одно и то же время и как обладающий ранами, допускающими осязательное исследование, и как проходящий тем не менее совершенно беспрепятственно через запертые двери и через стены. Подобным же образом представляли себе евреи и других сверхъестественных существ вообще, как добрых, так и злых, как тех, которые были ожившими мертвецами, так и тех, которые были независимыми духами. Так, ангелы описываются ими то как существа вполне телесные, то как существа бестелесные, например, в тех случаях, когда они невидимо реют в окружающем воздухе подобно демонам, о которых утверждается то же самое; в других местах об ангелах говорится, что они имеют крылья, предполагающие перемещение посредством механической деятельности, и что они трутся об одежды раввинов в синагоге, отчего эти одежды изнашиваются и оказываются потертыми снаружи».
Несогласованность представлений Геродота и через то непоследовательность в изложении идут, впрочем, еще дальше. Так, несмотря на решительное выражение той мысли, что определения рока или божества неотвратимы, у него же встречаются случаи противоположного свойства: бедствие лидийского царя Креза отсрочено вопреки определению судьбы на три года[173 - I, 91.]. Дельфийское божество переменило неблагоприятное предсказание на благоприятное только после усиленных просьб к нему афинян[174 - VII, 141.]; благоприятные предзнаменования спартанцам получены были только после молитвы Павсания к Гере[175 - IX, 61.62.]. Потом, несколько раз Геродот считает безумные и жестокие поступки Камбиса последствием его болезни, умопомешательства, между тем как постигшую его гибель явно приписывает божескому вмешательству[176 - III, 33. 38. 64. Напрасно Штейн старается ослабить значение скептицизма нашего историка относительно болезни Камбиса: и для Геродота Апис – божество. Совершенно верно Штейн отмечает, что Геродот по забывчивости следует двум различным вариантам сказания. Дж. Грот* отмечает, что о Миносе Геродот выражается обыкновенно как об исторической личности, в некоторых местах отделяет его от человеческой расы.].
Что касается общего отношения нашего историка к народным эллинским божествам, то оно нигде не выражено им ясно и категорически. Во всяком случае, Геродот не отвергает народных политеистических верований своих соплеменников и, как мы видели выше, не смущается близостью их к человеку, их чисто человеческими слабостями. В то же время нельзя сомневаться, что он не разделял многих народных представлений о богах, что многие черты их и поступки он считал делом вымысла поэтов, преимущественно Гомера и Гесиода. Понятие о богах, все устроивших и распределивших, эллины, по убеждению историка, наследовали от пеласгов; уже эти последние большей части своих богов дали наименования, позаимствованные от египтян вместе с культами их[177 - II, 49.52.]. «Однако откуда произошли боги, – замечает он, – всегда ли они существовали, каковы лики их, элинны ничего этого не знали, так сказать, до самого недавнего времени. Действительно, я полагаю, что Гесиод и Гомер жили раньше меня не более как за четыреста лет; между тем они составили для эллинов родословную богов, снабдили имена божеств эпитетами, поделили между ними достоинства и занятия и начертали их образы. Что касается поэтов, именуемых более древними, нежели Гесиод и Гомер, то, мне кажется, они были позже их. Первая часть этих сведений сообщена додонскими жрецами, вторая относительно Гесиода и Гомера принадлежит мне»[178 - Там же, 53.].
В значительной мере спиритуалистическое мировоззрение Геродота обнаруживается в том предпочтении, с каким он употребляет нарицательные термины: бог, божество, ????, ?????, ??????, ?????????, а не собственные имена отдельных божеств, равно как и в косвенном одобрении персидских религиозных верований, не допускающих в противоположность эллинам ни кумиров, ни храмов, ни алтарей[179 - I, 131.].
Если вера афинских трагиков в божества деятельная, непрестанно вмешивающаяся в судьбы смертных, немало препятствовала глубине психологического анализа, обстоятельной мотивировке поведения действующих лиц их свойствами и окружающей обстановкой, то в не меньшей степени и глубокая вера Геродота в личное, деятельное божество мешала историку вникать в естественную причинную связь явлений, делала излишней характеристику исторических деятелей. Наиболее поразительный случай в этом отношении представляет заключение историка о болезни и смерти упомянутого уже Клеомена, будто бы наказанного таким образом за Демарата[180 - VI, 72. 84.]. Вместо того чтобы объяснить то или другое явление в его естественных условиях, автор усматривает в нем чудесное знамение, назначенное к предвещению какого?либо бедствия. «Если какому?нибудь государству или народу угрожает большое несчастье, – замечает Геродот, – то божество дает знать об этом заранее посредством знамения», и затем рассказывает, как жестокое поражение хиосцев на море и другие невзгоды их были предсказаны гибелью девяноста восьми из ста тех юношей, которые были посланы в Дельфы, как около того же времени на том же острове обрушилась крыша в училище и задавила сто девятнадцать хиосских мальчиков[181 - Там же, 27.]. История смерти Камбиса и воцарения Дария почерпнуты Геродотом из поэтических сказаний, несмотря на внутренние противоречия этих сказаний и на несогласуемость их с персидскими учреждениями; но зато в этих сказаниях много чудесного и необыкновенного[182 - III, 64.67. 80.87.]. Сновидениями, знамениями и призраками, небывалыми речами персидских вельмож о зависти богов и непостоянстве счастья обставлены сборы Ксеркса к новому нападению на эллинов[183 - VII, 6 сл.].
Если мы вспомним, что от главного предмета своего труда, от эллино – персидских войн, равно как и от большей части упоминаемых там событий и лиц Геродот был отделен несколькими десятками лет, что почти единственными источниками его сведений были сложившиеся за это время народные или фамильные предания, а также рассказы некоторых очевидцев, то мы вынуждены будем признать, что наклонность к чудесному, представление зависти и немесиды богов оказывали сильное, во многих случаях решающее влияние на выбор вариантов, на предпочтение таких рассказов, которые наиболее отвечали субъективному религиозно – этическому настроению историка. Так, Геродот охотно принял то народное предание, по которому в западной Азии видно было затмение солнца в 480 году до Р. X., тогда как на самом деле оно случилось двумя годами позже, 16 февраля 478 года. Но самому историку нужно было перенести это чудесное явление на два года назад, как роковое знамение перед выступлением Ксеркса в поход[184 - Там же, 37.]. По тому же самому побуждению он с полной верой отнесся к местному сказанию делосцев о землетрясении, будто бы однажды только испытанном этим островом непосредственно по отплытии оттуда Датиса[185 - VI, 98.]. Фукидид, очевидно имея в виду это место своего предшественника, решительно замечает, что никакого землетрясения на острове не было раньше времени, ближайшего к Пелопоннесской войне[186 - II, 8.]. Подобно этому историк принял на веру поэтический рассказ о посещении Амасиса и Креза Солоном, хотя он находится в явном противоречии с хронологическими данными: путешествие Солона, о котором у историка идет речь, могло приходиться на 593–583 годы до Р. X., между тем как Амасис вступил на царство только в 570–м, а Крез в 560 году, то есть за двадцать – двадцать пять лет до путешествия афинского законодателя[187 - I, 29. II, 177.]. Рассказ был сочинен каким?нибудь моралистом, а Геродоту он показался несомненным только благодаря тому, что согласовался с его воззрениями на человеческое счастье и непрочность его.
Под влиянием того же религиозно – моралистического настроения историком нашим неверно освещены некоторые национальные черты персов и их поведение на войне. Исходя из того убеждения, что поражение персов эллинами было заслуженным от богов уничижением их[188 - VIII, 13. 109.], историк приписывает им во многих случаях такую религиозную исключительность и бессмысленную жестокость, которая не находит себе подтверждения в наших сведениях о персах. Так, в рассказе о взятии Афин Ксерксом Ктесий не только не упоминает об избиении афинских старцев в храме и об ограблении святилища, но даже отмечает то обстоятельство, что персы сожгли город, покинутый населением за исключением акрополя; только после того, как ночью бежали отсюда последние воины, сожжен был и акрополь. Напротив, для Геродота подробность эта имела большое значение, как отвечающая общей тенденции его труда: кощунство и святотатство варваров, ограбивших святилище, умертвивших тех старцев, которые в качестве молящих о защите (??????) искали убежища в храме, не могли остаться без отмщения[189 - VIII, 53. Об отношении к молящим см. V, 51; VII, 141.], как у Эсхила, так и у нашего историка неоднократно выражена мысль, что персы оскорбляли эллинские святыни, разрушали и сжигали храмы, за что и наказаны богами[190 - VI, 9; VII, 8; VIII, 109. 143.]. Что кощунство персов преувеличено, с успехом доказал уже в XVIII веке Валькенар*; это ясно видно из самого Геродота, потому что и он мог привести только весьма немногие случаи оскорбления святынь персами[191 - VI, 19. 96. 101; VIII, 33. 53.]. Равным образом не подлежит сомнению, что рассказ о покушении персов ограбить и уничтожить дельфийский храм сильно преувеличен и приукрашен[192 - VIII, 36.37.], с чем соглашается такой почти безусловный почитатель нашего историка, как издатель и комментатор Бэр.
Не касаясь других примеров, более или менее спорных, нельзя на основании вышесказанного не прийти к заключению, что не только точность и обстоятельность в объяснении событий, но и сама достоверность Геродотова повествования немало потерпели от господствующей в его труде религиозно – этической тенденции, и что «Музы» его представляют характерный образец неизбежной зависимости исторического сочинения, его особенностей и относительных достоинств, от мировоззрения автора и известной части его современников, даже при всем желании и старании историка повествовать только правду. Отмечаемая нами черта тем более знаменательна, что национальная или религиозная нетерпимость совершенно чужда Геродоту; Псевдо – Плутарх иронически называет его даже расположенным к варварам (????????????). Только писатель, чуждый национальной или племенной узости, способен был с таким вниманием относиться ко всему иноземному и передать потомству такое обилие сведений о «варварах»: о египтянах, персах, ассирийцах, даже о скифах и др. В огромном числе случаев он отзывается с похвалой об учреждениях иноземцев, признает за ними первенство перед эллинскими, рассматривает эллинские культы в зависимости от египетских, отдает предпочтение верованиям персов перед эллинскими, превозносит любовь персов к истине, а главное – для всех народов без исключения он исповедует одинаковые правила высшей морали, соблюдения меры во всем, в то же время признавая полную законность привязанности каждого народа к своим обычаям, причем не стесняется подкреплять свое положение на примерах индийских дикарей и эллинов[193 - III, 38.].
И в другом еще отношении религиозно – моралистическое настроение Геродота наложило печать на его труд, именно: с особенной охотой он прерывает изложение такими случаями, в которых обличается божеское мироправление, хотя никакого отношения к предмету они и не имеют. Таковы пространные эпизоды об Арионе[194 - I, 23.], Солоне и Крезе[195 - Там же, 30–33. 86–87.], об Адрасте[196 - Там же, 34–45.], Гарпаге[197 - Там же, 108–114. 117–119. 123–124. 127.], о пеонах и перинфянах[198 - V, 1.], Гиппии на Марафоне[199 - VI, 107.], о Гермотиме[200 - VIII, 104.106.], Евении[201 - IX, 93.95.] и, наконец, о Поликрате[202 - III, 39.43.].
Впрочем, степень достоверности Геродота не позволительно преувеличивать еще и по следующей причине; повторяем, историк наш составлял свой труд почти исключительно на основании ходячих преданий, преимущественно, разумеется, афинских, которые в продолжение целых десятков лет изменялись, дополнялись сообразно текущим событиям и меняющимся отношениям между государствами, с одной стороны, и между партиями внутри государств, с другой. На это обстоятельство было указано еще Нибуром, а Нич и Веклейн* предоставили некоторые несомненные примеры односторонности и пристрастия в освещении событий, общин и отдельных героев эллино – персидских войн; по – видимому, соглашается с ними, хотя и в очень ограниченной степени, и Штейн. Симпатии историка к афинянам преимущественно перед прочими эллинами не подлежат спору. Они, по словам историка, первые между эллинами по сообразительности[203 - I, 60.]; они первые стали нападать на врага беглым маршем, обнаружив при этом изумительное мужество[204 - VI, 112.]; историк особенно превозносит афинян как спасителей Эллады и освободителей всех эллинов от варварского ига[205 - VII, 139; VIII, 140. 142. 144; IX, 5. 27.]; ради спасения Эллады, что было главной заботой их, афиняне готовы были поступиться внешними выгодами[206 - VIII, 3.], из среды афинян наибольшим сочувствием его пользуются Аристид, Перикл и вообще Алкмеониды[207 - VIII, 79. 95; VI, 126.128. 131.]. Отсюда иногда пристрастная неблагоприятная оценка политических противников афинской общины и поименованных ее представителей: коринфян, фиванцев и в особенности Фемистокла. Вообще доля участия союзников в отражении варварских полчищ слишком уменьшена Геродотом в пользу афинян, так что некоторые поправки Псевдо – Плутарха оказываются далеко не столь безосновательными, как о них думали ранее, а необыкновенно важные заслуги Фемистокла перед родиной были бы совершенно непонятны, если бы в этом отношении историк наш не был блистательно восполнен своим более строгим и менее лицеприятным преемником.
Словом, мы еще раз убеждаемся, что ни большие природные дарования вместе с любовью к истине, ни обширные приобретенные знания, ни сама склонность к критике не в состоянии были сделать из Геродота историка прошлого, даже недалекого прошлого, в строгом нынешнем смысле слова. Геродот был основательно знаком с эллинскими поэтами, начиная от Гомера и кончая Эсхилом, и отчасти, должно быть, Софоклом, с Гекатеем и, вероятно, с прочими предшественниками – прозаиками, и находился под некоторым влиянием софистов[208 - Рассуждения трех персидских вельмож о различных образах правления, на достоверности которых настаивает историк (III, 80–82; VI, 43) вопреки своим критикам, нет необходимости отвергать как сочиненные будто бы по образцу софистических упражнений. Народное самоуправление в Персии, как и у эллинов, было первоначальной формой общественных отношений.]; он располагал обширнейшим материалом в виде рассказов свидетелей и народных преданий, превосходил большинство своих современников по степени разборчивости и критики, – однако всего этого было недостаточно для точного восстановления старины, для этого требовались такие приемы и методы исследования, до каких не дожили ни эллины, ни римляне и которые вырабатываются только в наше время.
Если в заключение спросим, какие общественно – политические убеждения исповедовал наш историк, просвещенный, гуманный и терпимый, то в труде его найдем бесспорные свидетельства о наибольшем расположении его к демократической форме правления и об отвращении к тирании. Если решительная речь Отана против единовластия и в пользу демократии умеряется двумя следующими не менее, быть может, убедительными речами Мегабиза и Дария в пользу олигархии и единовластия[209 - III, 80.82.], то те же самые общие положения, которые высказаны в первой из трех речей и подкреплены там одним только примером Камбиса, развиты обстоятельнее и обоснованы всей историей коринфской общины в пространной речи коринфянина Сокла, причем, по замечанию историка, все союзники Спарты разделяли мнения оратора[210 - V, 92. 93.]. На предложение спартанцев водворить снова тиранию в Афинах и возвратить туда Гиппия отвечал речью один из коринфян. «Наверное небо опустится под землю, а земля поднимется высоко над небом, – сказал Сокл, – люди станут жить в море, а рыбы займут места людей, если вы, лакедемоняне, решитесь упразднять в государствах равноправие и восстанавливать тиранию: у людей нет ничего кровожаднее тирании и ничего преступнее». Оратор предлагает лакедемонянам испытать тиранию на самих себе, будучи уверен, что после того они не посоветуют ее другим. Засим он рассказывает, как некогда олигархия сменилась в Коринфе владычеством тирана Кипсела, который по достижении власти многих отправил в ссылку, у многих конфисковал имущество и еще большее число лиц казнил. Преемник его Периандр оказался еще кровожаднее; для упрочения своей власти он решил истребить всех выдающихся граждан и совершал всевозможные жестокости. «Кого не умертвил и не изгнал Кипсел, те были умерщвлены и изгнаны Периандром. Сверх того, однажды он велел ради жены своей Мелиссы обнажить всех коринфских женщин». Ввиду этого оратор именем богов заклинает лакедемонян отказаться от намерения восстанавливать власть Гиппия в Афинах; к голосу его присоединились мольбы всех союзников – не учинять переворота в эллинском государстве. Тем и кончилось покушение Гиппия возвратиться в Афины. В других случаях тирания называется рабством, которое держится в эллинских городах на иноземной силе персов и освобождение от которого изображается как величайшее благо[211 - IV, 133. 136.137. 142; V, 78. 91; VI, 11.]; сама по себе власть тирана не прочна[212 - III, 53.]. С истинным красноречием высказывается сам историк в том же смысле по поводу водворения Клисфеновой демократии в Афинах на место тирании Писистратидов. «Афины, – замечает он, – были могущественны и прежде, а теперь, по освобождении от тиранов, сделались еще могущественнее». Следовавшие вскоре военные успехи афинян в войнах с беотийцами и халкидянами Геродот ставит в причинную связь с реформой и заключает свой рассказ следующими словами: «Так увеличилось могущество афинян. Впрочем, не один только этот, но вообще все случаи доказывают, как драгоценно равноправие: пока афиняне находились под властью тиранов, они не могли одолеть в войне никого из своих соседей, а по освобождении от тирании стали далеко сильнее всех. Это показывает, что под гнетом тирании они были нерадивы, как бы работая на господина; потом, когда стали свободными, каждый из них работал с усердием для собственного же блага»[213 - V, 78.].
Если не основанием, то во всяком случае самым убедительным оправданием такого предпочтения народному самоуправлению перед деспотизмом было для Геродота позорное поражение персов и победное торжество Эллады, в особенности афинской демократии. Та же мысль сквозит и в трагедии Эсхила, в ответе хора на вопрос Атоссы: «Афиняне не называются ни рабами чьими?либо, ни подчиненными»; вместе с тем трагик не жалеет темных красок на изображение деспотического строя персидского государства. Впрочем, Геродот наблюдал превосходство Афинской республики над прочими частями Эллады не только в военном отношении; судя по приведенному выше месту о последствиях упразднения тирании в Афинах, следует заключить, что народная энергия и умственная производительность афинян вообще представлялись ему в зависимости от демократического строя их общины. Глубочайший и всестороннейший знаток античной литературы и гражданственности Август Бёк* несомненно живо представлял себе умонастроение Геродота, когда писал: «Древность поучает нас истинной свободе и настоящим принципам ее; она показывает негодность абсолютизма и охлократии; кто изучил политические учреждения древности, тот не будет потворствовать ни одной из этих крайностей, ни деспотизму, ни утопиям социализма, которые древность уже пережила и победила». Разумеется, заключение Бёка не может быть принято целиком, без оговорок, оно свидетельствует только о том неотразимом впечатлении, которое сочинения, подобные геродотовскому, производили на мощных представителей европейской науки.
Все сказанное о Геродоте и его предшественниках приводит нас к следующим положениям: во – первых, скудость точных биографических известий в связи с отрывочностью наших сведений об особенностях прозаической историографии того времени и о последовательном ее совершенствовании делает для нас пока невозможным проникнуть с достоверностью в сокровенные подробности и приемы литературного творчества «отца истории».
Во – вторых, насколько труд Геродота важен по богатству содержащихся в нем сведений, настолько же он имеет значение, как выразительный памятник известного культурного состояния современного ему общества в лучших его представителях. Отсюда некоторые особенности Геродотовой истории, сближающие ее с другими продуктами тогдашней жизни эллинов, преимущественно афинян. Любознательность и обширность сведений вместе со склонностью к критике внушили Геродоту скептическое отношение ко множеству ходивших в народе басен о стародавнем или отдаленном и тем усиливали в современниках и потомстве требования вероятности и достоверности. Однако ошибочно было бы приписывать ему какое?либо последовательное, цельное миросозерцание; напротив, мы замечаем в его труде присутствие руководящих понятий различных порядков, которые уживались в нем так же легко, как и во многих его современниках. Сами эти понятия, хотя и сообщали историческому труду его небывалую дотоле, весьма, правда, относительную степень единства, оказывались далеко не благоприятными не только для точного объяснения явлений, но и для подбора материала. Тенденциозность присуща многим частям истории Геродота, как географическим, так и в особенности историческим; непоследовательность в изложении отличает не только воззрения автора, но и приемы изысканий.
В – третьих, если достоинствами своими труд Геродота обязан главным образом личным качествам автора, то недостатки его оправдываются в значительной мере общим состоянием знаний в то время. Достоверные источники о прошлом известны были лишь в самом ограниченном количестве, обучение иностранным языкам было чуждо тогдашнему обществу, поэтические произведения, народные предания, устные и записанные, и рассказы туземцев составляли почти весь материал для исследователя старины, даже недалекой; поверхностное, хотя и личное наблюдение внешнего вида местности было главнейшим источником географических знаний в то время. Субъективный рационализм заступал место критики. Благодаря добросовестности и обстоятельности в передаче виденного и слышанного, Геродот сохранил множество сведений, имеющих важное значение и при нынешнем состоянии знаний, и подтверждаемых в значительном количестве новыми изысканиями и открытиями.
В – четвертых, подобно другим дофукидидовским прозаическим писателям (логографам), Геродот в расположении материала следует одновременно двум порядкам, хронологическому и топографическому, причем вводит в свое повествование множество таких предметов, которые или не имеют никакого отношения к главной, исторической задаче, или же отношение это лишь самое отдаленное. Отсюда энциклопедизм и эпизодичность изложения, свидетельствующие о несовершенстве группировки данных, имевшихся в распоряжении у автора. «Нижеследующие изыскания Геродот Галикарнассец, – замечает историк во вступлении, – представляет для того, чтобы от времени не изгладились из нашей памяти деяния людей, а также, чтобы не были бесславно забыты огромные и удивления достойные сооружения, исполненные частью эллинами, частью варварами, главным же образом для того, чтобы не забыта была причина, по которой возникла между ними война». Вражда между Азией и Европой, главным заключительным актом которой были эллино – персидские войны, составляет руководящую нить в изложении, первоначальным историческим моментом вражды он называет покорение малоазийских эллинов Крезом, царем Лидии, и потому труд его начинается с истории этой страны, оканчивающейся подчинением ее Персии. Отсюда исторические судьбы персидского народа и его владык в многообразных отношениях к различным народам определяют дальнейший подбор материала. Страны и народы, с которыми приходят персы в столкновение, описываются историком в их настоящем и прошедшем: эпизоды о Вавилоне и Ассирии, о Египте, Скифии и некоторой части Ливии. Собственно эллино – персидская война, начавшаяся восстанием ионян в Малой Азии, излагается у Геродота в пяти последних книгах, из которых только три (VII?IX) заняты походом Ксеркса на Элладу и спасением эллинов от порабощения персами. Однако и в эти широкие рамки вмещается не весь материал: по всему труду разбросаны в большом числе эпизоды, выступающие за пределы общего плана. Более строгим единством отличается последняя часть труда, хотя и в ней есть множество более или менее пространных эпизодов[214 - VII, 110.113. 196.200; VIII, 43.49. 72.74; IX, 77. 106.120.]. Что при уклонении в сторону историк мало смущался нарушением единства в изложении, видно из обещания его остановиться подольше на Египте потому, что он представляет много интересного и необыкновенного[215 - II, 35.]. По такому же побуждению, а не только вследствие близости к главной задаче, Геродот занимается Самосом[216 - III, 60.], наконец, в одном месте он считает даже излишним мотивировать отступление[217 - IV, 30.]. Этим совмещением в труде Геродота приемов прочих логографов со стремлением к объединению объясняется двойственность суждения о нем со стороны Дионисия Галикарнасского: он то отличает нашего историка от них, то зачисляет его в один ряд с ними. По справедливому замечанию Штейна, «Геродот столь же мало удовлетворяет требованиям строгой и достоверной истории, как и любой из его предшественников и современников, в смысле осмотрительного собирания и оценки наличного исторического материала, выбора предметов и событий на основании одинаковых, соответствующих задаче принципов, отделения в предании существенного и главного от второстепенного и случайного, точного установления времени и хронологической последовательности и даже в смысле достаточно глубокого понимания предметов и личностей, внутренней связи и побудительных причин». Но неоспоримое преимущество Геродота перед прочими логографами состояло в несомненном предпочтении его к современности и к прошлому историческому, а не мифическому, а также в старании объединить разнородный материал общей задачей и общими идеями. Если Фукидид более Геродота удовлетворяет нашему понятию достоверного историка, то не следует забывать, что задачи Фукидида были гораздо скромнее и что его история Пелопоннесской войны не может даже и сравниваться с Геродотовыми «Музами» по обилию и разнородности материала, по тому интересу и значению, какой представляет труд Геродота для историка не только Эллады, но человеческого развития вообще. Можно быть уверенным, что звание «отца истории» останется за Геродотом навсегда: если оно присвоено ему одним из просвещеннейших людей древности, имевшим возможность сравнивать повествование Геродота с трудами других логографов, то дошедшие до нас отрывки Гекатея, Гелланика или Харона не содержат в себе ровно никаких оснований для перенесения этого титула с галикарнасского историка на кого?либо из его предшественников или современников. В древнеэллинской историографии Геродот занимает такое же место, какое принадлежит в истории древнеэллинской драмы Эсхилу, «отцу аттической трагедии». Он первый дал опыт мировой истории, все части которой соединены между собою широким для того времени чувством гуманности и высказанным впервые общим пониманием судеб человеческих. От начала до конца повествование его проникнуто одними и теми же воззрениями в приложении ли к варвару или эллину, к настоящему или к давнему прошлому; от начала до конца проходит господствующая над всем изложением мысль об исконной распре между мидянами и эллинами. В каком бы первоначальном виде ни был собранный материал, историк переработал его по этому общему плану, под руководством этой единой мысли. Не везде задача историка разрешена с равным искусством, не все подробности в целом ряде картин приведены в гармонию, но нужно помнить, что начатое Геродотом дело построения общей истории человечества остается не довершенным по настоящее время. Автор статьи «Times», написанной по поводу издания Роулинсонов и Уилкинсона* в 1858 году, так выражается о плане Геродотовой истории: «История мира изобилует внешними событиями, но в ней немного таких периодов, как период патриотической муки, вынесенной Грецией в борьбе с варварами. Этот спор вырос постепенно из антипатии племен и упорной вражды Востока с Западом, произвел столкновение между чудовищными массами и далеко не соразмерными им силами, решил дело между свободой и деспотизмом, прогрессом и застоем. Великий царь стянул силы Азии и ударил ими на горсть ожесточенных и твердых сердец, от сопротивления которых зависела будущность цивилизации в Европе. Геродоту суждено было записать их подвиги и прославить их победу. С этим он соединил обширный план истории известного тогда мира и сочетал между собою две избранные темы легко и стройно. В заданной теме или в себе самом находил он основание вносить в свою книгу событий главные факты и сведения о роде человеческом. Он вник в первобытную жизнь племен, принимавших участие в борьбе, изобразил в блистательных эпизодах их нравы, памятники и успехи, возвысился мыслию до отдаленнейших времен и отдаленнейших земель, даже за пределы мифа, и свел разными потоками в один канал свои сокровища, кажется, с одною целью, чтобы прославить победителей».
Федор Мищенко
Геродот
История
Книга первая
Клио
Введение и мифическая старина Лидии (1–5). История Лидии от Креза: переход власти от Гераклидов к Мермнадам (6–13). Царствование Гигеса, Ардиса, Садиатта, Алиатта; отношения их к эллинам; случай с Арионом (14–25). Крез, посещение его Солоном (26–33). Домашние бедствия Креза; испытание оракулов (34–52). Приготовления к войне с персами; обращение к афинянам и спартанцам и дела сих последних (53–70). Война с персами, падение Сард, порабощение мидян персами; судьба Креза (71–94). Азия до господства персов: владычество ассирийцев, история мидян; Кир до завоевания Мидии (95–129). Покорение мидян персами; нравы и обычаи персов (130–140). Города ионян и эолийцев (141–153). Завоевания Кира на материке и островах (154–177). Ассирия с Вавилоном, покорение Вавилона, достопримечательности Ассирии (178–200). Поход на массагетов; гибель Кира; нравы массагетов (201–216).
1. Нижеследующие изыскания Геродот из Галикарнасса представляет для того, чтобы от времени не изгладились из нашей памяти деяния людей, а также чтобы не были бесславно забыты огромные и достойные удивления сооружения, исполненные частью эллинами, частью варварами, главным же образом для того, чтобы не забыта была причина, по которой возникла между ними война.
Персидские ученые утверждают, что виновниками распри были финикияне, именно: прибыв от так называемого Эрифрейского моря к Нашему* и поселившись здесь в той земле, которую занимают и теперь, финикияне немедленно обратились к мореплаванию в далекие страны; с египетскими и ассирийскими товарами они заходили в разные земли, между прочим и в Аргос. Аргос в то время был в нынешней Элладе первенствующим во всех отношениях государством. По прибытии сюда финикияне занялись продажей своих товаров. На пятый или шестой день, когда все почти было продано, пришла на морской берег в числе других женщин дочь тамошнего царя Инаха по имени Ио, – так называют ее и эллины. Расположившись у кормы, женщины покупали товары, какие наиболее нравились каждой из них. Тогда финикияне, согласившись между собой, кинулись на женщин; большая часть их спаслась бегством, но Ио вместе с несколькими другими была захвачена финикиянами. Бросив женщин на корабль, они отплыли к Египту.
2. Так прибыла в Египет Ио, по рассказам персов; но не так повествуют о том эллины. По словам персидских ученых, это была первая обида. После того, продолжают они, несколько эллинов высадились у финикийского города Тира и похитили здесь царскую дочь Европу; племени эллинов персы не знают; должно быть, это были критяне. Таким образом за нанесенную финикиянами обиду эллины отплатили равною обидою. После этого новую несправедливость совершили эллины: на длинном корабле они прибыли в Эю, что в Колхиде, на реке Фасис, и там по исполнении возложенного на них поручения похитили царскую дочь Медею. Царь Колхиды послал было в Элладу глашатая с требованием дочери обратно и удовлетворения за ее похищение; но эллины на это отвечали, что финикияне ничего не заплатили им за похищение аргивянки Ио, а потому и колхи не получат от них никакого удовлетворения.
3. В следующем поколении, по рассказам персов, сын Приама Александр, узнав о случившемся, возымел желание похитить для себя женщину из Эллады, будучи вполне убежден в безнаказанности похищения, ибо не понесли же наказания похитители – эллины. Похитил он Елену. Эллины прежде всего порешили отправить послов в Азию с требованием возвратить Елену и уплатить пеню за похищение. Но в ответ на эти требования им напомнили о похищении Медеи, с укором, что сами они не заплатили никакой пени и на выдачу похищенной женщины не согласились, между тем как от других желали бы получить удовлетворение.
4. До сих пор с обеих сторон были похищения отдельных лиц, а с этого времени эллины становятся тяжко виновными: они вторгаются с войском в Азию прежде, нежели персы вторглись в Европу. Вообще похищение женщин персы считают делом наглецов, месть же за похищенных, по их мнению, прилична глупцам; благоразумным людям вовсе не подобает заботиться о похищенных, ибо женщины не были бы похищаемы, если бы не желали того сами. Вот почему обитатели Азии, говорят персы, и не обращали никакого внимания на похищение их женщин, между тем как эллины из?за одной женщины – лакедемонянки собрали огромное войско и, придя в Азию, разрушили царство Приама. С этого?то времени персы всегда считали эллинов своими врагами: почитая Европу с эллинами за отдельную страну, они присваивают себе Азию с живущими в ней народами.
5. Так рассказывают персы, называя разрушение Трои причиной вражды своей к эллинам. Относительно Ио финикияне не согласны с персами. Не силою доставили они ее в Египет, рассказывают финикияне, но в Аргосе она вступила в связь с хозяином корабля, потом, заметив свою беременность и не желая открывать ее из страха перед родителями, добровольно отплыла с финикиянами. Таковы рассказы персов и финикиян. Со своей стороны я не стану входить в рассуждение, так ли это было или иначе, но назову лицо, которое считаю первым обидчиком Эллады, и буду продолжать мое повествование, одинаково обозревая малые и большие города, ибо большие некогда города сделались впоследствии малыми, и наоборот: города, значительные в мое время, были прежде малыми. Я знаю, что человеческое счастье непостоянно, а потому и буду упоминать как о больших, так равно и о малых городах.