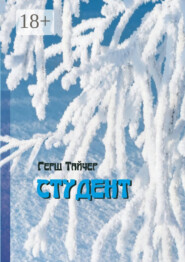По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Стекольщик
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ваша жена звонила несколько раз в течение ночи, в последний раз – не более сорока минут назад. Я сказала ей, что вы ещё спите, а она мне ответила, что в любом случае выезжает из дому и прибудет в больницу к восьми часам.
– Спасибо за информацию, – и когда медсестра уже была в дверях, я добавил: – И ещё, когда я увижу моего врача?
– Он будет делать обход с девяти до одиннадцати, – ответила она и вышла из комнаты. Не успела медсестра закрыть дверь, как мышцы моей шеи расслабились и я уснул.
В бой! Я открыл глаза и увидел свою жену, сидящую на стуле с правой стороны кровати. Она увидела, что я проснулся, взяла мою правую руку в свои руки и сказала:
– Доброе утро, Сол. Я уже говорила с врачом: все результаты анализов хорошие, и мы сможем идти домой через пару дней.
– Как хорошо, Эвита. Мне здесь изрядно надоело. Пить хочу, – проскрипел я, указывая на стакан воды на столике.
– Дети звонили? – спросил я после того, как отпил треть стакана воды.
– Вчера я говорила со всеми. У них всё нормально, только очень заняты, как всегда. Конечно, все спрашивали, как ты себя чувствуешь, и желают тебе быстрой поправки, – она погладила мне руку и продолжила: – Как ты можешь догадываться, все телефоны звонят непрерывно уже три дня.
– Сейчас я не хочу ни с кем разговаривать ни на какие темы, – я соврал маленько, на самом деле я хотел разговаривать, но был не в состоянии. – Всем отвечай, что на следующей неделе я свяжусь с ними. Какой день сегодня?
– Сегодня четверг, 4-е июля. Сегодня День независимости в Америке.
– А для меня 4-е июля – это день, когда сорок девять лет тому назад я впервые покинул своих родителей, свой дом, свой город, – сказал я, сжимая руку жены.
– Как ты просил, я принесла тебе диктофон. Неужели ты не в состоянии подождать несколько дней? – с долей возмущения спросила Эвита и добавила: – Вернёшься домой, и у тебя будут все условия для написания твоей книги.
– Ты же знаешь, что это неправда. Дома я должен заниматься разными домашними делами, а на работе – рабочими. Здесь я уже три дня размышляю над моей книгой и сегодня начну записывать на диктофон.
С одной стороны, мне хотелось говорить с женой о наших детях и на другие темы, которые мы обсуждаем уже более сорока лет. С другой стороны, мне очень хотелось записать на диктофон несколько мыслей, которые с высокой плотностью заполняли мою голову, создавали сильное давление и рвались наружу. Как только жена покинула комнату, я включил диктофон, но ни одного слова сказать вслух не смог. После седьмой попытки слова стали покидать меня, потом стали выстраиваться фразы и предложения, и, наконец, новые мысли стали формироваться.
Глава 1. ГРАВИТАЦИЯ В ПРОШЛОЕ
Черновцы
Секс и эротика должны составлять изрядную долю любой современной книги. Как читатель, я очень требователен к прозе. Однако в моём рассказе, к моему огромному и глубокому сожалению, этому правилу следовать не смогу. В мой школьный период, в СССР в 60-х годах прошлого столетия, и даже позже я никогда и никакого секса не имел.
То, что в моём рассказе не будет никакого секса, я как-то переживу, да и читатель перебьётся. А того, что в школьные годы я не имел никакого секса, не могу простить ни себе, ни девушкам в Черновцах, и особенно той, у которой родители уехали на целый день, оставив ей квартиру. Ну, а насчёт эротики мысли разные, конечно, были, но я их сильно стыдился и считал пороками своего извращенного индивидуального характера.
Я Соломон Абрамович Глейзер, и мой рассказ начинается с города, в котором я родился и который очень люблю. В этом нет и не может быть ничего удивительного. Думаю, что подавляющее большинство людей любит город, в котором они родились, и свои рассказы начинают с этого. Мои родители и бабушки с дедушками родились в Бельцах и очень любили Бельцы. Когда после войны они вернулись в родной город, нашли его сильно разрушенным и были вынуждены переехать в Черновцы.
Город Черновцы имеет свое лицо. В отличие от всех городов, в которых я долго жил или посещал на короткое время в Европе, Америке и в Азии, только Черновцы имеют свое лицо. Даже в сравнении с похожими городами, как Львов и Одесса, у Черновцов есть свое лицо, а у других своего лица нет. Мостовые, выложенные булыжником, кривые улицы с крутыми подъемами и спусками, разнообразные дома и домики, жестяные крыши и разношерстные горожане – всё вместе взятое и составляет лицо города Черновцы. Как удивительно: в какой бы точке города вы ни находились и в какую точку вы ни смотрели бы, всюду были видны прекрасные черты черновицкого лица.
Зимой Черновцы часто укутывались снегом, пахли сыростью и вековой плесенью. Летом клумбы города были усыпаны цветами, пестреющими днём и благоухающими ночью. Осенью в Черновцах все аллеи в парках застилались красно-желтым ковром опавшей листвы, который неповторимо и нежно хрустел под ногами. Весной природа в Черновцах оживала и цвела. Особенно торжественно и многообещающе цвели фруктовые деревья. Многие из них начинали цвести до того, как появятся первые листки. Как будто природа хотела растянуть удовольствие цветения, и в результате разные деревья цвели в разное время.
Месторасположение фруктовых деревьев в Черновцах, по крайней мере, в центральном районе, было мне хорошо известно. Как хороший хозяин в украинской деревне, я знал состояние всех фруктовых деревьев на любом этапе их годового цикла. Самая вкусная и мясистая вишня была на углу, справа от Резиденции.[1 - Резиденция митрополитов Буковины и Далмации, главная достопримечательность города Черновцы.] Слева от Резиденции на углу был Поповский сад. Отличался он огромным деревом черешни. Даже в сезон черешня была горьковатой и оставалась нетронутой ни людьми, ни птицами. Был очень короткий промежуток времени, когда ягоды были переспевшими и сладкими, до того, как птицы успевали их съесть. По этой же улице можно было спуститься метров сто до Третьего сада. Там были алыча, слива и вишня.
Напротив Третьего сада был жилой дом, справа от которого было персиковое дерево, а слева – абрикосовое. За всю мою жизнь в Черновцах мне не удалось съесть или даже увидеть на этих деревьях спелый фрукт. С приближением сезона созревания я почти ежедневно пересчитывал фрукты и пробовал их на мягкость. Когда я видел, что приблизительно половина фруктов уже съедена, я тоже начинал есть их, не смотря на степень спелости.
Если от Третьего сада идти ко мне домой кратчайшей дорогой, на полпути был скверик с бассейном без воды. Я живой свидетель того, что однажды вода там была. К сожалению, через несколько дней, даже не недель, все дети в нашем районе стали чесаться – и воду из бассейна выкачали навсегда.
Там, возле бассейна и вдоль улицы Университетской, были грушевые деревья, а под ними бочка с квасом. В начале 60-х годов лишь несколько семей в нашем районе имели холодильники, и еда покупалась для потребления, а не для хранения. Поэтому квас покупался незадолго до обеда, создавая длинные дообеденные очереди. В другом углу скверика, тоже вдоль улицы Университетской, были два деревца шелковицы. Думаю, что не многим было известно об этом кладе. В сезон плоды шелковицы не поспевали все сразу, и я почти каждый день наведывался туда, съедал спелые и оценивал, когда вернуться за следующей порцией.
Через перекресток от моего дома был Беляевский сад. Это была Мекка для любителей грецких орехов и слив. Весь наш Пятый двор ходил туда, жил там и спал там. Было бы кощунством не вспомнить одно особенное сливовое дерево вблизи баскетбольной площадки. Не многие из нашего двора знали о нём, так как оно давало всего две-три сливы в год. Не помню, в какой год, но мне посчастливилось съесть одну сливу с этого дерева размером с кулак. Я не верю, что человек в состоянии познавать прекрасное, если он ни разу в своей жизни не съел такую сливу.
Все эти «фруктовые походы» были запрещены мне до десятилетнего возраста. До семи лет даже во двор я не ходил, только в скверик физического факультета, который был через дорогу от моего дома. В этом скверике была старая береза с потрескавшимся стволом. Много березового сока было выпито из этого ствола через тоненькие соломинки.
Так же, как я не могу напеть арию «Che gelida manina» из оперы «La Boheme» в исполнении Лучано Паваротти, так же невозможно словами описать пирожки в Черновцах. Но и оставить эту тему, не сказав ни слова, было бы просто несправедливо. Предоставляю минимальную информацию в сжатой форме.
Четыре основных типа пирожков можно определить безошибочно. С мясом по 4 копейки – на пять откусов, если есть среди интеллигентного общества, и на три откуса, если есть в одиночку. Правильная комбинация мяса, теста, специй и прожарки в сочетании с привлекательной ценой делали этот тип пирожков фаворитом у широкой публики. Более изысканными считались пирожки с капустой или повидлом. Они шли по 5 копеек и продавались только в пирожковой, в то время как с мясом «выбрасывали» то тут, то там на разных углах в центре города и у вокзала. Хотя разница в цене была минимальной – одна копейка, люди с математическим уклоном знали, что это составляет 25% по отношению к мясным пирожкам, и это стояло у них поперек горла.
Пирожки с капустой или повидлом были светлее, тесто было сдобным, и, ещё горячие после прожарки, пирожки были покрыты тонкостенными хрустящими пузырьками. Пирожки с горохом были предназначены для избранных гурманов. Тонкие и чувствительные характеристики таких возвышенных предметов выходят за рамки представленного анализа.
Вкусы нынешних жителей Черновцов сильно отличаются от вкусов, бытовавших пятьдесят лет тому назад. Мне не известно, существует ли до сих пор гегемония пирожков в Черновцах. Для тех, кто никогда не был в Черновцах, в ближайшем будущем не планирует там быть и, следовательно, не познает прелестей черновицких пирожков, пропишу следующий, очень эффективный, курс лечения: каждую субботу, после завтрака, на протяжении десяти недель слушать вышеупомянутую арию в исполнении Лучано Паваротти.
В Черновцах жили очень любознательные люди. Конечно, могут возникнуть споры на предмет того, в каком городе люди более и в каком менее любознательные. Для решения этого вопроса необходим объективный тест, желательно с количественной оценкой. У меня есть такой тест, который я применяю во многих городах мира. В центре города, на тротуаре, рядом с высоким зданием, где есть значительный поток пешеходов, я останавливаюсь, задираю голову, и в течение пяти минут смотрю вверх. Почти в любом городе – Черновцы здесь не выделяются – почти все прохожие, за редким исключением, задирают голову, проходя мимо. По истечении пяти минут уже значительная группа стоит и смотрит вверх – со мной или без меня. Теперь все проходящие, без исключения, задирают головы, а некоторые задерживаются на минутку. Как все процессы распада в природе происходят по экспоненте, так проходит и процесс рассасывания толпы, глядящей вверх.
Постоянная рассасывания находится в интервале от четверти часа до нескольких часов. В Черновцах этот эксперимент происходил на углу Центральной площади и улицы Франко, зарождение толпы было в полдень, а распад – к пяти часам вечера. Профессиональный физик или другой ученый мог бы поинтересоваться природой такого длительного рассасывания. В Черновцах это обусловлено нехваткой людей, которые ещё не смотрели вверх на углу Центральной площади и улицы Франко. Любознательность же прямо пропорциональна постоянной рассасывания, ?рас.
Восьмилетняя школа
Работа нашей памяти, с одной стороны, покрывает огромные интервалы времени и пространства, а с другой стороны, – очень выборочна. Десять классов в двух школах, десять счастливых лет, а запомнились только немногие второстепенные детали. Я никогда не делаю заметки, ни на лекциях, ни на важных совещаниях. Уже давным-давно я продумал это, решил и сделал правилом не делать заметок. Важное всегда запомнится, а лишнее не должно засорять память.
Неужели то, что запомнилось со школьных лет, и есть самое важное? Помню, мама записывала меня в школу и я встретил Алика в школьном дворе. В первом классе помню Лену с огромными, сверкающими и очень красивыми глазами. Помню, как директор школы похвалила меня, после того как заглянула в мою тетрадь по каллиграфии. Во втором классе помню, как первоклассница Алла подала мне руку, когда мы играли в ручеёк во время перерыва. Образ её прекрасной руки, наверное, занял очень важную ячейку моей памяти, ту, которая стоит во главе пирамиды прекрасного.
Помню нашу пионервожатую. Таких хороших воспитателей и добрых людей больше нет, не должно быть, это было бы противоестественно в нынешние времена. Помню мою первую учительницу по математике. Она меня никогда не наказывала за озорство на её уроках, потому что знала, как сильно я её люблю и уважаю.
Не могу забыть последнюю ночь перед приемом в пионеры. Мне было очень трудно заснуть, и я боялся не дожить до утра, как тогда мне казалось, самого важного утра в моей жизни. Не забуду и тот день, когда всех моих одноклассников приняли в комсомол, а меня не приняли. Не думаю, что был ещё такой случай по всему Советскому Союзу, когда восьмиклассник страстно желает быть комсомольцем, а ему отказывают, не объясняя причин. То есть была беспричинная причина. Парторг, она же завуч нашей школы, сказала: «Пока я парторг в этой школе – Глейзер не будет комсомольцем». Позволю себе заметить, что наша завуч выглядела как эсэсовский надзиратель в концентрационном лагере – с сильно морщинистой и безгубой физиономией. И ещё отмечу, что я всё-таки вступил в комсомол, и даже дважды, но об этом в другой раз.
Сегодня трудно поверить, что такое могло случиться. Может, легче поверить, что Сталин расстрелял маршала Тухачевского вместе с тысячами верных стране офицеров? Может, обратное и есть правда? Может, действительно маршал Тухачевский был негодяем и предателем? Более правдивой причиной расстрела неоспоримо является популярная в те времена певица Большого театра Вера Давыдова. Проблема со всеми конспирологическими теориями – отсутствие достоверных фактов. У меня же есть своя теория и достоверные факты. На фотографии 1936 года в первом ряду делегаты чрезвычайного 8-го Всесоюзного съезда Советов сидят в следующем порядке: Жданов, Каганович, Ворошилов, Сталин, Молотов, Калинин, и Тухачевский. Только Тухачевский без усов – выпендривается, значит.
В семнадцать лет всё было ясно и просто, но с годами, вместо определённости, всё стало сложно, запутанно и недоверчиво. Помню времена, когда яйца были вредны для здоровья. И действительно, они как-то исчезли из магазинов. Через несколько лет появились яйца в изобилии и все газеты стали писать о пользе яиц. Ещё через какое-то время окончательно решили, что белок – это полезно, а желток – вредно для здоровья, а про скорлупу до сих пор умалчивают.
А разве легче поверить в то, что в школе, в 7-ом классе, донесли на меня, что я присутствовал на похоронах моего деда, где мужчины молились? После чего родителей вызывали в школу для воспитательной работы и написали строгое письмо отцу на работу. Угрожали отца уволить с работы, а меня послать в детский дом, но этого не случилось. В те времена я принимал это за ошибки, которые неизбежны при важных революционных изменениях. Теперь я уверен в фундаментальной причине этого кошмарного социального эксперимента. В Советском Союзе на протяжении многих десятилетий люди регулярно писали доносы друг на друга: сослуживец на сослуживца, сосед на соседа, товарищ на товарища. Ментовская страна! Отмечу однако, что я всегда был и до сих пор остаюсь атеистом, хотя на похоронах в обществе молящихся мужчин продолжаю присутствовать.
Мой брат был старше меня на четыре с небольшим года. В молодости он был очень красивым, похожим на маминых родственников, а я был похож на отцовских. Уродом я себя никогда не считал. Как-то мама сказала мне, что если мужчина красивее обезьяны, то он красавец. После этого я посмотрел в зеркало и убедился, что я не обезьяна. Больше по этому поводу я не переживал. С возрастом мы с братом становились всё более и более похожими, а когда оба полысели, стали выглядеть, как близнецы.
Брат ходил во Дворец Текстильщиков, находящийся в ста метрах от нашего дома, и занимался там народными танцами. Рядом с Дворцом Текстильщиков, на углу Театральной площади, под фонарем, было удивительное дерево. Вечерами во время гололёда это дерево покрывалось льдом и сверкало, как будто было украшено самой Снежной Королевой.
В шестом классе брат привёл и меня в ансамбль народных танцев. Всю мою взрослую жизнь я любил и умел танцевать. Любил от рождения, а умел потому, что учился этому пять лет. Для начала меня определили в балетную группу, так как я был единственным мальчиком и в этой роли был очень полезен для танцев, где участие мужского танцора было незаменимым. Девичье окружение и чувство уникальности удержали меня в балетной группе почти год. После того, как я немножко подрос и подучился танцевать, меня приняли в ансамбль «Юность». С годами я занял ведущее место в этом ансамбле, участвовал в концертах и даже выезжал на гастроли в Киев. Многие девушки в нашей школе часто приглашали меня танцевать. Они очень любили, а я здорово умел покружить их в вальсе то по часовой стрелке, то против, стремительно водить их по танцевальной площадке в ритме фокстрота или дать им почувствовать, хотя бы на несколько минут, что они под полным мужским контролем, в танго.
Пятый двор
Наш Пятый двор был самым большим в городе, окружённый четырехэтажными домами, не считая подвалов и чердаков. Мой дом был построен в 1905 году, так на нём было написано. Строительство других домов было закончено приблизительно в то же время. Строители этих домов решили построить их на века, это было видно. Наш двор занимал отличное стратегическое положение. В радиусе ста метров были Украинский театр, 29-я школа, парк Шиллера, библиотека универа, университетский актовый зал (бывший Еврейский театр), железнодорожники (больница, магазин и клуб), и четыре сквера (биологического факультета, физического факультета, 29-й школы и бассейна). В радиус двухсот метров вписывались школы 1-я и 18-я, экономический институт, дом моего брата, и кинотеатр «Жовтень» (бывшая Большая Синагога).
Я очень люблю наш двор, дом, подъезд и квартиру. А кто же не любит то место, где человек живёт со своей семьёй? Наше жильё отец получил в 1946 году, когда приехал из Бельц, где не было ни работы, ни жилья, а в Черновцах была работа и вытекающее из этого жильё. Наше жильё состояло из двух примыкающих подвалов – один для угля, а другой для дров. Эти подвалы назывались полуподвалами, потому что они не были полностью под землёй и небольшие окна под потолком выходили на улицу. Мой отец с помощью родственников и друзей превратил жильё из двух подвалов в квартиру, состоящую из спальни и кухни, а от кухни временной перегородкой отделил прихожую. Он настелил деревянные полы, провёл воду и электричество, поставил двери и в каждой комнате поставил печку. К сожалению, туалета в нашей квартире не было и быть не могло, но он был очень близко: в коридоре с остальными подвалами и полуподвалами.
Вот так мои родители не просто выжили в войну, но и зажили, как люди, после войны. Наша семья была хорошей и счастливой семьёй, нормальной пролетарской семьёй 50-х и 60-х годов.
Игрушек у меня никогда не было. Родители не покупали, никто не дарил, и от старшего брата в наследство не осталось, a в те времена игрушки просто так на дороге не валялись. Однажды я нашёл кусок резиновой куклы. В самом куске не было никакой пользы, если бы в нём не было свистульки. У этих свистулек тоны на вдувании и выдувании разные. Но и с той свистулькой не пришлось долго насвистывать. После часа-другого я проглотил её при вдохе. Следующие два дня пришлось отслеживать кал. Я был очень рад увидеть свистульку после того, как она прошла сквозь всего меня, но брать её в рот больше не планировал.
Личного мяча у меня тоже никогда не было, но был случай, когда десять футболистов из нашего двора сбросились по семь копеек и купили резиновый мяч за семьдесят копеек. Случались счастливые дни, когда этот мяч хранился у меня дома.