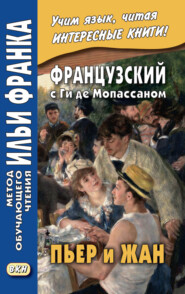По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Жизнь
Автор
Жанр
Год написания книги
1883
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Скоро у нее начали стучать зубы, руки дрожали, грудь сжимало; замиравшее сердце билось глухими толчками и порою как будто готово было остановиться; она задыхалась, точно ей не хватало воздуха.
Мучительная тоска охватила ее душу, и в то же время непреодолимый холод пронимал ее до мозга костей. Никогда еще не испытывала она ничего подобного; жизнь словно покидала ее; она готова была испустить последнее дыхание.
Она подумала: «Я умру… Умираю…»
Полная ужаса, она вскочила с постели, позвала Розали, подождала, позвонила снова и опять стала ждать, дрожа и леденея.
Служанка не являлась. Она, без сомнения, спала тем крепким первым сном, от которого не пробудишь, и Жанна, теряя голову, бросилась босиком на лестницу.
Она бесшумно, ощупью поднялась, отыскала дверь, отворила ее, позвала: «Розали!» – двинулась дальше, наткнулась на кровать, провела по ней рукой и убедилась, что она пуста. Она была пуста и холодна, словно никто в нее и не ложился.
Жанна подумала в удивлении: «Как! Она ушла из дому в такую погоду!»
Но сердце ее вдруг бурно заколотилось и запрыгало, и она, задыхаясь, кинулась разбудить Жюльена; ноги отказывались ей служить.
Она порывисто вбежала к нему, в уверенности, что сейчас умрет, и желая увидеть его раньше, чем потеряет сознание.
При свете потухавшего огня она увидела на подушке рядом с головой мужа голову Розали.
От крика, вырвавшегося у нее, оба они вскочили. Секунду она стояла неподвижно, пораженная своим открытием. Затем бросилась вон, вбежала к себе в комнату; растерявшийся Жюльен позвал ее: «Жанна!» – и ее охватил невыразимый ужас при мысли о том, что она увидит его, услышит его голос, его объяснения, его ложь, встретится с ним лицом к лицу; и она снова стремительно бросилась на лестницу и побежала вниз.
Она мчалась теперь в темноте, рискуя скатиться с каменных ступенек и разбиться о них. Она летела куда глаза глядят, гонимая властной потребностью убежать, ничего не слышать, ничего не видеть.
Сбежав вниз, она села на ступеньку, по-прежнему в одной рубашке, босиком, и замерла, перестав что-либо соображать.
Жюльен, вскочив с постели, наспех одевался. Услышав его движения и шаги, она поднялась снова, чтобы бежать от него.
Он уже сходил с лестницы и кричал:
– Послушай, Жанна!
Нет, она не хотела его слушать, не хотела, чтоб он коснулся до нее хоть пальцем, и бросилась в столовую, точно спасаясь от убийцы. Она искала выхода, тайника, темного угла, какого-нибудь средства избавиться от него. Она забилась под стол. Но он уже отворял дверь, со свечой в руках, все еще повторяя: «Жанна!» – и она снова понеслась, как заяц, бросилась в кухню и обежала ее два раза, словно загнанный зверь; и так как он настигал ее опять, она внезапно отворила наружную дверь и выбежала из дому.
Ледяное прикосновение снега, в который ее голые ноги уходили порой по колени, придало ей вдруг отчаянную силу. Она не чувствовала холода, хотя была раздета; она ничего больше не чувствовала, до такой степени душевная боль усыпила восприимчивость ее тела, и она бежала белая, подобно земле.
Она направилась по большой аллее, миновала рощу, перепрыгнула ров и бегом пустилась по равнине.
Луны не было; звезды сверкали на темном небе, словно россыпь искр; но равнина, застывшая в неподвижности, в бесконечном молчании, все же светилась тусклой белизной.
Жанна бежала, не переводя дыхания, ничего не сознавая, ни о чем не думая. И вдруг очутилась на краю обрыва. Она сразу инстинктивно остановилась и присела на корточки, без мысли, без воли.
В темной бездне перед нею невидимое и немое море дышало соленым запахом водорослей, выброшенных приливом.
Она долго сидела так, застыв душою и телом; затем вдруг начала дрожать отчаянной дрожью, как парус, терзаемый ветром. Ее руки, плечи, ноги, сотрясаемые неудержимой силой, судорожно дергались; и вдруг к ней вернулось сознание, ясное и мучительно острое.
Потом перед ее глазами поплыли видения прошлого: прогулка с Жюльеном в лодке дядюшки Лястика, их беседа, зарождение ее любви, крестины лодки; ее мысли ушли еще дальше, к той ночи, убаюканной мечтами, когда она приехала в «Тополя». А теперь! Теперь! О! Вся жизнь разбита, все радостное миновало, ждать больше нечего; ужасное будущее, полное мучений, измен, отчаяния, встало перед ней. Лучше умереть, тогда всему конец.
Но вдали послышался голос:
– Здесь, здесь! Вот следы! Скорей, скорей сюда!
То был Жюльен, искавший ее.
О! Она не хотела его видеть. Там, перед собой, в бездне она услышала теперь легкий шум, неясный плеск моря, скользящего по утесам.
Она вскочила и уже выпрямилась, чтобы броситься туда, и, посылая жизни безнадежное прости, жалобно выкрикнула последнее слово умирающих, последнее слово молодых солдат, смертельно раненных в битве:
– Мама!
Внезапно мысль о матушке пронизала ее; она увидела ее рыдающей; увидела своего отца на коленях перед ее изуродованным трупом и в одну секунду пережила все муки их отчаяния.
И тогда она снова бессильно опустилась на снег и не пробовала уже сопротивляться, когда Жюльен и дядя Симон в сопровождении Мариюса, державшего фонарь, схватили ее за руки, чтобы оттащить назад; она была на самом краю обрыва.
Они делали с нею все, что хотели, так как она не могла шевельнуться. Она чувствовала, как ее понесли, а затем положили в постель и растирали горячими полотенцами; затем воспоминания оборвались, сознание исчезло.
Потом ею овладел кошмар, но был ли то кошмар? Она лежала в своей комнате. Был день, но она не могла подняться. Почему? Она этого не знала. Тогда она услышала слабый шум на полу, что-то вроде царапанья, какой-то шорох, и вдруг мышка, маленькая серая мышка, промчалась по ее простыне. За нею тотчас последовала другая, за другой третья, быстрыми мелкими шажками подбиравшиеся к ее груди. Жанне не было страшно; она хотела схватить зверька и протянула руку, но ничего не поймала.
Тогда другие мыши – десять, двадцать, сотни, тысячи – показались со всех сторон. Они карабкались по колонкам, шныряли по обоям, покрывали всю постель. Скоро они проникли и под одеяло; Жанна чувствовала, как они скользят по ее коже, щекочут ей ноги, взбираются и спускаются по всему телу. Она видела, как они поднимаются по ножкам кровати и хотят пробраться к ее горлу; она отбивалась, вытягивала руки вперед, чтобы поймать хоть одну, и каждый раз в руках ее ничего не было.
Она приходила в отчаяние, хотела бежать, кричала, и ей казалось, что ее заставляют лежать неподвижно, что сильные руки схватили ее и держат; но она никого не видела.
У нее не было никакого представления о времени. Должно быть, это длилось долго, очень долго.
Затем она очнулась; она очнулась усталая, разбитая и все же с приятным ощущением. Она чувствовала себя слабой-слабой. Открыла глаза и нисколько не удивилась, увидев мамочку, сидящую в комнате с каким-то толстяком, которого она совершенно не знала.
Сколько ей лет? Она уже не отдавала себе в этом отчета и представляла себя совсем маленькой девочкой. Не было у нее также и никаких воспоминаний.
Толстяк сказал:
– Смотрите, сознание возвращается.
И матушка заплакала. Тогда толстяк заговорил снова:
– Успокойтесь, баронесса, говорю вам, что теперь я отвечаю за нее. Только не разговаривайте с нею ни о чем, ни о чем. Пусть она спит.
Жанне казалось, что она еще очень долго пробыла в такой дремоте, что как только она пробовала о чем-нибудь задуматься, ее охватывал тяжелый сон; но она и не пробовала вспоминать о прошлом, словно чувствуя смутный страх перед тем, что действительность может восстановиться в ее сознании.
Но как-то раз, проснувшись, она увидела около себя только Жюльена, и вдруг ей припомнилось все, словно перед нею поднялась завеса, скрывавшая прошлое.
Она почувствовала страшную боль в сердце, и ей снова захотелось бежать. Она сбросила с себя простыни, соскочила на пол и упала, потому что еще не могла держаться на ногах.
Жюльен бросился к ней, и она стала кричать, чтоб он не касался ее. Она извивалась, катаясь по полу. Отворилась дверь. Прибежали тетя Лизон и вдова Дантю, затем барон, и, наконец, появилась мамочка, запыхавшаяся, перепуганная.
Ее снова уложили, и она тотчас же намеренно закрыла глаза, чтобы не разговаривать и поразмыслить без помехи.
Мать и тетка ухаживали за ней, суетились и спрашивали:
– Слышишь ли ты нас теперь, Жанна, малютка моя?
Мучительная тоска охватила ее душу, и в то же время непреодолимый холод пронимал ее до мозга костей. Никогда еще не испытывала она ничего подобного; жизнь словно покидала ее; она готова была испустить последнее дыхание.
Она подумала: «Я умру… Умираю…»
Полная ужаса, она вскочила с постели, позвала Розали, подождала, позвонила снова и опять стала ждать, дрожа и леденея.
Служанка не являлась. Она, без сомнения, спала тем крепким первым сном, от которого не пробудишь, и Жанна, теряя голову, бросилась босиком на лестницу.
Она бесшумно, ощупью поднялась, отыскала дверь, отворила ее, позвала: «Розали!» – двинулась дальше, наткнулась на кровать, провела по ней рукой и убедилась, что она пуста. Она была пуста и холодна, словно никто в нее и не ложился.
Жанна подумала в удивлении: «Как! Она ушла из дому в такую погоду!»
Но сердце ее вдруг бурно заколотилось и запрыгало, и она, задыхаясь, кинулась разбудить Жюльена; ноги отказывались ей служить.
Она порывисто вбежала к нему, в уверенности, что сейчас умрет, и желая увидеть его раньше, чем потеряет сознание.
При свете потухавшего огня она увидела на подушке рядом с головой мужа голову Розали.
От крика, вырвавшегося у нее, оба они вскочили. Секунду она стояла неподвижно, пораженная своим открытием. Затем бросилась вон, вбежала к себе в комнату; растерявшийся Жюльен позвал ее: «Жанна!» – и ее охватил невыразимый ужас при мысли о том, что она увидит его, услышит его голос, его объяснения, его ложь, встретится с ним лицом к лицу; и она снова стремительно бросилась на лестницу и побежала вниз.
Она мчалась теперь в темноте, рискуя скатиться с каменных ступенек и разбиться о них. Она летела куда глаза глядят, гонимая властной потребностью убежать, ничего не слышать, ничего не видеть.
Сбежав вниз, она села на ступеньку, по-прежнему в одной рубашке, босиком, и замерла, перестав что-либо соображать.
Жюльен, вскочив с постели, наспех одевался. Услышав его движения и шаги, она поднялась снова, чтобы бежать от него.
Он уже сходил с лестницы и кричал:
– Послушай, Жанна!
Нет, она не хотела его слушать, не хотела, чтоб он коснулся до нее хоть пальцем, и бросилась в столовую, точно спасаясь от убийцы. Она искала выхода, тайника, темного угла, какого-нибудь средства избавиться от него. Она забилась под стол. Но он уже отворял дверь, со свечой в руках, все еще повторяя: «Жанна!» – и она снова понеслась, как заяц, бросилась в кухню и обежала ее два раза, словно загнанный зверь; и так как он настигал ее опять, она внезапно отворила наружную дверь и выбежала из дому.
Ледяное прикосновение снега, в который ее голые ноги уходили порой по колени, придало ей вдруг отчаянную силу. Она не чувствовала холода, хотя была раздета; она ничего больше не чувствовала, до такой степени душевная боль усыпила восприимчивость ее тела, и она бежала белая, подобно земле.
Она направилась по большой аллее, миновала рощу, перепрыгнула ров и бегом пустилась по равнине.
Луны не было; звезды сверкали на темном небе, словно россыпь искр; но равнина, застывшая в неподвижности, в бесконечном молчании, все же светилась тусклой белизной.
Жанна бежала, не переводя дыхания, ничего не сознавая, ни о чем не думая. И вдруг очутилась на краю обрыва. Она сразу инстинктивно остановилась и присела на корточки, без мысли, без воли.
В темной бездне перед нею невидимое и немое море дышало соленым запахом водорослей, выброшенных приливом.
Она долго сидела так, застыв душою и телом; затем вдруг начала дрожать отчаянной дрожью, как парус, терзаемый ветром. Ее руки, плечи, ноги, сотрясаемые неудержимой силой, судорожно дергались; и вдруг к ней вернулось сознание, ясное и мучительно острое.
Потом перед ее глазами поплыли видения прошлого: прогулка с Жюльеном в лодке дядюшки Лястика, их беседа, зарождение ее любви, крестины лодки; ее мысли ушли еще дальше, к той ночи, убаюканной мечтами, когда она приехала в «Тополя». А теперь! Теперь! О! Вся жизнь разбита, все радостное миновало, ждать больше нечего; ужасное будущее, полное мучений, измен, отчаяния, встало перед ней. Лучше умереть, тогда всему конец.
Но вдали послышался голос:
– Здесь, здесь! Вот следы! Скорей, скорей сюда!
То был Жюльен, искавший ее.
О! Она не хотела его видеть. Там, перед собой, в бездне она услышала теперь легкий шум, неясный плеск моря, скользящего по утесам.
Она вскочила и уже выпрямилась, чтобы броситься туда, и, посылая жизни безнадежное прости, жалобно выкрикнула последнее слово умирающих, последнее слово молодых солдат, смертельно раненных в битве:
– Мама!
Внезапно мысль о матушке пронизала ее; она увидела ее рыдающей; увидела своего отца на коленях перед ее изуродованным трупом и в одну секунду пережила все муки их отчаяния.
И тогда она снова бессильно опустилась на снег и не пробовала уже сопротивляться, когда Жюльен и дядя Симон в сопровождении Мариюса, державшего фонарь, схватили ее за руки, чтобы оттащить назад; она была на самом краю обрыва.
Они делали с нею все, что хотели, так как она не могла шевельнуться. Она чувствовала, как ее понесли, а затем положили в постель и растирали горячими полотенцами; затем воспоминания оборвались, сознание исчезло.
Потом ею овладел кошмар, но был ли то кошмар? Она лежала в своей комнате. Был день, но она не могла подняться. Почему? Она этого не знала. Тогда она услышала слабый шум на полу, что-то вроде царапанья, какой-то шорох, и вдруг мышка, маленькая серая мышка, промчалась по ее простыне. За нею тотчас последовала другая, за другой третья, быстрыми мелкими шажками подбиравшиеся к ее груди. Жанне не было страшно; она хотела схватить зверька и протянула руку, но ничего не поймала.
Тогда другие мыши – десять, двадцать, сотни, тысячи – показались со всех сторон. Они карабкались по колонкам, шныряли по обоям, покрывали всю постель. Скоро они проникли и под одеяло; Жанна чувствовала, как они скользят по ее коже, щекочут ей ноги, взбираются и спускаются по всему телу. Она видела, как они поднимаются по ножкам кровати и хотят пробраться к ее горлу; она отбивалась, вытягивала руки вперед, чтобы поймать хоть одну, и каждый раз в руках ее ничего не было.
Она приходила в отчаяние, хотела бежать, кричала, и ей казалось, что ее заставляют лежать неподвижно, что сильные руки схватили ее и держат; но она никого не видела.
У нее не было никакого представления о времени. Должно быть, это длилось долго, очень долго.
Затем она очнулась; она очнулась усталая, разбитая и все же с приятным ощущением. Она чувствовала себя слабой-слабой. Открыла глаза и нисколько не удивилась, увидев мамочку, сидящую в комнате с каким-то толстяком, которого она совершенно не знала.
Сколько ей лет? Она уже не отдавала себе в этом отчета и представляла себя совсем маленькой девочкой. Не было у нее также и никаких воспоминаний.
Толстяк сказал:
– Смотрите, сознание возвращается.
И матушка заплакала. Тогда толстяк заговорил снова:
– Успокойтесь, баронесса, говорю вам, что теперь я отвечаю за нее. Только не разговаривайте с нею ни о чем, ни о чем. Пусть она спит.
Жанне казалось, что она еще очень долго пробыла в такой дремоте, что как только она пробовала о чем-нибудь задуматься, ее охватывал тяжелый сон; но она и не пробовала вспоминать о прошлом, словно чувствуя смутный страх перед тем, что действительность может восстановиться в ее сознании.
Но как-то раз, проснувшись, она увидела около себя только Жюльена, и вдруг ей припомнилось все, словно перед нею поднялась завеса, скрывавшая прошлое.
Она почувствовала страшную боль в сердце, и ей снова захотелось бежать. Она сбросила с себя простыни, соскочила на пол и упала, потому что еще не могла держаться на ногах.
Жюльен бросился к ней, и она стала кричать, чтоб он не касался ее. Она извивалась, катаясь по полу. Отворилась дверь. Прибежали тетя Лизон и вдова Дантю, затем барон, и, наконец, появилась мамочка, запыхавшаяся, перепуганная.
Ее снова уложили, и она тотчас же намеренно закрыла глаза, чтобы не разговаривать и поразмыслить без помехи.
Мать и тетка ухаживали за ней, суетились и спрашивали:
– Слышишь ли ты нас теперь, Жанна, малютка моя?