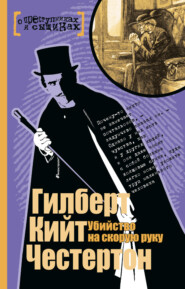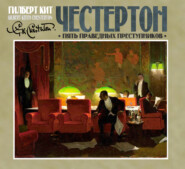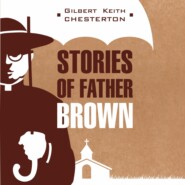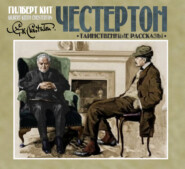По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Тайна отца Брауна
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Гилберт Кит Честертон
Отец БраунТайна отца Брауна #1
«Фламбо – один из самых знаменитых преступников Франции, а впоследствии частный сыщик в Англии – давно бросил обе эти профессии. Говорили, что преступное прошлое не позволяло ему стать строгим к преступнику. Так или иначе, покинув стезю романтических побегов и сногсшибательных приключений, он поселился, как ему и подобало, в Испании, в собственном замке. Замок, однако, был весьма основателен, хотя и невелик, а на буром холме чернел квадрат виноградника и зеленели полосы грядок. Несмотря на свои бурные похождения, Фламбо обладал свойством, присущим многим латинянам и незнакомым, например, американцам: он умел уйти от суеты. Так владелец крупного отеля мечтает завести на старости маленькую корчму, а лавочник из французского местечка останавливается в тот самый миг, когда мог бы стать мерзавцем-миллионером и скупить все лавки до единой, и проводит остаток дней дома, за домино. Случайно и почти внезапно Фламбо влюбился в испанку, женился на ней, приобрел поместье и зажил семейной жизнью, не обнаруживая ни малейшего желания вновь пуститься в странствия. Но в одно прекрасное утро семья его заметила, что он сильно возбужден и встревожен. Он вышел погулять с мальчиками, но вскоре обогнал их и бросился с холма навстречу какому-то человеку, пересекавшему долину, хотя человек этот казался не больше черной точки…»
Гилберт Кийт Честертон
Тайна отца Брауна
Фламбо – один из самых знаменитых преступников Франции, а впоследствии частный сыщик в Англии – давно бросил обе эти профессии. Говорили, что преступное прошлое не позволяло ему стать строгим к преступнику. Так или иначе, покинув стезю романтических побегов и сногсшибательных приключений, он поселился, как ему и подобало, в Испании, в собственном замке. Замок, однако, был весьма основателен, хотя и невелик, а на буром холме чернел квадрат виноградника и зеленели полосы грядок. Несмотря на свои бурные похождения, Фламбо обладал свойством, присущим многим латинянам и незнакомым, например, американцам: он умел уйти от суеты. Так владелец крупного отеля мечтает завести на старости маленькую корчму, а лавочник из французского местечка останавливается в тот самый миг, когда мог бы стать мерзавцем-миллионером и скупить все лавки до единой, и проводит остаток дней дома, за домино. Случайно и почти внезапно Фламбо влюбился в испанку, женился на ней, приобрел поместье и зажил семейной жизнью, не обнаруживая ни малейшего желания вновь пуститься в странствия. Но в одно прекрасное утро семья его заметила, что он сильно возбужден и встревожен. Он вышел погулять с мальчиками, но вскоре обогнал их и бросился с холма навстречу какому-то человеку, пересекавшему долину, хотя человек этот казался не больше черной точки.
Точка постепенно увеличивалась, почти не меняя очертаний, – попросту говоря, она оставалась все такой же черной и круглой. Черная сутана не была здесь в диковинку, но сутана приезжего выглядела как-то особенно буднично и в то же время приветливо по сравнению с одеждами местного духовенства, изобличая в новоприбывшем жителя Британских островов. В руках он держал короткий пухлый зонтик с тяжелым круглым набалдашником, при виде которого Фламбо чуть не расплакался от умиления, ибо этот зонтик фигурировал во многих их совместных приключениях былых времен. Священник был английским другом Фламбо, отцом Брауном, который давно собирался приехать – и все никак не мог. Они постоянно переписывались, но не виделись несколько лет.
Вскоре отец Браун очутился в центре семейства, которое было так велико, что казалось целым племенем. Его познакомили с деревянными позолоченными волхвами, которых дарят детям на Рождество; познакомили с собакой, кошкой и обитателями скотного двора; познакомили с соседом, который, как и сам Браун, отличался от здешних жителей и манерами и одеждой.
На третий день пребывания гостя в маленьком замке туда явился посетитель и принялся отвешивать испанскому семейству поклоны, которым позавидовал бы испанский гранд. То был высокий, седовласый, очень красивый джентльмен с ослепительно сверкающими ногтями, манжетами и запонками. Однако в его длинном лице не было и следа той томности, которую наши карикатуристы связывают с белоснежными манжетами и маникюром. Лицо у него было удивительно живое и подвижное, а глаза смотрели зорко и прямо, что весьма редко сочетается с седыми волосами. Это одно могло бы уже определить национальность посетителя, равно как и некоторая гнусавость, портившая его изысканную речь, и слишком близкое знакомство с европейскими достопримечательностями. Да, это был сам Грэндисон Чейс из Бостона, американский путешественник, отдыхающий от путешествий в точно таком же замке на точно таком же холме. Здесь, в своем поместье, он наслаждался жизнью и считал своего радушного соседа одной из местных древностей, ибо Фламбо, как мы уже говорили, удалось глубоко пустить в землю корни, и казалось, что он провел века среди своих виноградников и смоковниц. Он вновь назывался своим настоящим именем – Дюрок; Фламбо, то есть факел, было только псевдонимом, под которым такие, как он, ведут войну с обществом. Он обожал жену и детей, из дома уходил только на охоту и казался американскому путешественнику воплощением той респектабельной жизнерадостности, той разумной любви к достатку, которую американцы признают и почитают в средиземноморских народах. Камень, прикатившийся с Запада, был рад отдохнуть возле южного камня, который успел обрасти таким пышным мхом.
Мистеру Чейсу довелось слышать о Брауне, и он заговорил с ним особым тоном, к которому прибегал при встрече со знаменитостями. Инстинкт интервьюера – сдержанный, но неукротимый – проснулся в нем. Он вцепился в Брауна, как щипцы в зуб, – надо признать, абсолютно без боли и со всей ловкостью, свойственной американским дантистам.
Они сидели во дворике, под навесом, – в Испании часто входят в дом через наполовину крытые внутренние дворики. Смеркалось. После заката в горах сразу становится холодно, и потому здесь стояла небольшая печка, мигая красным глазом, словно гном, и рисуя на плоских плитах рдеющие узоры. Но ни один отсвет огня не достигал даже нижних кирпичей высокой голой стены, уходившей над ними в темно-синее небо. В полумраке смутно вырисовывались широкие плечи и большие, как сабли, усы Фламбо, который то и дело поднимался, цедил из бочки темное вино и разливал его в бокалы. Священник, склонившийся над печкой, казался совсем маленьким. Американец ловко нагнулся вперед, опершись локтем о колено; его тонкое, острое лицо было освещено, глаза по-прежнему сверкали умом и любопытством.
– Смею заверить вас, сэр, – говорил он, – что ваше участие в расследовании убийства человека о двух бородах – одно из величайших достижений научного сыска.
Отец Браун пробормотал что-то невнятное, а может быть, застонал.
– Мы знакомы, – продолжал американец, – с достижениями Дюпена, Лекока, Шерлока Холмса, Ника Картера и прочих вымышленных сыщиков. Но мы видим, что ваш метод очень отличается от методов других детективов – как вымышленных, так и настоящих. Кое-кто даже высказывал предположение, что у вас просто нет метода.
Отец Браун помолчал, потом слегка шевельнулся – или просто подвинулся к печке – и сказал:
– Простите… Да… Нет метода… Боюсь, что у них нет разума…
– Я имел в виду строго научный метод, – продолжал его собеседник. – Эдгар По в превосходных диалогах пояснил метод Дюпена, всю прелесть его железной логики. Доктору Уотсону приходилось выслушивать от Холмса весьма точные разъяснения с упоминанием мельчайших деталей. Но вы, отец Браун, кажется, никому не открыли вашей тайны. Мне говорили, что вы отказались читать в Америке лекции на эту тему.
– Да, – ответил священник, хмуро глядя на печку, – отказался.
– Ваш отказ вызвал массу толков! – подхватил Чейс. – Кое-кто у нас говорил, что ваш метод нельзя объяснить, потому что он больше чем метод. Говорили, что вашу тайну нельзя раскрыть, ибо она – оккультная.
– Какая? – переспросил отец Браун довольно хмуро.
– Ну, непонятная для непосвященных, – пояснил Чейс. – Надо вам сказать, у нас в Штатах как следует поломали голову над убийством Гэллапа и Стейна, и над убийством старика Мертона, и над двойным преступлением Дэлмона. А вы всегда попадали в самую гущу и раскрывали тайну; но никому не говорили, откуда вам все известно. Естественно, многие решили, что вы, так сказать, все знаете не глядя. Карлотта Браунсон иллюстрировала эпизодами из вашей деятельности свою лекцию о формах мышления. А Общество сестер-духовидиц в Индианаполисе…
Отец Браун все еще глядел на печку, наконец он сказал громко, но так, словно его никто не слышал:
– Ох! К чему это?!
– Этому горю не поможешь! – добродушно улыбнулся мистер Чейс. – У наших духовидиц хватка железная. По-моему, хотите покончить с болтовней – откройте вашу тайну.
Отец Браун шумно вздохнул. Он уронил голову на руки, словно ему стало трудно думать. Потом поднял голову и глухо сказал:
– Хорошо! Я открою тайну.
Он обвел потемневшими глазами темнеющий дворик – от багровых глаз печки до древней стены, над которой все ярче блистали ослепительные южные звезды.
– Тайна… – начал он и замолчал, точно не мог продолжать. Потом собрался с силами и сказал: – Понимаете, всех этих людей убил я сам.
– Что? – сдавленным голосом спросил Чейс.
– Я сам убил всех этих людей, – кротко повторил отец Браун. – Вот я и знал, как все было.
Грэндисон Чейс выпрямился во весь свой огромный рост, словно подброшенный медленным взрывом. Не сводя глаз с собеседника, он еще раз спросил недоверчиво:
– Что?
– Я тщательно подготовил каждое преступление, – продолжал отец Браун. – Я упорно думал над тем, как можно совершить его, – в каком состоянии должен быть человек, чтобы его совершить. И когда я знал, что чувствую точно так же, как чувствовал убийца, мне становилось ясно, кто он.
Чейс прерывисто вздохнул.
– Ну и напугали же вы меня! – сказал он. – Я на минуту поверил, что вы действительно их поубивали. Я так и увидел жирные заголовки во всех наших газетах: «Сыщик в сутане – убийца. Сотни жертв отца Брауна». Что ж, это хороший образ… Вы хотите сказать, что каждый раз пытались восстановить психологию…
Отец Браун сильно ударил по печке своей короткой трубкой, которую только что собирался набить. Лицо его искривилось, а это бывало с ним очень редко.
– Нет, нет, нет! – сказал он чуть ли не гневно. – Никакой это не образ. Вот что получается, когда заговоришь о серьезных вещах… Просто хоть не говори! Стоит завести речь о какой-нибудь нравственной истине, и вам сейчас же скажут, что вы выражаетесь образно. Один человек – настоящий, двуногий – сказал мне как-то: «Я верю в Святого Духа лишь в духовном смысле». Я его, конечно, спросил: «А как же еще в Него верить?» – а он решил, что я сказал ему, будто надо верить только в эволюцию, или в этическое единомыслие, или еще в какую-то чушь. Еще раз повторяю – я видел, как я сам, как мое «я» совершало все эти убийства. Разумеется, я не убивал моих жертв физически – но ведь дело не в том, их мог убить и кирпич. Я думал и думал, как человек доходит до такого состояния, пока не начинал чувствовать, что сам дошел до него, не хватает последнего толчка. Это мне посоветовал один друг – хорошее духовное упражнение. Кажется, он его нашел у Льва XIII, которого я всегда почитал.
– Боюсь, – недоверчиво сказал американец, глядя на священника, как на дикого зверя, – что вам придется еще многое объяснить мне, прежде чем я пойму, о чем вы говорите. Наука сыска…
Отец Браун нетерпеливо щелкнул пальцами.
– Вот оно! – воскликнул он. – Вот где наши пути расходятся. Наука – великая вещь, если это наука. Настоящая наука – одна из величайших вещей в мире. Но какой смысл придают этому слову в девяти случаях из десяти, когда говорят, что сыск – наука, криминология – наука? Они хотят сказать, что человека можно изучать снаружи, как огромное насекомое. По их мнению, это беспристрастно, а это просто бесчеловечно. Они глядят на человека издали, как на ископаемое; они разглядывают «преступный череп», как рог у носорога. Когда такой ученый говорит о «типе», он имеет в виду не себя, а своего соседа – обычно бедного. Конечно, иногда полезно взглянуть со стороны, но это – не наука, для этого как раз нужно забыть то немногое, что мы знаем. В друге нужно увидеть незнакомца и подивиться хорошо знакомым вещам. Можно сказать, что у людей – короткий выступ посреди лица или что мы впадаем в беспамятство раз в сутки. Но то, что вы назвали моей тайной, – совсем, совсем другое. Я не изучаю человека снаружи. Я пытаюсь проникнуть внутрь. Это гораздо больше, правда? Я – внутри человека. Я поселяюсь в нем, у меня его руки, его ноги, но я жду до тех пор, покуда не начну думать его думы, терзаться его страстями, пылать его ненавистью, покуда не взгляну на мир его налитыми кровью глазами и не найду, как он, самого короткого и прямого пути к луже крови. Я жду, пока не стану убийцей.
– О! – произнес мистер Чейс, мрачно глядя на него. – И это вы называете духовным упражнением?
– Да, – ответил Браун, – именно это. – Он помолчал, потом заговорил снова: – Это такое упражнение, что лучше бы мне о нем не рассказывать. Но, понимаете, не могу же я вас так отпустить. Вы еще скажете там, у себя, что я умею колдовать или занимаюсь телепатией. Я плохо объяснил, но все это сущая правда. Человек никогда не будет хорошим, пока не поймет, какой он плохой или каким плохим он мог бы стать; пока он не поймет, как мало права у него ухмыляться и толковать о «преступниках», словно это обезьяны где-нибудь в дальнем лесу; пока он не перестанет так гнусно обманывать себя, так глупо болтать о «низшем типе» и «порочном черепе»; пока он не выжмет из своей души последней капли фарисейского елея; пока надеется загнать преступника и накрыть его сачком, как насекомое.
Фламбо подошел ближе, наполнил большой бокал испанским вином и поставил его перед своим другом; точно такой же бокал стоял перед американцем. Потом Фламбо заговорил – впервые за весь вечер:
– Отец Браун, кажется, привез с собой много новых тайн. Мы вчера как раз говорили о них. За то время, что мы с ним не встречались, ему пришлось столкнуться с занятными людьми.
– Да, я слышал об этих историях! – сказал Чейс, задумчиво поднимая бокал. – Но у меня нет к ним ключа. Может быть, вы мне кое-что разъясните? Может быть, вы расскажете, как вы проникали в душу преступника?
Отец Браун тоже поднял бокал, и в мерцании огня вино стало прозрачным, как кроваво-алый витраж с изображением мученика. Алое пламя приковало его взор: он не мог отвести от него глаз, словно в чаше плескалась, как море, кровь всех людей на свете, а его душа, как пловец, смиренно углублялась во тьму чудовищных помыслов, глубже самых страшных чудищ, на илистое дно. В этой чаше, как в алом зеркале, он увидел много событий. Преступления последних лет промелькнули перед ним пурпурными тенями; то, о чем его просили рассказать, заплясало перед ним; он снова видел все, о чем рассказано в этой книге.
Вот алое вино обернулось алым закатом над красно-бурыми песками, над бурыми фигурками людей; один человек лежал, другой спешил к нему. Вот закат раскололся, и алые фонарики повисли на деревьях сада, алые блики заплясали в пруду. Вот свет фонариков слился в огромный прозрачный рубин, освещающий все вокруг, словно алое солнце, кроме высокого человека в высокой древней митре. Вот блеск угас, и только пламя рыжей бороды плескалось на ветру, над серой бесприютностью болот. Все это можно было увидеть и понять иначе; но сейчас, отвечая на вызов, он вспомнил это так – и образы стали складываться в доводы и сюжеты.
– Да, – сказал он, медленно поднося бокал к губам, – я как сейчас помню…