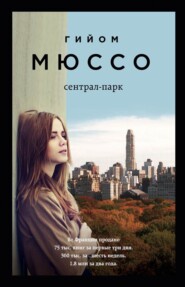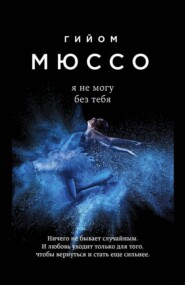По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Квартира в Париже
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ветви старой липы посреди внутреннего дворика дрожали на теплом ветерке. Гаспар Кутанс, устроившись за столиком на террасе, блаженно потягивал из бокала вино. «Жевре-шамбертен» было упоительным: сбалансированным, с интенсивным вкусом, плотным и одновременно мягким, приятно отдававшим вишней и черной смородиной.
Увы, удовольствие от дегустации было подпорчено неясностью с арендой дома. «Черт возьми, – думал он, – не хватало, чтобы эта особа меня выселила!» Он уже загорелся желанием написать свою очередную пьесу именно здесь. Это было уже даже не дело принципа, а необходимость. В кои-то веки его накрыла любовь с первого взгляда, и он отказывался складывать оружие, считая себя полностью в своем праве. С другой стороны, эта Маделин Грин выглядела не больно уступчивой. Она навязала ему свой телефон, чтобы он мог позвонить агенту. Карен не была виновата в случившемся, тем не менее рассыпалась в извинениях и, перезвонив через десять минут, сообщила, что на время, пока все не утрясется, сняла для него апартаменты в «Бристоле». Гаспар ответил твердым «нет» и ультиматумом: либо этот дом, либо ничего. Либо Карен находит решение, либо их сотрудничеству конец. Обычно угрозы такого рода превращали Карен в непобедимую воительницу. Но в этот раз он боялся, что потерпит неудачу.
Новый глоток бургундского. Птичьи трели. Упоительный воздух. Греющее сердце зимнее солнышко. Гаспар не мог не улыбаться: во всей этой ситуации было что-то комическое. Мужчина и женщина вынуждены по причине компьютерного сбоя снять на Рождество один и тот же дом. Это смахивало на зачин пьесы. В этой пьесе не ожидалось присущей ему циничной игры ума, зато она сулила массу веселья. Что-то в этом роде сочиняли в 60–70-е годы Барийе и Греди, любимые драматурги его отца, чьи пьесы с большим успехом шли в театре «Антуан» и в «Буфф Паризьен».
Его отец…
От этих мыслей некуда было деваться. Стоило Гаспару приехать в Париж, как оживали его детские воспоминания, разгорались угли, которые он считал давно потухшими. Чтобы не обжигаться, Гаспар гнал эти воспоминания, не позволяя им становиться слишком болезненными. Постепенно он усвоил, что мысли такого рода лучше держать на расстоянии, иначе не выжить.
Он налил себе еще вина и покинул с бокалом террасу, чтобы походить по гостиной. Там его внимание привлекла коллекция долгоиграющих грампластинок: сотни джазовых дисков, любовно рассортированных на дубовой этажерке. Он выбрал пластинку американского джазиста Пола Бли, о которой никогда не слышал, и, внимая хрустальным звукам фортепьяно, стал разглядывать фотографии на стенах.
Ни картин, ни рисунков – только черно-белые эпизоды семейной истории. Мужчина, женщина, маленький мальчик. В мужчине Гаспар узнал Шона Лоренца: он помнил его портрет кисти англичанки Джейн Баун, сопровождавший некролог в «Монд» в прошлом декабре. Сейчас перед ним висел снятый крупным планом оригинал: высокий рост, величественная осанка, истощенное и заостренное, как наточенное лезвие ножа, лицо, загадочный взгляд, одновременно волнующий и решительный. Жена Лоренца была запечатлена всего дважды. Казалось, она копировала перед объективом позы американских топ-моделей Стефани Сеймур и Кристи Терлингтон с обложек модных журналов четвертьвековой давности. Красотка 1990-х годов: стройная, чувственная, сияющая. Худая, но не кожа да кости. Недосягаемой, пожалуй, не назовешь.
На большей части фотографий красовались Лоренц с сыном. Сам по себе художник был, возможно, человеком суровым, но в обществе своего ребенка – светловолосого мальчугана с уморительной рожицей и искрящимся взглядом – он превращался в другого человека, словно заражался от сына жизнелюбием. Два последних экспоната этой семейной галереи представляли собой групповые снимки: художник творил, окруженный детьми пяти-шести лет, среди которых можно было узнать и его сынишку. Наверное, это была школа или курсы живописи для самых маленьких.
В библиотеке, среди книг серии «Плеяды» и редких изданий «Ташен» и «Ассулин», Гаспар обнаружил монографию о творчестве самого Лоренца – шикарный, в пятьсот страниц фолиант весом более трех килограммов. Гаспар поставил бокал на столик и опустился с книгой на диван. Он не собирался себя обманывать: произведения Лоренца были ему незнакомы. В живописи он предпочитал фламандскую школу и нидерландский золотой век: Ван Эйка, Босха, Рубенса, Вермеера, Рембрандта. Он пролистал предисловие некоего Бернара Бенедика, обещавшее глубокий анализ наследия Лоренца и доступ к уникальным архивным материалам. Он не мог не оценить свободный и прозрачный слог Бенедика, знакомившего читателя с основными моментами биографии художника.
Шон Лоренц родился в Нью-Йорке в середине 1960-х годов. Его мать, Елена Лоренц, была гувернанткой, отец, не признававший, впрочем, своего отцовства, – врачом в Верхнем Вест-Сайде. Будущий художник, единственный сын у матери, детство и отрочество провел с ней на севере Гарлема, в жилом комплексе для малоимущих. Как мать ни бедствовала, она умудрилась отдать сына учиться в частное протестантское заведение. Юный Шон оказался недостоин ее жертвы: его несколько раз исключали, позже он превратился в мелкого правонарушителя. В перерывах между кражами юноша увлекся живописью, вернее, размалевыванием стен и поездов манхэттенской подземки в составе «Пиротехников» – группы энтузиастов граффити.
С фотографий в книге на Гаспара смотрел Шон в возрасте 20–25 лет – сочетание детскости и раннего знакомства с превратностями жизни – в чересчур длинном черном плаще, в футболке с дерзкой надписью, в рэперской бейсболке, в истрепанных кроссовках. На всех фотографиях его, обвешанного аэрозольными баллончиками, сопровождали двое сообщников: щуплый латино с тонкими чертами лица и сильная мужеподобная девица с неизменной индейской лентой на голове. Знаменитые «Пиротехники» покрывали своими злыми письменами вагоны, заборы, полуразрушенные стены. На немного размытых, нечетких снимках красовались заброшенные склады, пустыри, подземелья. Это был Нью-Йорк – диковатый, чумазый, жестокий и возбуждающий, знакомый Гаспару по студенческим годам.
3
– Восьмидесятые годы прошлого века были великой эпохой нью-йоркских граффити, – рассказывал Бернар Бенедик, наматывая на вилку спагетти. – Метя город, делая его своим, мальчишки вроде Шона покрывали граффити все подряд: железные ставни магазинов, почтовые ящики, мусорные баки и, конечно, вагоны метро…
Маделин, сидя напротив галериста, внимательно его слушала, не забывая жевать салат.
Положив на стол вилку и нож, Бенедик достал из кармана большой смартфон, открыл фотографии и нашел подборку, посвященную Шону Лоренцу.
– Вот, полюбуйтесь, – сказал он, протягивая Маделин гаджет.
Та стала листать на экране фотографии тех лет.
– Что такое Lorz74? – спросила она, показывая надпись, которую заметила на многих работах.
– Подпись Шона. Авторы граффити часто подписывались фамилией и номером своей улицы.
– А кто эти двое с ним рядом?
– Юнцы из его квартала, его тогдашняя компания. Они называли себя «Пиротехники». Паренек-латино подписывался NightShift. Он быстро пропал. Девчонка, похожая на бульдозер, – другое дело: это способная художница, известная как LadyBird. Одна из редких женщин в мире граффити.
В смартфоне Бенедика была дюжина фотографий. Нью-Йорк 80–90-х годов мало походил на тот город, который она знала. Тогда это были суровые каменные джунгли, кварталы, где заправляли банды, существование, пропитанное крэком. Яркие краски граффити, взрывавшиеся, как фейерверк, служили противовесом всему этому убожеству. Работы Лоренца чаще всего представляли собой огромные разноцветные буквы, круглые, как накачанные гелием воздушные шары, наползавшие друг на друга и переплетавшиеся в традициях wildstyle. Маделин вспомнила стены Манчестера, где прошла ее юность. Этот буквенный лабиринт, хаотическое скопление стрел и восклицательных знаков, вызывал у нее противоречивые чувства. Ее отталкивала анархия, тяга нарушать и отвергать все подряд, но она не могла не признать за этими мускулистыми фресками по крайней мере одно достоинство: они лихо разгоняли отлитые в бетоне тоску и серость.
– В общем, – продолжил свой рассказ галерист, – в начале девяностых Шон Лоренц был мелким правонарушителем, вместе с бандой сообщников выжигавшим себе мозг героином. Но при этом – одаренным мастером граффити, владевшим изощренной техникой, способным делать весьма любопытные вещи…
– Но ничего сверхъестественного, – догадалась Маделин.
– До лета тысяча девятьсот девяносто второго года, когда все резко переменилось.
– Что произошло тем летом?
– Тем летом Шон Лоренц повстречал на вокзале «Гранд Сентрал» француженку восемнадцати лет и влюбился в нее с первого взгляда. Ее звали Пенелопа Курковски. Ее мать была корсиканкой, отец поляком. В Нью-Йорке она жила компаньонкой за стол и кров и бегала на кастинги, надеясь стать манекенщицей. – Галерист сделал паузу, налил себе воды. – Чтобы привлечь внимание Пенелопы, Шон принялся размалевывать все подряд составы нью-йоркского метро. За два месяца он создал поразительное количество фресок, героиней которых была его Дульсинея. – Продолжая рассказ, он искал в телефоне другие фотографии. – Лоренц был не первым граффити-художником, провозглашавшим своими творениями любовь к женщине. До него этим занимались Корнбред и Джонон. Но его манера была уникальной.
Найдя искомое, Бенедик установил айфон на столе и подвинул его к Маделин.
Та, взглянув на экран, буквально раскрыла рот от неожиданности. Ей открылись истинные оды женской красоте, сладострастию, чувственности. Первые фрески были целомудренными, почти что романтичными, последующие – все более разнузданными. Пенелопа превращалась на них в женщину-лиану, множилась, становилась то крылатым, то водоплавающим существом, каждый вагон являл совершенно новый портрет. Ее голову венчали листва, розы и лилии, волосы плыли, развевались, спутывались то в изящные, то в угрожающие узоры…
4
Сидя с книгой на коленях, Гаспар Кутанс не мог оторвать взгляд от фотографий вагонов метро, расписанных Шоном Лоренцом в июле – августе 1992 года. Это была ослепительная живопись, ничего подобного он никогда прежде не видел. Вернее, видел: ему вспомнилась «Женщина-цветок» Пикассо и некоторые плакаты Альфонса Мухи из серии подпольных, под грифом «Х». Кем была эта девушка с пылающим, словно усыпанным золотыми листьями, телом? Согласно подписи под репродукцией, – супругой Лоренца, той самой Пенелопой, которую Гаспар уже видел на черно-белых семейных портретах. Двойственное создание, то уютное, то полное яда, с бесконечными ногами, алебастровой кожей и волосами цвета ржавчины.
Гаспар завороженно переворачивал страницы монографии, находя новые и новые картины, полные волнующего эротизма. На некоторых волосы Пенелопы походили на клубок змей, извивающихся у нее на плечах, обвивающихся вокруг грудей, покушающихся на лоно. Ее лицо в психоделическом нимбе, орошаемое золотым дождем, искажала судорога острого наслаждения. Ее тело раздваивалось, изгибалось, вращалось и превращалось в искрящийся факел…
5
– Этим дерзким высказыванием Лоренц ломал все коды! – восторгался Бенедик. – Он вырывался из плена жестких правил граффити, рвался в иное измерение, чем застолбил себе место в когорте живописцев масштаба Климта и Модильяни.
Маделин послушно листала страницы с переливающимися вереницами вагонов.
– Неужели от всего этого ничего не осталось?
Галерист улыбнулся улыбкой веселого фаталиста.
– В том-то и дело, что их век был мимолетным: всего одно лето. Эфемерность – самая суть городской живописи. В ней залог ее притягательности.
– Кто все это сфотографировал?
– Та самая LadyBird, создательница архивов «Пиротехников».
– Наверное, Лоренц сильно рисковал, пустившись в такое предприятие?
– Не то слово! – подхватил Бенедик. – В начале девяностых в Нью-Йорке стартовала нулевая толерантность. Силы охраны порядка получили устрашающие полномочия. Управление городского транспорта устроило настоящую охоту на граффити-художников. Суды штамповали суровые приговоры. Но Шон пренебрегал опасностью, снова и снова доказывая силу своей любви к Пенелопе.
– Как он избегал ареста?
– Шон был хитрецом. Он рассказывал мне, что завел комплект униформ, чтобы просачиваться в бригады наблюдения и проникать в депо подземки.
Маделин не могла оторваться от экрана смартфона. Эта женщина, Пенелопа, не выходила у нее из головы. Что она чувствовала при виде своего пламенеющего похотливого изображения, заполонившего Манхэттен? Радовалась или считала себя оскорбленной, униженной?
– Ну и как, он добился своего? – спросила она.
– Вас интересует, очутилась ли Пенелопа в его постели?
– Я бы это так не формулировала, но… да.
Бенедик жестом попросил два кофе.
– Сначала, – принялся объяснять он, – Пенелопа не обращала внимания на Шона. Но трудно долго игнорировать человека, который так вас боготворит. Хватило нескольких дней, чтобы она не устояла. То было лето их безумной любви. А в октябре Пенелопа вернулась во Францию.