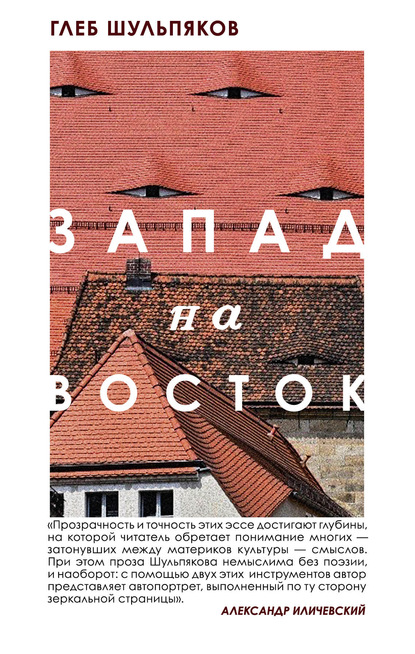По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Запад на Восток
Автор
Жанр
Год написания книги
2020
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Запад на Восток
Глеб Юрьевич Шульпяков
Гений места. Проза про писателей
Литература – это путешествие в художественное пространство Автора. Но как услышать в этом пространстве реальное время, в котором он жил и работал? В книге очерков Глеб Шульпяков осмысляет страх эпохи, который сформировал абсурд Хармса. Смотрит на Москву накануне наполеоновского вторжения глазами поэта Батюшкова. Разбирается, почему прошло 200 лет, а «Франкенштейна» Мэри Шелли по-прежнему экранизируют. Размышляет, за что природой Зла поэт Уистен Оден считал праздность, и почему Стравинский выбрал именно этого поэта для сочинения либретто к своей опере. Мы побродим по коридорам в немецком сумасшедшем доме, где лечили русского классика. Узнаем, чья коллекция легла в основу Российской Национальной библиотеки. Вспомним нерв свободы в эпоху девяностых, когда запрещенные книги Бердяева, Оруэлла, Бродского, Набокова и Домбровского возвращались к читателю. Познакомимся с поколением русских, иммигрировавших в Германию в новое время. Почти все русские поэты начиная с Ломоносова были переводчиками западной европейской классики. Русская словесность развивалась под ее пристальным взглядом, но и европейская как бы видит себя в зеркале русской. Это и есть тот диалог, без которого никакая литература невозможна.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Глеб Шульпяков
Запад на Восток
Фото на обложке – Глеб Шульпяков
Фото из архива автора
© Шульпяков Г., текст, 2020
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020
Часть 1
Моя счастливая деревня
Современный человек не успевает за временем – декорации меняются быстрее, чем он может привыкнуть. Ни в памяти, ни в мыслях ничего не остается. Прошлое пусто, и даже вещи исчезают из обихода, так и не состарившись.
«Куда все исчезло? Зачем было?»
Лейтмотив жизни.
В прошлом году я купил избу в деревне. В нашей деревне нет мобильной связи, нигде и никакой. Правда, Лёха (он же Лёнька) утверждает, что одна палка бывает за избой Шлёпы. И вот я брожу вокруг заросшей заброшенной избы, пока не распарываю сапог.
Не ловит.
Первое время ладонь машинально проверяет карман, но вскоре о телефоне забыто. Я вспоминаю про трубку, когда пора выходить на связь. Телефон валяется в дровах – наверное, выпал из кармана, когда я возился с печкой. С изумлением Робинзона разглядываю мертвый экран. Какое нелепое устройство!
Я пропадаю в деревне неделями, и связь мне все-таки требуется. Доложить своим, что жив-здоров, не голодаю и не мерзну. Что не был подвергнут нападению хищников, не утонул в болоте и не свалился в колодец, не покалечил себя топором или вилами, не угорел в бане и не подрался с Лёхой-Лёнькой.
«Главное, дождись, чтобы угли прогорели…»
«Ложный гриб на разрезе темнеет…»
«Воду кипяти…»
«Топор ночью в доме – на всякий случай…»
«Клади от мышей сверху камень…»
Наивные люди.
Мобильная связь есть на Сергейковской Горке, но там ловит чужой оператор. Мой ловит в сторону Фирова, но туда в слякоть плохая дорога – ее разбили лесовозами, когда воровали лес. И вот спустя месяц я узнаю, что связь есть еще в одном месте.
Там работают все операторы.
В нашей деревне шесть изб, это тупик, хутор. Две семьи живут круглый год, одна съезжает на зиму в Волочек, в двух избах наездами дачники (я и еще один тип, писатель-старожил). Крайняя, Шлёпина, пустует.
– А где хозяин?
– Удавился, – безразлично отвечает Лёха.
Еще есть лошадь Даша, корова, теленок и две собаки. Одна собака, Лёхина, похожа на героя из мультфильма, такая же черная и осунувшаяся, с седыми проплешинами. Про себя я называю ее Волчок. Он сидит на привязи и выскакивает над забором, когда проходишь мимо, – как черт из табакерки. А вторую зовут Ветка, она бегает свободно.
Через лес в деревню ведет аллея от главной дороги, на углу которой кладбище. Погост, каких в любой области множество, полузаброшен, кресты торчат из крапивы. Сквозь буйную, особой кладбищенской сочности зелень поблескивает облупленная эмаль и чернеет ржавчина. Куски кирпичной кладки: тут была церковная ограда.
Пейзаж под стать погосту: первое время ощущение его нищенской скудности угнетает меня. Зачем я сюда забрался? Но это впечатление, разумеется, мнимое. Чтобы ощутить подспудное, замкнутое в себе и на себе обаяние этих земель, несравнимое с картинными косогорами где-нибудь в Орловской области – или полями за Владимиром, – надо забыть про пейзаж; ничего не ждать от него и не требовать.
Рельеф стелющийся, его верхняя линия занижена – так выглядит невысокий сарай, заросший травой, или изба, наполовину ушедшая в землю, и возникает чувство неловкости; несоразмерности себя тому, что видишь, на фоне чего находишься. Лес непролазен и густ, настоящий бурелом. Облака висят настолько низко, что хочется пригнуть голову. Пейзажные линии нигде не сходятся и ничего, что можно назвать картиной природы, не образуют. Такое ощущение, что сюда свалили выбракованные и разрозненные элементы других пейзажей.
Но в действительности мы на вершине огромного геологического купола.
Высшая точка Валдайской возвышенности (346,9 метра над уровнем моря) находится в соседней деревне, то есть моя изба – страшно подумать – возвышается над Москвой на высоту шпиля МГУ. И тогда все становится понятным. Бесконечный спуск, этот складчатый скат, по которому сползают леса и пригорки, – отсюда; и вид его, и характер – фрагментарный, как пейзаж в долине горного перевала, – тоже. Здесь склон ли, горка – всё спуск. Ощущение высоты настигает внезапно, в точке, откуда рельеф выстреливает, как пружина. Таких мест немного, но они есть; специально открыть их невозможно, хотя пару деревень на холмах с абсолютно гималайскими видами я знаю. Нет, ты просто случайно выбредаешь на край огромной пустоши и – раз! – покатились из-под ног валики холмов, сдвинулась ширма леса; отъехал за горизонт задник; огромная, с хребет сказочного кита, сцена открылась; и этого кита – с перелесками и деревнями на хребте – видно.
…Кит, сцена, ширма – да. Но! Требовались конкретные ориентиры, зарубки. Засечки на местности, опознавательные знаки. Не проскочить поворот, не проехать развилку, не угодить в выбоину. Вот римские руины Льнозавода – значит, скоро «проблемный участок дороги». А вот двухъярусная церковь, вернее, что от нее осталось (короб), – тут развилка.
Заброшенный Дом культуры, через дорогу сельпо.
У дороги мелькает памятный крест из арматуры.
– Шлёпу насмерть… – мрачно комментирует Лёха-Лёнька. – Машиной.
Я послушно давлю на сигнал.
За карьером поворот, там кладбище и последний отрезок. Я вкатываюсь на едва заметную в темноте аллею, притормаживаю. На кладбище чья-то фигура бродит между могил, приложив к щеке руку. Я выключаю фары и прислушиваюсь. Призрак разговаривает вполголоса, его лицо, подсвеченное голубым светом, мерцает в темноте, как медуза. Потом огонек гаснет, а на дороге раздается шорох. Человек, поднявшийся на шоссе, уходит.
Я машинально лезу за телефоном (невроз, знакомый каждому).
Сигнал есть!
Изба есть механизм, усваивающий время; так мне, во всяком случае, представляется. Естественное старение материала – то, как оседают венцы или замысловато тянется трещина; как уходит в землю валун, на котором крыльцо; как древесина становится камнем, куда уже не вобьешь гвозди, – во всем этом есть время, его равномерное, слой за слоем, откладывание в прошлое. Туда, откуда, как из годовых колец дерево, складываются настоящее и будущее. К тому же Лёха-Лёнька, его алкогольные циклы – их амплитуда тоже поражает почти природным своим постоянством. Знать эту амплитуду мне крайне важно, ведь на Лёхе в деревне электрика, дрова, вода, печи, лошадь и т. д. Она хорошо считывается с первым снегом. Если следы ведут от избы к баньке, значит, сосед «выхаживается». Если снег протоптан к соседской избе – Лёха на старте, он жаждет общения и пару дней еще будет вязать лыко. Если следы в лес, Лёха не пьет, рубит лес. Ну а если в деревне беспорядочно натоптано – как, например, сегодня, – Лёха на пике.
В этот промежуток он не столько опасен, сколько назойлив, и, чтобы избавиться от его общества, я всегда держу в багажнике пузырь водки и баклажку пива. Водку надо сунуть вечером, когда он подкатит к «барину» «с приездом». Она «прибьет» его на ночь. А пиво – на утро, поскольку с похмелюги он притащится под окна, как только увидит дымок над крышей («Кто поил Лёху?»). Досуг следующего вечера он, как правило, организует себе сам, то есть попросту исчезает.
Мой деревенский быт незначительный, но докучный. Серьезных дел нет, но натаскать и вымести, заткнуть и высушить, приподнять и подпереть, заменить и настроить, протопить – и так далее, и так далее. Время в таких делах летит незаметно. Вот соседка Таня в лес пошла – а вот уже возвращается с полной корзиной. Только что улетучился с поля утренний туман, пористый и прозрачный, – как с другого конца уже наползает густой вечерний. Но странное дело, это необременительное, быстрое время, наполненное незначительными мелочами – время, утекающее незаметно и безболезненно, – оставляет в тебе ощущение весомости и значимости. Никакими подвигами не отмеченное, оно не уходит в песок, не проходит даром – как то, городское время. А попадает прямиком в прошлое, в его подпол, где и накапливается, и зреет.
И тут Лёха говорит мне:
– Послушай Лёху, сходи на кладбище. – Во время запоя он переходит на третье лицо. – Лёха плохого не посоветует.
В старом ватнике, который стоит на спине колом, Лёха похож на горбатого. В кармане булькает разведенный спирт: основное деревенское пойло. В горсти конфетка.
Глеб Юрьевич Шульпяков
Гений места. Проза про писателей
Литература – это путешествие в художественное пространство Автора. Но как услышать в этом пространстве реальное время, в котором он жил и работал? В книге очерков Глеб Шульпяков осмысляет страх эпохи, который сформировал абсурд Хармса. Смотрит на Москву накануне наполеоновского вторжения глазами поэта Батюшкова. Разбирается, почему прошло 200 лет, а «Франкенштейна» Мэри Шелли по-прежнему экранизируют. Размышляет, за что природой Зла поэт Уистен Оден считал праздность, и почему Стравинский выбрал именно этого поэта для сочинения либретто к своей опере. Мы побродим по коридорам в немецком сумасшедшем доме, где лечили русского классика. Узнаем, чья коллекция легла в основу Российской Национальной библиотеки. Вспомним нерв свободы в эпоху девяностых, когда запрещенные книги Бердяева, Оруэлла, Бродского, Набокова и Домбровского возвращались к читателю. Познакомимся с поколением русских, иммигрировавших в Германию в новое время. Почти все русские поэты начиная с Ломоносова были переводчиками западной европейской классики. Русская словесность развивалась под ее пристальным взглядом, но и европейская как бы видит себя в зеркале русской. Это и есть тот диалог, без которого никакая литература невозможна.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Глеб Шульпяков
Запад на Восток
Фото на обложке – Глеб Шульпяков
Фото из архива автора
© Шульпяков Г., текст, 2020
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020
Часть 1
Моя счастливая деревня
Современный человек не успевает за временем – декорации меняются быстрее, чем он может привыкнуть. Ни в памяти, ни в мыслях ничего не остается. Прошлое пусто, и даже вещи исчезают из обихода, так и не состарившись.
«Куда все исчезло? Зачем было?»
Лейтмотив жизни.
В прошлом году я купил избу в деревне. В нашей деревне нет мобильной связи, нигде и никакой. Правда, Лёха (он же Лёнька) утверждает, что одна палка бывает за избой Шлёпы. И вот я брожу вокруг заросшей заброшенной избы, пока не распарываю сапог.
Не ловит.
Первое время ладонь машинально проверяет карман, но вскоре о телефоне забыто. Я вспоминаю про трубку, когда пора выходить на связь. Телефон валяется в дровах – наверное, выпал из кармана, когда я возился с печкой. С изумлением Робинзона разглядываю мертвый экран. Какое нелепое устройство!
Я пропадаю в деревне неделями, и связь мне все-таки требуется. Доложить своим, что жив-здоров, не голодаю и не мерзну. Что не был подвергнут нападению хищников, не утонул в болоте и не свалился в колодец, не покалечил себя топором или вилами, не угорел в бане и не подрался с Лёхой-Лёнькой.
«Главное, дождись, чтобы угли прогорели…»
«Ложный гриб на разрезе темнеет…»
«Воду кипяти…»
«Топор ночью в доме – на всякий случай…»
«Клади от мышей сверху камень…»
Наивные люди.
Мобильная связь есть на Сергейковской Горке, но там ловит чужой оператор. Мой ловит в сторону Фирова, но туда в слякоть плохая дорога – ее разбили лесовозами, когда воровали лес. И вот спустя месяц я узнаю, что связь есть еще в одном месте.
Там работают все операторы.
В нашей деревне шесть изб, это тупик, хутор. Две семьи живут круглый год, одна съезжает на зиму в Волочек, в двух избах наездами дачники (я и еще один тип, писатель-старожил). Крайняя, Шлёпина, пустует.
– А где хозяин?
– Удавился, – безразлично отвечает Лёха.
Еще есть лошадь Даша, корова, теленок и две собаки. Одна собака, Лёхина, похожа на героя из мультфильма, такая же черная и осунувшаяся, с седыми проплешинами. Про себя я называю ее Волчок. Он сидит на привязи и выскакивает над забором, когда проходишь мимо, – как черт из табакерки. А вторую зовут Ветка, она бегает свободно.
Через лес в деревню ведет аллея от главной дороги, на углу которой кладбище. Погост, каких в любой области множество, полузаброшен, кресты торчат из крапивы. Сквозь буйную, особой кладбищенской сочности зелень поблескивает облупленная эмаль и чернеет ржавчина. Куски кирпичной кладки: тут была церковная ограда.
Пейзаж под стать погосту: первое время ощущение его нищенской скудности угнетает меня. Зачем я сюда забрался? Но это впечатление, разумеется, мнимое. Чтобы ощутить подспудное, замкнутое в себе и на себе обаяние этих земель, несравнимое с картинными косогорами где-нибудь в Орловской области – или полями за Владимиром, – надо забыть про пейзаж; ничего не ждать от него и не требовать.
Рельеф стелющийся, его верхняя линия занижена – так выглядит невысокий сарай, заросший травой, или изба, наполовину ушедшая в землю, и возникает чувство неловкости; несоразмерности себя тому, что видишь, на фоне чего находишься. Лес непролазен и густ, настоящий бурелом. Облака висят настолько низко, что хочется пригнуть голову. Пейзажные линии нигде не сходятся и ничего, что можно назвать картиной природы, не образуют. Такое ощущение, что сюда свалили выбракованные и разрозненные элементы других пейзажей.
Но в действительности мы на вершине огромного геологического купола.
Высшая точка Валдайской возвышенности (346,9 метра над уровнем моря) находится в соседней деревне, то есть моя изба – страшно подумать – возвышается над Москвой на высоту шпиля МГУ. И тогда все становится понятным. Бесконечный спуск, этот складчатый скат, по которому сползают леса и пригорки, – отсюда; и вид его, и характер – фрагментарный, как пейзаж в долине горного перевала, – тоже. Здесь склон ли, горка – всё спуск. Ощущение высоты настигает внезапно, в точке, откуда рельеф выстреливает, как пружина. Таких мест немного, но они есть; специально открыть их невозможно, хотя пару деревень на холмах с абсолютно гималайскими видами я знаю. Нет, ты просто случайно выбредаешь на край огромной пустоши и – раз! – покатились из-под ног валики холмов, сдвинулась ширма леса; отъехал за горизонт задник; огромная, с хребет сказочного кита, сцена открылась; и этого кита – с перелесками и деревнями на хребте – видно.
…Кит, сцена, ширма – да. Но! Требовались конкретные ориентиры, зарубки. Засечки на местности, опознавательные знаки. Не проскочить поворот, не проехать развилку, не угодить в выбоину. Вот римские руины Льнозавода – значит, скоро «проблемный участок дороги». А вот двухъярусная церковь, вернее, что от нее осталось (короб), – тут развилка.
Заброшенный Дом культуры, через дорогу сельпо.
У дороги мелькает памятный крест из арматуры.
– Шлёпу насмерть… – мрачно комментирует Лёха-Лёнька. – Машиной.
Я послушно давлю на сигнал.
За карьером поворот, там кладбище и последний отрезок. Я вкатываюсь на едва заметную в темноте аллею, притормаживаю. На кладбище чья-то фигура бродит между могил, приложив к щеке руку. Я выключаю фары и прислушиваюсь. Призрак разговаривает вполголоса, его лицо, подсвеченное голубым светом, мерцает в темноте, как медуза. Потом огонек гаснет, а на дороге раздается шорох. Человек, поднявшийся на шоссе, уходит.
Я машинально лезу за телефоном (невроз, знакомый каждому).
Сигнал есть!
Изба есть механизм, усваивающий время; так мне, во всяком случае, представляется. Естественное старение материала – то, как оседают венцы или замысловато тянется трещина; как уходит в землю валун, на котором крыльцо; как древесина становится камнем, куда уже не вобьешь гвозди, – во всем этом есть время, его равномерное, слой за слоем, откладывание в прошлое. Туда, откуда, как из годовых колец дерево, складываются настоящее и будущее. К тому же Лёха-Лёнька, его алкогольные циклы – их амплитуда тоже поражает почти природным своим постоянством. Знать эту амплитуду мне крайне важно, ведь на Лёхе в деревне электрика, дрова, вода, печи, лошадь и т. д. Она хорошо считывается с первым снегом. Если следы ведут от избы к баньке, значит, сосед «выхаживается». Если снег протоптан к соседской избе – Лёха на старте, он жаждет общения и пару дней еще будет вязать лыко. Если следы в лес, Лёха не пьет, рубит лес. Ну а если в деревне беспорядочно натоптано – как, например, сегодня, – Лёха на пике.
В этот промежуток он не столько опасен, сколько назойлив, и, чтобы избавиться от его общества, я всегда держу в багажнике пузырь водки и баклажку пива. Водку надо сунуть вечером, когда он подкатит к «барину» «с приездом». Она «прибьет» его на ночь. А пиво – на утро, поскольку с похмелюги он притащится под окна, как только увидит дымок над крышей («Кто поил Лёху?»). Досуг следующего вечера он, как правило, организует себе сам, то есть попросту исчезает.
Мой деревенский быт незначительный, но докучный. Серьезных дел нет, но натаскать и вымести, заткнуть и высушить, приподнять и подпереть, заменить и настроить, протопить – и так далее, и так далее. Время в таких делах летит незаметно. Вот соседка Таня в лес пошла – а вот уже возвращается с полной корзиной. Только что улетучился с поля утренний туман, пористый и прозрачный, – как с другого конца уже наползает густой вечерний. Но странное дело, это необременительное, быстрое время, наполненное незначительными мелочами – время, утекающее незаметно и безболезненно, – оставляет в тебе ощущение весомости и значимости. Никакими подвигами не отмеченное, оно не уходит в песок, не проходит даром – как то, городское время. А попадает прямиком в прошлое, в его подпол, где и накапливается, и зреет.
И тут Лёха говорит мне:
– Послушай Лёху, сходи на кладбище. – Во время запоя он переходит на третье лицо. – Лёха плохого не посоветует.
В старом ватнике, который стоит на спине колом, Лёха похож на горбатого. В кармане булькает разведенный спирт: основное деревенское пойло. В горсти конфетка.