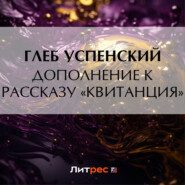По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Добрые люди
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Добрые люди
Глеб Иванович Успенский
Кой про что #3
«…Любовно изображая «одинокие фигурки» добрых людей, Успенский здесь же утверждает, что они «не имели никакого общественного значения» в деревне, потому что терялись среди деревенских хищников и живорезов, олицетворявших, по мнению писателя, «известный порядок вещей», который довел крестьян до каторжного труда, нищеты и разорения…»
Глеб Иванович Успенский
Добрые люди
I
Человек доброй души, швейцар, помогший Михайле словом и делом выбраться из ничтожества на белый свет, то есть жениться и устроить собственное свое хозяйство, совершенно неожиданно пробудил во мне воспоминания о бесчисленном множестве добрых душ, добрых людей, которых мне постоянно приходилось встречать и в городской и в деревенской среде. «Отчего это, – подумалось мне, – я так мало касался людей такого сорта и отчего, напротив, всевозможного рода хищники и живорезы так много поглощали моего внимания?» И, припомнив, как было дело, я убедился, что к этому не было никакой возможности, потому что добрые люди, как бы много ни приходилось встречать их в жизни, были явления единичные, своеобразные, люди, проявлявшие свою доброту на свой образец, в своем уголке, в своем частном кругу, тогда как хищники, живорезы, были и есть люди известного общественного течения, люди, олицетворяющие собою известный порядок вещей, ненавистники всякого иного порядка, с которым они и борются всеми возможными средствами и ни пред чем не останавливаясь.
Какой-нибудь добродушнейший вдовый мужичок, вроде известного в наших местах «Митеньки», надумает «сам по себе», что надобно, мол, бедным помогать, и начнет творить добро в своем уголке. Митенька, например, чтобы «творить добро», ухитрился сделаться лекарем, стал лечить петербургских купчих из Ямской молитвами и травами и сумел прослыть за великого искусника и целителя, а когда достиг большой популярности и стал зарабатывать множество денег, то, возвращаясь в деревню, принялся творить добрые дела, помогал бедным, вдовам, сиротам, разорившемуся мужику и т. д. В «своих местах» его помнят, и помнят главным образом те, кому он помог, поддержал. Но уже одно то, что этот «Митенька» был зарезан своим работником, и притом с целью грабежа, доказывает, как широка была волна хищничества и наживы и как почти бесследно, словно капли в море, исчезали в ее бурном потоке эти одинокие фигурки добрых людей и их маленьких добрых дел. Не до них было в то время. Если же теперь эти одинокие фигурки и их одинокие, не имевшие никакого общественного значения добрые дела и начинают возникать в памяти, то единственно только потому, что уж слишком надоело и измучило обилие всевозможных дел и людей живорезного направления.
II
Еду я раз как-то, лет шесть тому назад, с одной из станций узкоколейной дороги, направляясь на дачу, нанятую на лето моим приятелем. Проехав несколько верст по шоссе (не знаю, земское оно или еще аракчеевское), я должен был свернуть в сторону, в лес.
До поворота оставалось не более нескольких десятков саженей, как вдруг из лесочка, в который нам именно и следовало повернуть, с треском вылетела телега и загородила нам дорогу. В телеге были ящики с пивом, а на облучке ее качался из стороны в сторону и едва мог сидеть совершенно пьяный мужик без шапки. Не успела выскочить из лесу телега, как за ней, с плясом, с гармонией, с песнями и присвистами, выступила огромная толпа мужиков и баб, молодых и старых, и среди этой веселой и сильно подгулявшей толпы с трудом двигался до невозможности развинченный, дребезжащий, весь исковерканный и изломанный тарантас. В этом тарантасе сидел какой-то человек, худенький, кривобокий, изможденный, крепко пьяный, в расстегнутом пиджаке и жилете. Две молодые здоровые бабы с гармониями сидели у него в ногах, свесив свои ноги на подножки тарантаса, и горланили песни, в то время как кривобокий человек, из всех сил надсаживая свою разбитую грудь и стараясь перекричать галдевшую толпу, махал своим картузом и почти кричал:
– Милочки мои! Поклонники вы мои! Не забуду я вас до гробовой доски! Други! Ангелы мои!..
– Филипыч! – галдели мужики и бабы. – Ты отец наш! Ты наш покровитель!.. Бог тебя не оставит!.. Эй, шевелись, с пивом-то, потчуй!
– Откупоривай живей! На перекрестке поздравим Филипыча!
– Ангельчики мои! Милочки мои! Отрада моя единственная! – продолжал надсаждаться Филипыч, весь бледный, пьяный, возбужденный, со слезами на глазах.
Среди этого галдения в толпе, растащившей пивные ящики, хлопали бутылки кабацкого шипучего пива, разогретого летним послеобеденным солнцем; откупоривали его кто гвоздем, кто кнутом, протыкая пробку, кто хлопал горлышком бутылки об колесо, причем мужики и бабы резали себе руки, а иногда и губы до крови, и все это, мокрое, пьяное, еще шумнее принималось галдеть, лезло к Филипычу целоваться, вопияло: «Отец! Благодетель! Ты наш помещик! Мы твои подданные, поклонники!»
– Подымай его на уру! На уру бери! Берись, ребята!
Толпа сгрудилась у тарантаса, что дало нам возможность потихонечку объехать его, и в то время, как мы поворачивали в лесок, Филипыч летал над толпой как перо, махал руками, плакал и выкрикивал:
– Ангелы! Поклонники!.. Купидоны!
– Ура-а-а!..
– Вали на вокзал! Вали, ребята, до вагону провожать! трогай все!..
– Ура-а-а!
– Убьют они его! – оглядываясь на летавшего Филипыча, сказал мой возница, и мы въехали в лесок.
– Что это такое? – спросил я извозчика.
– А уж, право, не знаю… Да вот мы увспросим… Бабушка!.. Э-эй, старушка! – окликнул он какую-то старушку, направлявшуюся по той же дороге, по которой ехали и мы.
Сгорбленная старуха с палочкой в руках остановилась, закашлялась. Извозчик приостановил лошадь.
– Что это у вас за помещик объявился? – спросил извозчик.
Старушка долго кашляла, закрывая рот рукою, наконец проговорила:
– Да ты посади-ко меня в телегу-то, подвези старуху, я тебе все расскажу.
– Садить, что ли? – спросил ямщик.
– Конечно, подвезем!
– Ну садись, бабка, полезай!
С трудом взобралась старушка на телегу и уселась посередке, прямо на сене.
– Ты не больно прытко поезжай-то, – сказала она ямщику. – У меня кости старые, по камню-то всеё разобьешь…
– Ну, ладно!
Поехали шажком.
– А это, – начала старуха, – мы провожали нашего отца-благодетеля, покровителя нашего, Артамона Филипыча! Вот каков наш помещик!.. Кажинный год об эту пору он к нам в гости приезжает, ну вот мы его и чтим. Кабы не он, вовеки бы мы свету не видали, так бы и запропали в своей трущобе, как медведи…
– Да что ж он, каким таким родом вызволил вас?
– А вот видишь дорогу-то? Ведь теперь мы с тобой едем все одно что по московскому тракту, каменная ведь у нас дорога-то теперича, а что было? А было невылазное болото… Только по зимам и свет видели… Ну вот эту самую дорогу Артамон-то Филипыч нам и пожертвовал… Вот он кто – Артамонушка-то!..
Дорога действительно была новая; по бокам шли две широкие и глубокие канавы, на средине был плотно накатан прутняк, а поверх его была насыпана, повидимому недавно, довольно узенькая полоска щебенки…
– Да кто он сам-то?
– А сам-то он портной петербургский. В Ямской у него свое заведение. Вот он кто будет!
– Каким же родом он к вам-то попал?
– То-то вот господь его нам послал!.. А таким родом вышло это дело. Мой-то старший сын теперь старостой в должности состоит, а годов с пять тому назад проживал он в Питере в дворниках… Вот и случись ему служить в том самом доме, где у Артамонушки это заведение находится. О самую об эту пору Артамонушко-то женился, взял за себя сироту; мой сын-то, Андриян, говорит – «первая, говорит, была красавица, что умная, что добрая, что красивая, одно слово, не нарадоваться». Прожили они год душа в душу, а на другой-то год она возьми да и помри; и неведомо с чего! И похворала-то всего, говорит Андриян-то, всего, говорит, с полсуток и богу душу отдала. Вот Артамонушко-то и затосковал. Стал пить, стал убиваться, и так, что даже заведение свое едва-едва не перевел. И стал он в этаком-то расстройстве ходить к моему Андрияну в дворницкую… Полюбился ли ему мой Андриян или уж так, тоска-то ему оченно велика была, только зачал он, Филипыч-то, кажинный день к Андрияну захаживать. «Посижу хоть у тебя на людях, а то одному-то смерть в доме… Сходи-кось за пивом и за вином…» Вот Андриян сходит, принесет, они и сидят – пьют, а Филипыч-то на свою участь жалуется – сирота, вишь, он круглая, на веку горя напримался, а теперь вот один-одинехонек… Ни родни, ничего нет у него! И пошла у них с Андрияном дружба закадычная… То он у Андрияна в дворницкой, то Андриян у него в горнице. Под конец так стало, что Андриян-то совсем почитай что у Филипыча поселился: и днюют, и ночуют, и пьют, и едят – все увместях с Филипычем… Видит мой Андриянушко, что человек-то очень уж сердцем добер, а тоски-то своей смертной избыть не может – и стал говорить ему: «Эх, мол, Артамонушка! И чего ты убиваешься? Воротить ты ее, жену-то любимую, не воротишь, на другой тебе жениться совесть не дозволяет, чего уж убиваться понапрасну-то? Поглядел бы ты, говорит, на наше горе деревенское, мужицкое; посмотрел бы, как мы-то горько бьемся, так тогда твоя-то беда с маково бы зерно показалась…» И стал ему за беседою-то про наше про крестьянское житье рассказывать; и про голодовки, и про хворь, и про труды каторжные, про зимы трескучие, про болоты, чащобу непроходимую… И дороги-то от нас нету, окроме как зимой, а ведь у нас в летнюю пору что господ проезжает – иной продал бы яичек, ягодок, грибков, а нам, горемычным, и вылазу нет, особливо как дождик хлынет… Или взять сено – по весне ему хорошая цена, и летом оно в цене, а лежит оно у нас зря, ежели зимой не продадим, потому вылазу нету… А как его зимой продать, когда зимой-то из-под всех местов, которые к Питеру ближе, по зимнему-то пути его натащат… Рассказывал, рассказывал ему так-то про наше горькое горе, вот Филипыча-то и взяло за сердце… Разжалобился он, поплакал, да и говорит Андрияну: «Вот что, Андриян. Не буду я себе искать утехи в новой жене, потому что старой мне невозможно забыть, а будет у меня две отрады – надгробная, говорит, могила да твоя деревня. Буду я, говорит, для вас благодетелем, а вы меня, сироту, почитайте и после смерти моей должны поминать; а лягу я в могилу рядом с милой моей супругой. А что я выработаю по портновской части и какой есть у меня достаток, то все предоставлю вам, как ваш полный благодетель. Поедем, говорит, в твою деревню, давай я вам дорогу сделаю, вылезайте на белый свет, почитайте меня, сироту!» Ну вот и приехали они с Андрияном-то. Сейчас собрали сход, поставил Филипыч угощение, поклонился мирянам: «Любите, говорит, меня, сироту, милые мои други, а я вас не покину. На руки денег не просите, у меня таких денег нет, а по силе, по мочи для всей деревни буду стараться!» Ну, погуляли, попили, песен поиграли ему, повеличали, опять угостил. Вот и вынул двести рублей: «Ладьте, ребята, дорогу! Теперь больше у меня нету, а выработаю, через год опять дам!» И с тех пор, как по часам, у него пошло: как первый раз приехал на Ольгу (жену-то его Ольгой звали), так каждый год в это число и объявляется. С приезду он нам ставит угощение, а потом мы ему трое суток усердствуем – вот он какой Филипыч-то! На первый-то год канавы прокопали, на второй хворосту натаскали, мостики уделали, а потом и камень купил… Да окромя этого две тысячи саженей малых канав прокопал, гривеничных, и где было болото – там теперича пашня у нас… Вот каков наш помещик, благодетель! – кабы не он, так нам бы и свету-то божьего не видать, так комары нас бы и слопали до костей…
– Да, – сказал извозчик. – Человек на редкость! Этаких божьих людей поискать! Ишь ведь как его господь-то умудрил!..
– Уж человек – чего говорить! – сказала старушка. – Восьмой десяток живу на свете, а, кажется, и во сне такой добряга не снился… Да хворый! Ишь ведь какой хлипкой! Проживет ли долго-то? Теперь уж непременно с ним на машине что-нибудь недоброе случится. Пьяных-то не пущают, бьют… Кажинный раз его этак-то калечат, пьяного-то… А что – добер, так и слов нет, как и похвалить-то его!
Да, добрый, хороший человек этот портной Артамонушко!
III
А вот и еще тоже несомненно добрый и несомненно хороший человечек вспоминается мне. Слово «человечек» характеризует в одинаковой степени как размеры его доброты, теряющиеся в широком просторе суровых деревенских порядков и отношений, так и подлинные размеры самой фигуры Ивана Николаича. Иван Николаич – крестьянин Вологодской губернии, по ремеслу плотник. Аккуратно, в первых числах апреля, маленькая фигурка этого доброго человечка появляется в наших местах. Маленький, плохо кормленный и много битый с детства, Иван Николаевич покрывает все свои физические изъяны и недостатки необыкновенною добротою своих глаз, необыкновенною ласковостью, ободрительною приятностью разговора, ласковым, одобряющим словом. Неприятных, неласковых, грубых слов или таких речей, от которых собеседнику Ивана Николаевича стало бы скучно, трудно или неприятно вообще, – никогда не произносили уста Ивана Николаевича…
– Вот господь привел свидеться! – радостно начинает он свою речь, появляясь в наших местах, и в течение всего времяпребывания, вплоть до 1 ноября, вы не слышите от него иных речей, как, примерно, такие: «Не беспокойся. Не тужи. Все будет сделано! А что ежели материалу нет – найдем! хватит, уж не сомневайся! Иван Николаев не такой человек! Все будет сделано, только сам-то справляйся, не запускай своих делов! не расстраивайся!»
Глеб Иванович Успенский
Кой про что #3
«…Любовно изображая «одинокие фигурки» добрых людей, Успенский здесь же утверждает, что они «не имели никакого общественного значения» в деревне, потому что терялись среди деревенских хищников и живорезов, олицетворявших, по мнению писателя, «известный порядок вещей», который довел крестьян до каторжного труда, нищеты и разорения…»
Глеб Иванович Успенский
Добрые люди
I
Человек доброй души, швейцар, помогший Михайле словом и делом выбраться из ничтожества на белый свет, то есть жениться и устроить собственное свое хозяйство, совершенно неожиданно пробудил во мне воспоминания о бесчисленном множестве добрых душ, добрых людей, которых мне постоянно приходилось встречать и в городской и в деревенской среде. «Отчего это, – подумалось мне, – я так мало касался людей такого сорта и отчего, напротив, всевозможного рода хищники и живорезы так много поглощали моего внимания?» И, припомнив, как было дело, я убедился, что к этому не было никакой возможности, потому что добрые люди, как бы много ни приходилось встречать их в жизни, были явления единичные, своеобразные, люди, проявлявшие свою доброту на свой образец, в своем уголке, в своем частном кругу, тогда как хищники, живорезы, были и есть люди известного общественного течения, люди, олицетворяющие собою известный порядок вещей, ненавистники всякого иного порядка, с которым они и борются всеми возможными средствами и ни пред чем не останавливаясь.
Какой-нибудь добродушнейший вдовый мужичок, вроде известного в наших местах «Митеньки», надумает «сам по себе», что надобно, мол, бедным помогать, и начнет творить добро в своем уголке. Митенька, например, чтобы «творить добро», ухитрился сделаться лекарем, стал лечить петербургских купчих из Ямской молитвами и травами и сумел прослыть за великого искусника и целителя, а когда достиг большой популярности и стал зарабатывать множество денег, то, возвращаясь в деревню, принялся творить добрые дела, помогал бедным, вдовам, сиротам, разорившемуся мужику и т. д. В «своих местах» его помнят, и помнят главным образом те, кому он помог, поддержал. Но уже одно то, что этот «Митенька» был зарезан своим работником, и притом с целью грабежа, доказывает, как широка была волна хищничества и наживы и как почти бесследно, словно капли в море, исчезали в ее бурном потоке эти одинокие фигурки добрых людей и их маленьких добрых дел. Не до них было в то время. Если же теперь эти одинокие фигурки и их одинокие, не имевшие никакого общественного значения добрые дела и начинают возникать в памяти, то единственно только потому, что уж слишком надоело и измучило обилие всевозможных дел и людей живорезного направления.
II
Еду я раз как-то, лет шесть тому назад, с одной из станций узкоколейной дороги, направляясь на дачу, нанятую на лето моим приятелем. Проехав несколько верст по шоссе (не знаю, земское оно или еще аракчеевское), я должен был свернуть в сторону, в лес.
До поворота оставалось не более нескольких десятков саженей, как вдруг из лесочка, в который нам именно и следовало повернуть, с треском вылетела телега и загородила нам дорогу. В телеге были ящики с пивом, а на облучке ее качался из стороны в сторону и едва мог сидеть совершенно пьяный мужик без шапки. Не успела выскочить из лесу телега, как за ней, с плясом, с гармонией, с песнями и присвистами, выступила огромная толпа мужиков и баб, молодых и старых, и среди этой веселой и сильно подгулявшей толпы с трудом двигался до невозможности развинченный, дребезжащий, весь исковерканный и изломанный тарантас. В этом тарантасе сидел какой-то человек, худенький, кривобокий, изможденный, крепко пьяный, в расстегнутом пиджаке и жилете. Две молодые здоровые бабы с гармониями сидели у него в ногах, свесив свои ноги на подножки тарантаса, и горланили песни, в то время как кривобокий человек, из всех сил надсаживая свою разбитую грудь и стараясь перекричать галдевшую толпу, махал своим картузом и почти кричал:
– Милочки мои! Поклонники вы мои! Не забуду я вас до гробовой доски! Други! Ангелы мои!..
– Филипыч! – галдели мужики и бабы. – Ты отец наш! Ты наш покровитель!.. Бог тебя не оставит!.. Эй, шевелись, с пивом-то, потчуй!
– Откупоривай живей! На перекрестке поздравим Филипыча!
– Ангельчики мои! Милочки мои! Отрада моя единственная! – продолжал надсаждаться Филипыч, весь бледный, пьяный, возбужденный, со слезами на глазах.
Среди этого галдения в толпе, растащившей пивные ящики, хлопали бутылки кабацкого шипучего пива, разогретого летним послеобеденным солнцем; откупоривали его кто гвоздем, кто кнутом, протыкая пробку, кто хлопал горлышком бутылки об колесо, причем мужики и бабы резали себе руки, а иногда и губы до крови, и все это, мокрое, пьяное, еще шумнее принималось галдеть, лезло к Филипычу целоваться, вопияло: «Отец! Благодетель! Ты наш помещик! Мы твои подданные, поклонники!»
– Подымай его на уру! На уру бери! Берись, ребята!
Толпа сгрудилась у тарантаса, что дало нам возможность потихонечку объехать его, и в то время, как мы поворачивали в лесок, Филипыч летал над толпой как перо, махал руками, плакал и выкрикивал:
– Ангелы! Поклонники!.. Купидоны!
– Ура-а-а!..
– Вали на вокзал! Вали, ребята, до вагону провожать! трогай все!..
– Ура-а-а!
– Убьют они его! – оглядываясь на летавшего Филипыча, сказал мой возница, и мы въехали в лесок.
– Что это такое? – спросил я извозчика.
– А уж, право, не знаю… Да вот мы увспросим… Бабушка!.. Э-эй, старушка! – окликнул он какую-то старушку, направлявшуюся по той же дороге, по которой ехали и мы.
Сгорбленная старуха с палочкой в руках остановилась, закашлялась. Извозчик приостановил лошадь.
– Что это у вас за помещик объявился? – спросил извозчик.
Старушка долго кашляла, закрывая рот рукою, наконец проговорила:
– Да ты посади-ко меня в телегу-то, подвези старуху, я тебе все расскажу.
– Садить, что ли? – спросил ямщик.
– Конечно, подвезем!
– Ну садись, бабка, полезай!
С трудом взобралась старушка на телегу и уселась посередке, прямо на сене.
– Ты не больно прытко поезжай-то, – сказала она ямщику. – У меня кости старые, по камню-то всеё разобьешь…
– Ну, ладно!
Поехали шажком.
– А это, – начала старуха, – мы провожали нашего отца-благодетеля, покровителя нашего, Артамона Филипыча! Вот каков наш помещик!.. Кажинный год об эту пору он к нам в гости приезжает, ну вот мы его и чтим. Кабы не он, вовеки бы мы свету не видали, так бы и запропали в своей трущобе, как медведи…
– Да что ж он, каким таким родом вызволил вас?
– А вот видишь дорогу-то? Ведь теперь мы с тобой едем все одно что по московскому тракту, каменная ведь у нас дорога-то теперича, а что было? А было невылазное болото… Только по зимам и свет видели… Ну вот эту самую дорогу Артамон-то Филипыч нам и пожертвовал… Вот он кто – Артамонушка-то!..
Дорога действительно была новая; по бокам шли две широкие и глубокие канавы, на средине был плотно накатан прутняк, а поверх его была насыпана, повидимому недавно, довольно узенькая полоска щебенки…
– Да кто он сам-то?
– А сам-то он портной петербургский. В Ямской у него свое заведение. Вот он кто будет!
– Каким же родом он к вам-то попал?
– То-то вот господь его нам послал!.. А таким родом вышло это дело. Мой-то старший сын теперь старостой в должности состоит, а годов с пять тому назад проживал он в Питере в дворниках… Вот и случись ему служить в том самом доме, где у Артамонушки это заведение находится. О самую об эту пору Артамонушко-то женился, взял за себя сироту; мой сын-то, Андриян, говорит – «первая, говорит, была красавица, что умная, что добрая, что красивая, одно слово, не нарадоваться». Прожили они год душа в душу, а на другой-то год она возьми да и помри; и неведомо с чего! И похворала-то всего, говорит Андриян-то, всего, говорит, с полсуток и богу душу отдала. Вот Артамонушко-то и затосковал. Стал пить, стал убиваться, и так, что даже заведение свое едва-едва не перевел. И стал он в этаком-то расстройстве ходить к моему Андрияну в дворницкую… Полюбился ли ему мой Андриян или уж так, тоска-то ему оченно велика была, только зачал он, Филипыч-то, кажинный день к Андрияну захаживать. «Посижу хоть у тебя на людях, а то одному-то смерть в доме… Сходи-кось за пивом и за вином…» Вот Андриян сходит, принесет, они и сидят – пьют, а Филипыч-то на свою участь жалуется – сирота, вишь, он круглая, на веку горя напримался, а теперь вот один-одинехонек… Ни родни, ничего нет у него! И пошла у них с Андрияном дружба закадычная… То он у Андрияна в дворницкой, то Андриян у него в горнице. Под конец так стало, что Андриян-то совсем почитай что у Филипыча поселился: и днюют, и ночуют, и пьют, и едят – все увместях с Филипычем… Видит мой Андриянушко, что человек-то очень уж сердцем добер, а тоски-то своей смертной избыть не может – и стал говорить ему: «Эх, мол, Артамонушка! И чего ты убиваешься? Воротить ты ее, жену-то любимую, не воротишь, на другой тебе жениться совесть не дозволяет, чего уж убиваться понапрасну-то? Поглядел бы ты, говорит, на наше горе деревенское, мужицкое; посмотрел бы, как мы-то горько бьемся, так тогда твоя-то беда с маково бы зерно показалась…» И стал ему за беседою-то про наше про крестьянское житье рассказывать; и про голодовки, и про хворь, и про труды каторжные, про зимы трескучие, про болоты, чащобу непроходимую… И дороги-то от нас нету, окроме как зимой, а ведь у нас в летнюю пору что господ проезжает – иной продал бы яичек, ягодок, грибков, а нам, горемычным, и вылазу нет, особливо как дождик хлынет… Или взять сено – по весне ему хорошая цена, и летом оно в цене, а лежит оно у нас зря, ежели зимой не продадим, потому вылазу нету… А как его зимой продать, когда зимой-то из-под всех местов, которые к Питеру ближе, по зимнему-то пути его натащат… Рассказывал, рассказывал ему так-то про наше горькое горе, вот Филипыча-то и взяло за сердце… Разжалобился он, поплакал, да и говорит Андрияну: «Вот что, Андриян. Не буду я себе искать утехи в новой жене, потому что старой мне невозможно забыть, а будет у меня две отрады – надгробная, говорит, могила да твоя деревня. Буду я, говорит, для вас благодетелем, а вы меня, сироту, почитайте и после смерти моей должны поминать; а лягу я в могилу рядом с милой моей супругой. А что я выработаю по портновской части и какой есть у меня достаток, то все предоставлю вам, как ваш полный благодетель. Поедем, говорит, в твою деревню, давай я вам дорогу сделаю, вылезайте на белый свет, почитайте меня, сироту!» Ну вот и приехали они с Андрияном-то. Сейчас собрали сход, поставил Филипыч угощение, поклонился мирянам: «Любите, говорит, меня, сироту, милые мои други, а я вас не покину. На руки денег не просите, у меня таких денег нет, а по силе, по мочи для всей деревни буду стараться!» Ну, погуляли, попили, песен поиграли ему, повеличали, опять угостил. Вот и вынул двести рублей: «Ладьте, ребята, дорогу! Теперь больше у меня нету, а выработаю, через год опять дам!» И с тех пор, как по часам, у него пошло: как первый раз приехал на Ольгу (жену-то его Ольгой звали), так каждый год в это число и объявляется. С приезду он нам ставит угощение, а потом мы ему трое суток усердствуем – вот он какой Филипыч-то! На первый-то год канавы прокопали, на второй хворосту натаскали, мостики уделали, а потом и камень купил… Да окромя этого две тысячи саженей малых канав прокопал, гривеничных, и где было болото – там теперича пашня у нас… Вот каков наш помещик, благодетель! – кабы не он, так нам бы и свету-то божьего не видать, так комары нас бы и слопали до костей…
– Да, – сказал извозчик. – Человек на редкость! Этаких божьих людей поискать! Ишь ведь как его господь-то умудрил!..
– Уж человек – чего говорить! – сказала старушка. – Восьмой десяток живу на свете, а, кажется, и во сне такой добряга не снился… Да хворый! Ишь ведь какой хлипкой! Проживет ли долго-то? Теперь уж непременно с ним на машине что-нибудь недоброе случится. Пьяных-то не пущают, бьют… Кажинный раз его этак-то калечат, пьяного-то… А что – добер, так и слов нет, как и похвалить-то его!
Да, добрый, хороший человек этот портной Артамонушко!
III
А вот и еще тоже несомненно добрый и несомненно хороший человечек вспоминается мне. Слово «человечек» характеризует в одинаковой степени как размеры его доброты, теряющиеся в широком просторе суровых деревенских порядков и отношений, так и подлинные размеры самой фигуры Ивана Николаича. Иван Николаич – крестьянин Вологодской губернии, по ремеслу плотник. Аккуратно, в первых числах апреля, маленькая фигурка этого доброго человечка появляется в наших местах. Маленький, плохо кормленный и много битый с детства, Иван Николаевич покрывает все свои физические изъяны и недостатки необыкновенною добротою своих глаз, необыкновенною ласковостью, ободрительною приятностью разговора, ласковым, одобряющим словом. Неприятных, неласковых, грубых слов или таких речей, от которых собеседнику Ивана Николаевича стало бы скучно, трудно или неприятно вообще, – никогда не произносили уста Ивана Николаевича…
– Вот господь привел свидеться! – радостно начинает он свою речь, появляясь в наших местах, и в течение всего времяпребывания, вплоть до 1 ноября, вы не слышите от него иных речей, как, примерно, такие: «Не беспокойся. Не тужи. Все будет сделано! А что ежели материалу нет – найдем! хватит, уж не сомневайся! Иван Николаев не такой человек! Все будет сделано, только сам-то справляйся, не запускай своих делов! не расстраивайся!»