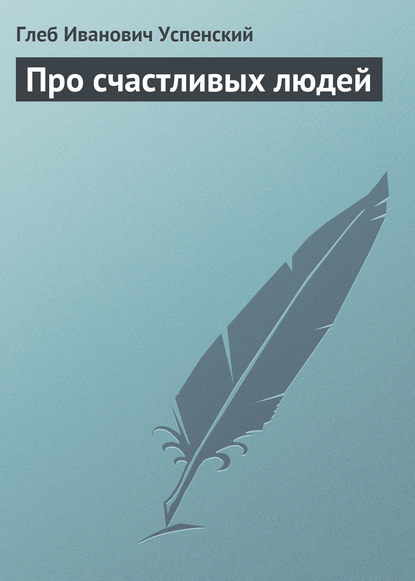По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Про счастливых людей
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Про счастливых людей
Глеб Иванович Успенский
Кой про что #15
По свидетельству самого Успенского… материалом для рассказа послужили «аварские сказки». Интерес к ним появился у Успенского, вероятно, во время его путешествия по Кавказу в феврале – марте 1883 года, а источником послужили записи сказок, напечатанные в «Сборнике сведений о кавказских горцах», вып. II, Тифлис, 1869. В этом собрании, записанном и переведенном на русский язык аварцем Айдемиром Чиркеевским, имеются все три сказки, вошедшие в рассказ Успенского в вольном пересказе. Обрамлением этих сказок служит разговор на злободневно-современные темы трех дорожных спутников – солдата, приказчика и лакея, акцентирующий в сказках те мотивы, которые необходимы писателю для освещения основной темы рассказа.
Глеб Иванович Успенский
Про счастливых людей
(Святочный рассказ)
I
Летним вечером у проезжей столбовой дороги расположились на ночлеге трое прохожих. Старший из них был старый отставной солдат, лет семидесяти, и два других – помоложе. Сошлись они в пути в дороге: отставной солдат шел сначала один, шел по знакомым местам, заходил в знакомые деревни, где у знакомых ему крестьян, духовных и помещиков на кухне занимался перешивкой старого тряпья, починкой старого платья, а справив дело, шел дальше, тоже все по знакомым местам. Давно он уже в этих местах ходит и каждый уголок по старому Московскому шоссе знает.
Где-то, по пути по дороге, нагнал он другого прохожего и пошел с ним. И рассказал ему этот прохожий, что жил он восемь лет у богатого купца в приказчиках, жил хорошо, в полном достатке, да вдруг где-то лопнул банк, за банком лопнул какой-то компаньон, а за компаньоном лопнул и хозяин завода, богатый купец, у которого прохожий служил приказчиком, а за хозяином и он, приказчик, остался без хлеба, все прожил на большую семью и вот теперь так обеднел, что приходится идти пешком в Петербург, искать: не попадется ли какого местечка? Долго приказчик рассказывал солдату, какое ему было счастье, как он жил привольно, долго и горько жаловался на теперешнее свое несчастье, вздыхал и бога молил, чтобы опять ему господь счастье послал.
Слушал его прохожий солдат, но чтобы жалеть его – не очень жалел, ласковых слов ему не говорил и к малодушеству приказчикову не склонялся: твердый был человек. А когда приказчик рассказал по два, по три раза все свои горести, то пошли они молча; только приказчик вздыхал и охал.
Однако недолго пришлось им идти вдвоем, молчать да вздыхать. Неведомо откуда подскочил к ним и третий прохожий, босиком, в рваном пиджаке, в парусиновом кепи, и на вид молодой парень, только лицо опухло да у правого глаза синяк как будто бы недавний виднелся. Наши прохожие и не видали, откуда взялся этот молодец – не то справа он к ним подскочил, не то слева, не то с проселка, не то из перелеска, и не опомнились они, а он уже рядом с ними идет, цыгарку курит и жизнь свою рассказывает. И этот на горькую долю жалуется, недавнее счастье вспоминает, только не на тот образец, как приказчик. Этот сам про себя говорит:
– Мне бы барина какого господь послал поглупей да побогаче, так я бы его вот как оборудовал. Они меня, господа, любят, я умею им потрафлять… У одного такого-то барина – хороший телок мне попался – я пять годов выжил, сам был лучше барина… Я тогда в лакеях в трактире служил, и захотел господь послать счастье и послал – встретился с гулящим барином, он меня полюбил и приблизил… Уж и пожил я в полное свое удовольствие! Всего было! Так пожил, что даже избаловался, признаться, загордел, храп стал себе дозволять… Ну, барин-то осерчал, все отнял, прогнал… Теперь иду, братцы мои, и сам не знаю… Ничего нет, обносился, оборвался, от черной работы отвык… Неужто ж мне так и пропадать? Эх, кабы господь опять счастье послал, ежели бы мне теперь наскочить на хороший мешок, хотя бы даже и из купеческого звания, так и то я бы утрафил, понравился бы, как он там ни мудри, и уж теперь не дал бы маху!.. Нет! Уж теперь не промахнулся бы!
И так пошли они все трое; приказчик про свое счастье вспоминал, молил бога, чтобы господь послал ему сурьезного, капитального купца, а оборванец-лакей облизывался на свое прошлое, больно уж сладко оно было, как они с барином по разным столицам бражничали, и тоже просил у бога счастья, тоже ждал, не свалится ли оно откуда-нибудь либо под видом барина-бражника, либо купчика-безобразника. Один только солдат не мешался в такие разговоры: ничего не советовал, ничему не поддакивал, а только покрякивал да помалчивал, а иной раз и ухмылялся.
И вечер прошел и месяц взошел, прохожие выбрали местечко под деревом, сели отдохнуть, огонь развели; у солдата был и котелок, и хлеб, и картофель; у приказчика в сумке лепешка ржаная нашлась, а у лакея ничего не было: за спиной его на палке болтались одни только сапоги. Однако ему дали поесть. Потом все легли, укрылись чем попало (лакей притащил охапку сена из соседнего стога и навалил ее на себя), помолчали и с холоду ли или так с раздумья опять разговор завели, и все про то же: эх, кабы купца, эх, кабы барина – то-то бы счастье было!
– Эх, ребята, ребята! – не вытерпел, заговорил солдат. – Слушаю, слушаю я вас – чего это вы у бога просите? Какое это счастье? Это не счастье, коли его на тебя нанесло, или ты случаем на него набежал… Где ж оно, ваше счастье-то? Один без сапог, а другой без хлеба… Нет, почтенные, не тот есть счастливый человек, который эдаким вот манером, а тот есть счастливый человек…
Но тут старый служивый запнулся; очень мудрено и много приходилось ему говорить, а к мудреным словам он был непривычен. Помолчал он немножко, да и говорит:
– Нет, вот что я вам, ребята, скажу: жил я в разных местах, и в Польше, и на Капказе, и в Баке огнедышащей, и там был – всего видел, много чего от людей слыхал… Так вот у нас в этой Баке, на Сураханском заводе, татарин Абдулка страсть как искусно свои татарские сказки рассказывал… Так вот в памяти у меня, как болтал он про счастливых людей… так, притчи ихние насчет того, кто есть счастливый человек на свете. Вот я вам, коли что, расскажу, а вы сами смекайте, в чем тут главная причина… Я своих слов не могу высказать, потому тут много надобно говорить, а ежели притчами, так мне лучше…
– Говори, говори, дедко! – ежась от холоду под сеном, торопливо бормотал лакей.
А приказчик (он все вздыхал) вымолвил:
– И в притчах тоже бывает премудрость…
И опять вздохнул.
II
– Ну, – заговорил старик, – уж не знаю, премудрость тут какая или так, баснословие – разбирай как знаешь: мое дело рассказывать.
«Так вот, други милые, жил-был на белом свете, должно, там же у них, на Капказе, татарин один… ну, хоть Ахметка пущай будет прозываться. И такой этот Ахметка был человек, что и весь-то он с потрохом не стоит ломаного гроша. И из себя как пакля или мочала – ни силы у него, ни смелости, ни ума, ни смекалки – так, ни на что не похожая тварь… Примазался этот Ахметка к бабе к одинокой, тоже само собой ихнего персидского закону, в мужья к ней влез, живет с ней, ест-пьет, а никакого толку от него нету. Попервоначалу-то баба думала: «все, мол, мужчина в доме»; а как пожила, видит, что у него, у дурака, все живот схватывает, когда надо по хозяйству хлопотать, и стала баба сердиться. «Поди, мол, погляди, чего собаки лают». – «Да я болен! У меня, говорит, спазмы какие-нибудь начинаются или тифозная горячка!» А больше ничего – боится ночью из дому выходить. «Ну, – скажет жена, – тогда я пойду сама». И сейчас Ахметка с печки прыг, за ней. «Ведь у тебя, у подлеца, тифозная горячка? так чего ж ты выскочил?» – «Да я думаю, тебе, мол, одной страшно, так я проводить!» Будто бы то есть жене угождал, а наместо того самому страшно одному дома остаться. Ну, одним словом, не человек, а так, больше ничего, олух какой-то. А между прочим, послушай-кось, до чего достиг!..»
– Ну, ну! – торопил лакей.
– Ну вот, братцы мои, смотрела, смотрела баба евонная на все его подлости, не вытерпела, вышла из всяких границ, говорит: «Вон из моего дома! видеть я тебя не могу, дурака набитого! Надоел ты мне хуже горькой редьки… Пошел вон!.. Чтоб сию минуту духу твоего не было!» Тут Ахметка насмерть перепугался, пал ей в ноги, трясется, молит Христом богом – по ихнему само собой, – чтоб она хоть ночь-то дала ему переночевать, не гнала бы его, дала бы ему свету дождаться… Выл, выл, совсем размяк, раскис рыдаючи – ну, жена согласилась, дозволила ему в сенцах, под дверью поспать. «Спи, говорит, балбес!» Ну а как чуть свет забрезжил, сейчас она выкинула ему все его пожитки – «праху чтоб твоего не было!» – и вытолкала за ворота да поленом ему грозится: «убью, как собаку!» Подобрал Ахмет свои пожитки да давай бог ноги, как заяц от гончих, только пятки сверкают… Верст за десять от деревни только-только очувствовался от страху, думал, что жена его убьет, еле-еле отдышался.
«Ну, кой-как да кое-как оделся он в свое хоботье, саблю свою нацепил, кинжал там какой-нибудь, потому что у них, у черномазых народов, завсегда при себе ножик. Такие живорезы, на редкость! Двухгодовалый парнишка, а и тот уж к отцовскому кинжалу тянется поиграть, а отец-то еще и сам учит: «пхни, пхни, мол, в мамку!..» Такой уж народ кровопролитный. Вот и Ахметка тоже… Уж на что, кажется, мочало, не человек, а тоже сабля, кинжал за пояс заткнут. Надел он этот свой наряд, шапку рваную, лохматую, ровно сенная копна, на голову нахлобучил и пошел, сам не знает куда.
«Идет и плачет, себя жалеет, о своей доле сокрушается. Шел, шел, устал, сел отдохнуть на камень. Вспомнил свою жену… стал ее ругательски ругать – видит, что теперь уж она его не достигнет; ругал, ругал он ее во всю мочь, на всю степь горло драл, да в сердцах до того расхрабрился, что даже гаркнул: «Погоди, мол, такая-сякая! Убью!», да в сердцах хвать кулаком об камень. А время было горячее, солнце в тех местах палит в темя, как углем горячим… Мух налетело неведомо откуда на этот камень-то… Как ударил он рукой-то об камень, чует: мокро! Поглядел – целую уйму мух он ухлопал одним махом. И так ему показалось это после сердцев-то приятно, что кому-нибудь он свое горе отомстил, что стал он думать повеселей: «Ишь, дура этакая, – забормотал он по-своему, по-татарскому, вспоминая свою жену. – Ни на что я не годен, никуда не гожусь, и трус-то я, и руки-то у меня мочальные… Нет, захочу, так все могу! Дура набитая, ценить не умела человека! Силы нету! Нет, вот один раз кулаком махнул – а сколько их ухлопал!» Стал он считать, насчитал пятьсот мух. «Пятьсот! Ишь сколько! А всего-то один раз махонул! Нет, есть у меня сила. Пятьсот мух ухлопать с одного маху, это значит, в человеке есть сила. Ежели бы она, дура баба, меня почитала да хорошо за мной ходила, так я бы нешто такую силу забрал? Тварь этакая!» И так он стал хорошо об себе думать, что совсем расхрабрился, идет и все у него в голове эти пятьсот мух сияют. И сначала он думал о мухах, а что дальше идет – уж и о людях стал раздумывать; а как к городу какому-то стал подходить, так и совсем уж ему представилось, что не пятьсот мух он убил, а прямо сказать – пятьсот человек. Идет гоголем, на-поди! Пришел в город, прямо к мастеру, вынул кинжал и говорит: «Сделай надпись, что, мол, я, Ахмет, богатырь, побиваю по пятисот человек единым махом».
«Сделал ему мастер нарезку… и повалило, братцы мои, с этого числа на Ахметку счастье!.. То есть такое счастье повалило – почитай, что больше чем вот от барина от богатого на нашего компаньона нанесло его. Право!.. Идет он от мастера, а в брюхе у него очень большая тоска: ничего он не ел, не пил, почитай, целые сутки… «Хоть бы корочку какую господь послал!» Вдруг под самым его носом открывается двор, и идет на том дворе богатая свадьба: танцы, угощение, музыка – что угодно; царский министр дочь свою замуж выдает. Ахметка туда. «Кто такой?» Ахметка без долгих разговоров вынул кинжал. «А вот кто такой, говорит, читай!» Прочитали, ахнули, сейчас его в передний угол, угощать его принялись, в ноги кланялись, ручки у богатыря целовали. Ел Ахметка за четверых, наедался на неделю вперед, думает: «Назавтра не будет другой свадьбы, придется побираться, так надобно наедаться хорошенько…» А в то самое время, пока он ел да думал, что завтра есть будет нечего, уж доложили об нем царю, значит по-ихнему хану, – доложили так, что появился необыкновенный богатырь. Сейчас же хан приказал позвать Ахметку… Испугался Ахметка страсть как… «Болен я, начинается у меня тифозная эпидемия!» Как есть как прежде. Однако его повели под руки прямо к хану… Пал Ахметка перед ним в ноги, лежит ни жив ни мертв, а хан, как прочитал надпись у него на кинжале, так и ахнул. «Этакого необыкновенного богатыря да чтоб я упустил из моей державы? Никогда!» Сейчас Ахметку подняли, одели его в драгоценные одежды, денег ему целый мешок в руки впихнули – Ахметка стоит дурак-дураком, сообразить ничего не может… А хан думает: «Что ежели я его награжу, а другой какой-нибудь хан узнает да переманит его к себе? Нет, ни за что! Женю я его на моей дочери, и тогда уж ему уйти некуда будет». И не успел, братцы мои, Ахметка опомниться – хвать, уж и свадьбу играют, и уж он мужем ханской дочери очутился, и уж, господи благослови, на кровати растянулся… Посмотрела на него ханская дочь и говорит: «Неужели, с позволения сказать, этакое чучело может быть великолепным богатырем?» А Ахметка лежит на кровати, трясется от страху – потому такую ему кровать сделали, что упади он с нее, так вдребезги бы расшибся. Вот он лежит и боится, как бы во сне не свалиться – ну а между прочим все-таки надумал, ответил своей нареченной жене: «Это ты так говоришь потому, что ничего не понимаешь. А поживи, так и увидишь, что я за сила». Поглядела, поглядела на него царевна – «экая, говорит, гадость!», плюнула, заплакала, а делать нечего! Приняла закон, так уж надо покоряться.
«Хорошо.
«А был тут под самым городом с незапамятных времен страшный змей. И жил тот змей в пещере, и ел народ поедом, целыми сотнями глотал, словно галушки… И стали ему жители платить дань: по два раза каждый год по красивой девице, значит, в жены ему, – по две жены, подлецу, в год – только бы он не жрал без толку прочих обывателей. И настал, братцы мои, такой год, что пришлось отдавать этому змею вторую ханскую дочь. А уж которая к этому змею девица попадает, так уже тут – со святыми упокой! Ни вовеки ее не увидишь!.. Только в этот раз царь-то ихний, хан, стало быть, и говорит: «Слава богу, есть у нас великолепный богатырь, не станем мы теперь девиц этому дураку, змею, отдавать: наш храбрый Ахмет с единого удара все головы ему пособьет. Ежели он с одного маху по пятисот голов рубит, так уж десяток змеиных морд очень просто может отщипнуть». Призвал Ахметку: «так и так, говорит, змей у нас…» – ну, и все подробно ему объяснил. «Иди, говорит, ты и отруби ему все десять голов…» Услыхал это Ахметка – и опять за старое: болен, чахотка, ревматизм… Он бы сейчас пошел и убил змея, да болен, не может встать, забился под одеяло, охает… А жена его, царевна-то, пришла, смотрит на него, говорит: «Я знала, что ты не богатырь, а обманщик. Погоди! вот я скажу отцу, каков ты человек… У него закон короткий – сейчас топором голову прочь, коли ты добром не пойдешь… Вот я сейчас пойду да и скажу все отцу… Надоел ты мне страсть как!» Взяла да и ушла; а Ахметка лежит, лежит, думает: «Ну как в самом деле царь мне голову отрубит? Жена меня видеть не может; ну-ка да он ее послушает!» Подумал, подумал, стало ему страшно умирать, вскочил он с кровати; захватил кой-какие пожитки, да и давай бог ноги, пустился из царского дворца куда глаза глядят. И ночи перестал бояться, только бы голову унести!
«Бежал, бежал, наконец устал; а на дворе ночь темная, на земле лечь спать побоялся: ну-ко змей его съест! – полез на дерево. Кой-как умостился, спит. Всю ночь он проспал с устанку как убитый, а поутру открыл глаза – глядь, а змей-то десятиглавый тут же под деревом спит и головы все свои распространил в разные стороны… Как увидал это Ахметка, занялся у него дух, со страху ударило ему в башку, помутился у него ум, зашатался, зашатался – бух с дерева, да прямо на змея… А змей-то, впросонках не разобравши дела, тоже со страху (как Ахметка-то об него треснулся) думал, что застигли его, только крякнул и подох бездыханно; даже лопнул весь вдоль и поперек с испугу… так его Ахметка испугал. А Ахметка долго без памяти валялся на мертвом змее, а как очнулся, видит, что змей-то помер, и страх у него прошел, и гордость сейчас в нем оттаяла; и опять возмечтал о себе… Идет в город, а навстречу ему войско ханское. «Куда идете?» – «Да тебя ловить, где ты был?» – «Где был! Змея бил… подите-ка, поглядите, что там под деревом валяется…» Поглядели – мертвый змей. Тут про Ахметку такая слава пошла – неслыханная! Тут уж все уверовали, что истинный он богатырь и храбрость имеет необыкновенную. Тут его царь так ублаготворил, что выше всех поставил, всякими бриллиантами его наградил, подарков ему надарил, живет Ахметка по-царски. Только жена его, царевна, все не верит: «Эдакой плюгавый мужчина и чтобы он мог так сделать? Не верю я этому!» А Ахметка храбрости набрался, лежит на кровати, огрызается: «Вот ты поговори у меня! Я тебе покажу, какой я плюгавый!» Ну, царевна, обыкновенно, плачет – а ведь что с ним сделаешь? Молчи! Больше ничего…
«Хорошо…
«Идет время – живет Ахметка в полное свое удовольствие, и опять царь присылает за ним, к себе зовет… Скрючило Ахметку, однако пошел… «Так и так, – говорит царь, – идет на меня несметное войско, перережут нас всех начисто – иди, разбей их всех, богатырь мой великолепный!» На это Ахметка говорит: «Ваше царское величество! Не могу я идти, потому что я болен, всем нутром слаб, чахоткой одержим, белая горячка у меня. Скоро я должен сойти с ума – тогда я все могу погубить». Слушает хан эти слова и не верит: Ахметка и прошлый раз то же самое говорил – болен, болен, а на деле эво что вышло. «Хорошо, говорит, делай как знаешь, я на тебя надеюсь… А войску прикажу, чтобы каждое слово твое исполняли, да не то что слово – а чтобы в каждой малости слушались…» Вскарабкался Ахметка на кровать, подскользнул под одеяло – «ох-ох-ох, матушки-батюшки, умираю! чахотка, белая горячка, холера у меня!» Как увидала его жена, что он опять под одеяло шмыгнул: «А-а, говорит, кляузная душа, пришел твой конец! Слава тебе господи! Теперь ежели ты на войну не пойдешь, так тебя силком поведут, а ежели не победишь, так тебя на части разорвут, потому тогда не девица какая-нибудь, а целая держава должна пропасть. Вот я сейчас отцу пойду скажу!..» Побежала к отцу, а тем временем неприятель со всех сторон нахлынул, обложил город, и не успел Ахметка из-под одеяла выскочить, чтобы лататы задать, как входит хан, берет его за руку, выводит на улицу и говорит: «Вот тебе конь, садись, поезжай и командуй! А ты, мое верное войско, беспрекословно ему повинуйся и все, что только он ни прикажет, – все исполняй и даже что только он будет делать – то и ты, мое верное войско, делай… С богом!»
«Ни жив ни мертв сидит мой Ахметка на лошади; вожжей не может держать – и руки и ноги врозь расползаются… Царские адъютанты едут по бокам, держат его под руки. Выехали в поле, стали против несметного неприятеля, раскинули для Ахметки золотой шатер, сняли его с лошади, привели в этот шатер, собрались все генералы, фельдмаршалы, ждут приказаний, а Ахметка лыка не вяжет со страху… Наконец, того, говорит: «Я не могу! У меня ум помрачился, меня злой дух испортил, я рассудка лишился, а без рассудка нельзя командовать!» И стал он и со страху, и из притворства неведомо что творить: одежду с себя поснимал, все на себе изорвал, остался весь как мать родила и, наконец того, спрятался со страху под диван. Все генералы, фельдмаршалы смотрят – понять ничего не могут, а, между прочим, не смеют ослушаться царского приказания. Что Ахметка делает, то и они делают, и войску тоже делать приказывают. Обнаготились все начисто и войско все тоже размундировалось наголо, и все полезли, за кустики, за холмики попрятались… Лежат все, ждут, что будет. А Ахметка тоже лежит под диваном голый, ни жив ни мертв… Только, братцы мои, вскочи в это самое время собачка махонькая в шатер; увидала она Ахметку под диваном – к нему; ну с ним играть, кусать его, тормошить… Гонит ее Ахметка, а та сдуру все к нему лезет. И раз прогнал, и два – а она все свое. И должно быть, что, играючи, тяпнула она его за ногу. Ахметка осерчал, забыл свой страх; выскочил из-под дивана, схватил сапог – да за собакой! «Погоди, мол, каналья, – я тебя!» Да с сапогом-то из шатра вон! А за ним генералы, а за генералами все войско – да как двинули за своим первоначальником в голом-то виде, да как увидал неприятель этакую страсть – и где уж тут воевать, давай бог ноги, кто куда со страху-то, по ямам, по буеракам, по горам – все до единого разбежались… А Ахметка нагнал собачонку, ударил ее сапогом: «я тебе, говорит, дам кусаться!» Оглянулся – а уж от неприятеля и след простыл! И сейчас опять расхрабрился, говорит: «Вы что же меня из-за такой дряни беспокоили?» Тут хан и весь народ не знали, как Ахметку ублаготворить. Опять его наградили, обдарили и сделал его хан себе наследником… Пришел Ахметка к жене, говорит: «Что, дура этакая? Похож я на мочалу?» Ну, жена только плюнула на него и слезами залилась… А Ахметка стал жить да поживать… Ну что, господа, как счастье это?»
– Знамо, не горе! – отозвался лакей. – Чего ему еще? Живи, поживай!..
– Нет, – сказал солдат, – про такое счастье, что с неба сваливается, нельзя сказать: «живи да поживай!» Как пришло, так и уйдет – а в этом счастья нету. Вот и с Ахметкой то же было. Долго так ему все удавалось. Жена его даже все глаза выплакала – все ждала, не пропадет ли постылый каким-либо манером, а он все выше да выше. Наконец, того, подходит время, помирает наш хан, а Ахметка влезает, господи благослови, на престол. Вскарабкался, дубина этакая, уселся – и давай царствовать! Вот тут он и сплошал! Коли хочешь царствовать, так будь умен; тут, в этом деле, надобно каждую вещь разобрать… Подданные Ахметкины так и думали, что он все свои подвиги творил не с глупой головы, и надеялись на него… А Ахметка-то, знамо, уж дурак-дураком был от рождения… Однако, как пришлось ему царствовать, и решил он: «Все у меня в жизни навыворот выходило, от этого я так и возвеличился, пущай же и царствовать я буду тож наоборот – авось меня подданные почитать будут…» И стал орудовать: кого бы наказать, а он ему орден, награду, а кому награду – того в кутузку; кому бы в попы, а Ахметка его в плясуны, а кому бы самое любезное дело на голове ходить да фокусы представлять – того в духовенство определил… Перерубил он человечьих голов видимо-невидимо, и все понапрасну, а которые бы следовало отрубить – те всячески изукрасил… Ну, братцы мои, похозяйничал он этаким-то манером годик, другой, видит народ, что дело дрянь, что была в делах Ахметки удача, а ума не было… Потолковали, посоветовались, да и сняли Ахметку с престола… «Слезай-ка, мол, любезный, с престола-то, да ступай куда-нибудь подобру-поздорову, пока цел». Ну, Ахметка, нечего делать, с престола слез, одежу с него сняли, палкой в дорогу наградили… С тех пор и слуху о нем никакого нет, а жена как увидала все это – выскочила на крышу (они там все по крышам гуляют) да в бубен ударила, да песни стала играть на радостях, а вскорости нашла жениха умного, молодого, взяла его за себя и стала с ним царствовать… А куда Ахметка девался – так никто и не знает…
– Все-таки, – сказал лакей, – хоть два года счастливо пожил…
– Ну, нет, – сказал солдат, – по моим мыслям, я этого счастьем назвать не могу…
– Ну, а как же по-твоему-то?..
– А по-моему… Да ты слушай, что дальше будет, а уж тогда и будешь разговаривать.
– Ну, ладно, рассказывай!..
III
Понюхал старик табачку, поотчихался, покрестился, улегся поспокойнее и начал:
– Это я рассказывал, как на дурака валит удача, а теперича расскажу, что бывает иной раз – не своим умом, а чужим разумением человек захочет осчастливиться, так и это опять никак назвать счастьем невозможно… Было, братцы мои, такое дело: жил-был, опять же все там, в черкесских землях, мельник один… Ну, сам знаешь, какая уж нажива в тамошних местах по хлебной части! Там все больше фрукт, птица, овца, а уж где там по горам пашни пахать, хлеб сеять… Жил, стало быть, этот мужичонка кой-как, с хлеба на квас перебивался. Окроме мельницы было у него и еще дело – кур держал, яйцы продавал в город… Вот хорошо. Живет так-то. Только видит раз – курицы одной нет, другой раз и двух не досчитался, а третий раз и целого пятка не отыскалось… Стал примечать – что такое? кто этим делом орудует?.. Вот однова ночью и слышит – куры всполошились; выскочил из дому, а по полю лисица удирает с курицей… «Ну, – сказал мельник, – ладно, любезная! Попадешься ты мне!» Поставил капкан, и ночи через две попалась лисица, лапу ей капкан прищемил. Схватил мельник кинжал (у них бесперечь все поножовщина идет, так уж это чтоб без кинжала день продышать – извини!), хотел ее пырнуть, а лисица и говорит: «Мельник, мельник! Не режь меня, я тебе большую службу сослужу – и богатство тебе предоставлю, и на ханской дочери женю, и самого в ханы произведу. Только ты меня не убивай, а корми всю жизнь, а когда я помру, то чтобы честь-честью похоронить, а не так, чтобы собакам выкинуть». Подумал, подумал мельник: «Ну ладно, говорит, пущай!» Отпустил лисицу на волю и стал чужим умом жить… Это и так завсегда бывает: застигни я какого купца богатого или чиновника на нехорошем деле, и он мне начнет сулить: «Скрой, а я тебя награжу!» Вот так и мельник. «Ну, – говорит мельник, – коли такой уговор у нас, так действуй!»
«Вот лисий ум и начал орудовать… Первым долгом побежала она к соседнему хану, пала ему в ноги и говорит: «Прислал меня к тебе мой знаменитый государь, хан Ахметка…»
– Ну, что все Ахметка да Ахметка, – перебил рассказчика лакей.
– Ну, пущай хошь Абдулка будет – все едино. «Прислал меня мой Абдул-хан, – говорит лисица, – попросить у тебя меру; надобно нам перемерить золото наше, потому что у нашего Абдул-хана страсть сколько золота…» Дали ей меру, принесла она ее на мельницу и стала рыться в навозной куче. Рылась, рылась, откопала золотой; сейчас она этот золотой и воткни в щелку – значит туда, где мера раскололась. Воткнула и несет меру назад. «Насилу, говорит, вымерили… Смерть моя как умаялась! Мой хан Абдул приказал вас благодарить». – «Да неужели у него столько золота, что он два дня его мерою мерил?..» – «Очень, говорит, много!» Не поверил хан, взял меру в руки, говорит: «Эдакими мерами вы золото ваше мерили?» – «Этими самыми!» Хан даже рассердился, бросил меру на пол – а из нее и зазвенел по полу золотой. «Вот изволь видеть, – сказала лисица, – один золотой и сейчас где-то застрял. Нет, сущую правду я говорю: великий богач мой Абдул-хан!..
«И в другой раз прибежала к нему лисица и опять мерку потребовала. «Серебро, говорит, надо перемерить!..» И тоже пять двугривенных рассовала в разные щелки и принесла меру назад ровно чрез неделю. «Целую неделю, говорит, бились, еле-еле покончили… Приказал вас благодарить!» – «Не может быть, чтобы целую неделю серебро мерили…» – «Нет, верно!» Тряхнул хан мерой – двугривенные так и задребезжали по полу… «Да-а-а! – сказал хан, – должно быть, что сосед мой Абдул очень богатый человек. Скажи ему, не возьмет ли он замуж за себя мою дочь». Лисица, не будь глупа, отвечает ему: «Он и сам мне велел дочь вашу потребовать себе в брак и спрашивает, когда ему быть к вам, чтоб настоящим манером присвататься?» – «Ну, пущай хоть завтра приезжает!» – «Очень прекрасно!» – ответила лисица и шмыгнула домой.
«Рассказала все мельнику, а мельник и говорит: «В чем же я пойду к хану? у меня даже и брюк-то, с позволения сказать, нет настоящих – так как же я к ханской-то дочери могу соответствовать!» – «Ну уж это не твоя печаль, ты только исполняй, что я тебе присоветую…» – «Ну ладно!» Вот она и стала исхитряться; нацепила на него всяких лык, стружек навешала – издали-то они на солнце лоснятся, блестят – и говорит: «Пойдешь ты навстречу хану, он со свитой на том берегу реки будет тебя ждать, – пойдешь к нему, и иди прямо бродом, в воду, а на средине реки крикни, будто оступился, и нырни в воду»… Выехал хан навстречу к Абдулке, пошел Абдулка к нему пешком прямо вброд, нырнул и выплыл в чем мать родила, весь его наряд в речке потонул… А лисица выскочила на другой берег и говорит ханской свите: «Дайте что-нибудь моему Абдул-хану одеть, а то домой нам некогда за платьем ехать… Сколько бриллиантов одних потонуло в речке, так это и сосчитать невозможно!» Ну, свита сейчас поснимала с себя разные парчевые халаты, – чтобы понравиться будущему ханскому зятю, – обрядили его в лучшем виде, посадили на лучшего коня и поехали к хану во дворец. Едет наш мельник, разоделся барином!..
Глеб Иванович Успенский
Кой про что #15
По свидетельству самого Успенского… материалом для рассказа послужили «аварские сказки». Интерес к ним появился у Успенского, вероятно, во время его путешествия по Кавказу в феврале – марте 1883 года, а источником послужили записи сказок, напечатанные в «Сборнике сведений о кавказских горцах», вып. II, Тифлис, 1869. В этом собрании, записанном и переведенном на русский язык аварцем Айдемиром Чиркеевским, имеются все три сказки, вошедшие в рассказ Успенского в вольном пересказе. Обрамлением этих сказок служит разговор на злободневно-современные темы трех дорожных спутников – солдата, приказчика и лакея, акцентирующий в сказках те мотивы, которые необходимы писателю для освещения основной темы рассказа.
Глеб Иванович Успенский
Про счастливых людей
(Святочный рассказ)
I
Летним вечером у проезжей столбовой дороги расположились на ночлеге трое прохожих. Старший из них был старый отставной солдат, лет семидесяти, и два других – помоложе. Сошлись они в пути в дороге: отставной солдат шел сначала один, шел по знакомым местам, заходил в знакомые деревни, где у знакомых ему крестьян, духовных и помещиков на кухне занимался перешивкой старого тряпья, починкой старого платья, а справив дело, шел дальше, тоже все по знакомым местам. Давно он уже в этих местах ходит и каждый уголок по старому Московскому шоссе знает.
Где-то, по пути по дороге, нагнал он другого прохожего и пошел с ним. И рассказал ему этот прохожий, что жил он восемь лет у богатого купца в приказчиках, жил хорошо, в полном достатке, да вдруг где-то лопнул банк, за банком лопнул какой-то компаньон, а за компаньоном лопнул и хозяин завода, богатый купец, у которого прохожий служил приказчиком, а за хозяином и он, приказчик, остался без хлеба, все прожил на большую семью и вот теперь так обеднел, что приходится идти пешком в Петербург, искать: не попадется ли какого местечка? Долго приказчик рассказывал солдату, какое ему было счастье, как он жил привольно, долго и горько жаловался на теперешнее свое несчастье, вздыхал и бога молил, чтобы опять ему господь счастье послал.
Слушал его прохожий солдат, но чтобы жалеть его – не очень жалел, ласковых слов ему не говорил и к малодушеству приказчикову не склонялся: твердый был человек. А когда приказчик рассказал по два, по три раза все свои горести, то пошли они молча; только приказчик вздыхал и охал.
Однако недолго пришлось им идти вдвоем, молчать да вздыхать. Неведомо откуда подскочил к ним и третий прохожий, босиком, в рваном пиджаке, в парусиновом кепи, и на вид молодой парень, только лицо опухло да у правого глаза синяк как будто бы недавний виднелся. Наши прохожие и не видали, откуда взялся этот молодец – не то справа он к ним подскочил, не то слева, не то с проселка, не то из перелеска, и не опомнились они, а он уже рядом с ними идет, цыгарку курит и жизнь свою рассказывает. И этот на горькую долю жалуется, недавнее счастье вспоминает, только не на тот образец, как приказчик. Этот сам про себя говорит:
– Мне бы барина какого господь послал поглупей да побогаче, так я бы его вот как оборудовал. Они меня, господа, любят, я умею им потрафлять… У одного такого-то барина – хороший телок мне попался – я пять годов выжил, сам был лучше барина… Я тогда в лакеях в трактире служил, и захотел господь послать счастье и послал – встретился с гулящим барином, он меня полюбил и приблизил… Уж и пожил я в полное свое удовольствие! Всего было! Так пожил, что даже избаловался, признаться, загордел, храп стал себе дозволять… Ну, барин-то осерчал, все отнял, прогнал… Теперь иду, братцы мои, и сам не знаю… Ничего нет, обносился, оборвался, от черной работы отвык… Неужто ж мне так и пропадать? Эх, кабы господь опять счастье послал, ежели бы мне теперь наскочить на хороший мешок, хотя бы даже и из купеческого звания, так и то я бы утрафил, понравился бы, как он там ни мудри, и уж теперь не дал бы маху!.. Нет! Уж теперь не промахнулся бы!
И так пошли они все трое; приказчик про свое счастье вспоминал, молил бога, чтобы господь послал ему сурьезного, капитального купца, а оборванец-лакей облизывался на свое прошлое, больно уж сладко оно было, как они с барином по разным столицам бражничали, и тоже просил у бога счастья, тоже ждал, не свалится ли оно откуда-нибудь либо под видом барина-бражника, либо купчика-безобразника. Один только солдат не мешался в такие разговоры: ничего не советовал, ничему не поддакивал, а только покрякивал да помалчивал, а иной раз и ухмылялся.
И вечер прошел и месяц взошел, прохожие выбрали местечко под деревом, сели отдохнуть, огонь развели; у солдата был и котелок, и хлеб, и картофель; у приказчика в сумке лепешка ржаная нашлась, а у лакея ничего не было: за спиной его на палке болтались одни только сапоги. Однако ему дали поесть. Потом все легли, укрылись чем попало (лакей притащил охапку сена из соседнего стога и навалил ее на себя), помолчали и с холоду ли или так с раздумья опять разговор завели, и все про то же: эх, кабы купца, эх, кабы барина – то-то бы счастье было!
– Эх, ребята, ребята! – не вытерпел, заговорил солдат. – Слушаю, слушаю я вас – чего это вы у бога просите? Какое это счастье? Это не счастье, коли его на тебя нанесло, или ты случаем на него набежал… Где ж оно, ваше счастье-то? Один без сапог, а другой без хлеба… Нет, почтенные, не тот есть счастливый человек, который эдаким вот манером, а тот есть счастливый человек…
Но тут старый служивый запнулся; очень мудрено и много приходилось ему говорить, а к мудреным словам он был непривычен. Помолчал он немножко, да и говорит:
– Нет, вот что я вам, ребята, скажу: жил я в разных местах, и в Польше, и на Капказе, и в Баке огнедышащей, и там был – всего видел, много чего от людей слыхал… Так вот у нас в этой Баке, на Сураханском заводе, татарин Абдулка страсть как искусно свои татарские сказки рассказывал… Так вот в памяти у меня, как болтал он про счастливых людей… так, притчи ихние насчет того, кто есть счастливый человек на свете. Вот я вам, коли что, расскажу, а вы сами смекайте, в чем тут главная причина… Я своих слов не могу высказать, потому тут много надобно говорить, а ежели притчами, так мне лучше…
– Говори, говори, дедко! – ежась от холоду под сеном, торопливо бормотал лакей.
А приказчик (он все вздыхал) вымолвил:
– И в притчах тоже бывает премудрость…
И опять вздохнул.
II
– Ну, – заговорил старик, – уж не знаю, премудрость тут какая или так, баснословие – разбирай как знаешь: мое дело рассказывать.
«Так вот, други милые, жил-был на белом свете, должно, там же у них, на Капказе, татарин один… ну, хоть Ахметка пущай будет прозываться. И такой этот Ахметка был человек, что и весь-то он с потрохом не стоит ломаного гроша. И из себя как пакля или мочала – ни силы у него, ни смелости, ни ума, ни смекалки – так, ни на что не похожая тварь… Примазался этот Ахметка к бабе к одинокой, тоже само собой ихнего персидского закону, в мужья к ней влез, живет с ней, ест-пьет, а никакого толку от него нету. Попервоначалу-то баба думала: «все, мол, мужчина в доме»; а как пожила, видит, что у него, у дурака, все живот схватывает, когда надо по хозяйству хлопотать, и стала баба сердиться. «Поди, мол, погляди, чего собаки лают». – «Да я болен! У меня, говорит, спазмы какие-нибудь начинаются или тифозная горячка!» А больше ничего – боится ночью из дому выходить. «Ну, – скажет жена, – тогда я пойду сама». И сейчас Ахметка с печки прыг, за ней. «Ведь у тебя, у подлеца, тифозная горячка? так чего ж ты выскочил?» – «Да я думаю, тебе, мол, одной страшно, так я проводить!» Будто бы то есть жене угождал, а наместо того самому страшно одному дома остаться. Ну, одним словом, не человек, а так, больше ничего, олух какой-то. А между прочим, послушай-кось, до чего достиг!..»
– Ну, ну! – торопил лакей.
– Ну вот, братцы мои, смотрела, смотрела баба евонная на все его подлости, не вытерпела, вышла из всяких границ, говорит: «Вон из моего дома! видеть я тебя не могу, дурака набитого! Надоел ты мне хуже горькой редьки… Пошел вон!.. Чтоб сию минуту духу твоего не было!» Тут Ахметка насмерть перепугался, пал ей в ноги, трясется, молит Христом богом – по ихнему само собой, – чтоб она хоть ночь-то дала ему переночевать, не гнала бы его, дала бы ему свету дождаться… Выл, выл, совсем размяк, раскис рыдаючи – ну, жена согласилась, дозволила ему в сенцах, под дверью поспать. «Спи, говорит, балбес!» Ну а как чуть свет забрезжил, сейчас она выкинула ему все его пожитки – «праху чтоб твоего не было!» – и вытолкала за ворота да поленом ему грозится: «убью, как собаку!» Подобрал Ахмет свои пожитки да давай бог ноги, как заяц от гончих, только пятки сверкают… Верст за десять от деревни только-только очувствовался от страху, думал, что жена его убьет, еле-еле отдышался.
«Ну, кой-как да кое-как оделся он в свое хоботье, саблю свою нацепил, кинжал там какой-нибудь, потому что у них, у черномазых народов, завсегда при себе ножик. Такие живорезы, на редкость! Двухгодовалый парнишка, а и тот уж к отцовскому кинжалу тянется поиграть, а отец-то еще и сам учит: «пхни, пхни, мол, в мамку!..» Такой уж народ кровопролитный. Вот и Ахметка тоже… Уж на что, кажется, мочало, не человек, а тоже сабля, кинжал за пояс заткнут. Надел он этот свой наряд, шапку рваную, лохматую, ровно сенная копна, на голову нахлобучил и пошел, сам не знает куда.
«Идет и плачет, себя жалеет, о своей доле сокрушается. Шел, шел, устал, сел отдохнуть на камень. Вспомнил свою жену… стал ее ругательски ругать – видит, что теперь уж она его не достигнет; ругал, ругал он ее во всю мочь, на всю степь горло драл, да в сердцах до того расхрабрился, что даже гаркнул: «Погоди, мол, такая-сякая! Убью!», да в сердцах хвать кулаком об камень. А время было горячее, солнце в тех местах палит в темя, как углем горячим… Мух налетело неведомо откуда на этот камень-то… Как ударил он рукой-то об камень, чует: мокро! Поглядел – целую уйму мух он ухлопал одним махом. И так ему показалось это после сердцев-то приятно, что кому-нибудь он свое горе отомстил, что стал он думать повеселей: «Ишь, дура этакая, – забормотал он по-своему, по-татарскому, вспоминая свою жену. – Ни на что я не годен, никуда не гожусь, и трус-то я, и руки-то у меня мочальные… Нет, захочу, так все могу! Дура набитая, ценить не умела человека! Силы нету! Нет, вот один раз кулаком махнул – а сколько их ухлопал!» Стал он считать, насчитал пятьсот мух. «Пятьсот! Ишь сколько! А всего-то один раз махонул! Нет, есть у меня сила. Пятьсот мух ухлопать с одного маху, это значит, в человеке есть сила. Ежели бы она, дура баба, меня почитала да хорошо за мной ходила, так я бы нешто такую силу забрал? Тварь этакая!» И так он стал хорошо об себе думать, что совсем расхрабрился, идет и все у него в голове эти пятьсот мух сияют. И сначала он думал о мухах, а что дальше идет – уж и о людях стал раздумывать; а как к городу какому-то стал подходить, так и совсем уж ему представилось, что не пятьсот мух он убил, а прямо сказать – пятьсот человек. Идет гоголем, на-поди! Пришел в город, прямо к мастеру, вынул кинжал и говорит: «Сделай надпись, что, мол, я, Ахмет, богатырь, побиваю по пятисот человек единым махом».
«Сделал ему мастер нарезку… и повалило, братцы мои, с этого числа на Ахметку счастье!.. То есть такое счастье повалило – почитай, что больше чем вот от барина от богатого на нашего компаньона нанесло его. Право!.. Идет он от мастера, а в брюхе у него очень большая тоска: ничего он не ел, не пил, почитай, целые сутки… «Хоть бы корочку какую господь послал!» Вдруг под самым его носом открывается двор, и идет на том дворе богатая свадьба: танцы, угощение, музыка – что угодно; царский министр дочь свою замуж выдает. Ахметка туда. «Кто такой?» Ахметка без долгих разговоров вынул кинжал. «А вот кто такой, говорит, читай!» Прочитали, ахнули, сейчас его в передний угол, угощать его принялись, в ноги кланялись, ручки у богатыря целовали. Ел Ахметка за четверых, наедался на неделю вперед, думает: «Назавтра не будет другой свадьбы, придется побираться, так надобно наедаться хорошенько…» А в то самое время, пока он ел да думал, что завтра есть будет нечего, уж доложили об нем царю, значит по-ихнему хану, – доложили так, что появился необыкновенный богатырь. Сейчас же хан приказал позвать Ахметку… Испугался Ахметка страсть как… «Болен я, начинается у меня тифозная эпидемия!» Как есть как прежде. Однако его повели под руки прямо к хану… Пал Ахметка перед ним в ноги, лежит ни жив ни мертв, а хан, как прочитал надпись у него на кинжале, так и ахнул. «Этакого необыкновенного богатыря да чтоб я упустил из моей державы? Никогда!» Сейчас Ахметку подняли, одели его в драгоценные одежды, денег ему целый мешок в руки впихнули – Ахметка стоит дурак-дураком, сообразить ничего не может… А хан думает: «Что ежели я его награжу, а другой какой-нибудь хан узнает да переманит его к себе? Нет, ни за что! Женю я его на моей дочери, и тогда уж ему уйти некуда будет». И не успел, братцы мои, Ахметка опомниться – хвать, уж и свадьбу играют, и уж он мужем ханской дочери очутился, и уж, господи благослови, на кровати растянулся… Посмотрела на него ханская дочь и говорит: «Неужели, с позволения сказать, этакое чучело может быть великолепным богатырем?» А Ахметка лежит на кровати, трясется от страху – потому такую ему кровать сделали, что упади он с нее, так вдребезги бы расшибся. Вот он лежит и боится, как бы во сне не свалиться – ну а между прочим все-таки надумал, ответил своей нареченной жене: «Это ты так говоришь потому, что ничего не понимаешь. А поживи, так и увидишь, что я за сила». Поглядела, поглядела на него царевна – «экая, говорит, гадость!», плюнула, заплакала, а делать нечего! Приняла закон, так уж надо покоряться.
«Хорошо.
«А был тут под самым городом с незапамятных времен страшный змей. И жил тот змей в пещере, и ел народ поедом, целыми сотнями глотал, словно галушки… И стали ему жители платить дань: по два раза каждый год по красивой девице, значит, в жены ему, – по две жены, подлецу, в год – только бы он не жрал без толку прочих обывателей. И настал, братцы мои, такой год, что пришлось отдавать этому змею вторую ханскую дочь. А уж которая к этому змею девица попадает, так уже тут – со святыми упокой! Ни вовеки ее не увидишь!.. Только в этот раз царь-то ихний, хан, стало быть, и говорит: «Слава богу, есть у нас великолепный богатырь, не станем мы теперь девиц этому дураку, змею, отдавать: наш храбрый Ахмет с единого удара все головы ему пособьет. Ежели он с одного маху по пятисот голов рубит, так уж десяток змеиных морд очень просто может отщипнуть». Призвал Ахметку: «так и так, говорит, змей у нас…» – ну, и все подробно ему объяснил. «Иди, говорит, ты и отруби ему все десять голов…» Услыхал это Ахметка – и опять за старое: болен, чахотка, ревматизм… Он бы сейчас пошел и убил змея, да болен, не может встать, забился под одеяло, охает… А жена его, царевна-то, пришла, смотрит на него, говорит: «Я знала, что ты не богатырь, а обманщик. Погоди! вот я скажу отцу, каков ты человек… У него закон короткий – сейчас топором голову прочь, коли ты добром не пойдешь… Вот я сейчас пойду да и скажу все отцу… Надоел ты мне страсть как!» Взяла да и ушла; а Ахметка лежит, лежит, думает: «Ну как в самом деле царь мне голову отрубит? Жена меня видеть не может; ну-ка да он ее послушает!» Подумал, подумал, стало ему страшно умирать, вскочил он с кровати; захватил кой-какие пожитки, да и давай бог ноги, пустился из царского дворца куда глаза глядят. И ночи перестал бояться, только бы голову унести!
«Бежал, бежал, наконец устал; а на дворе ночь темная, на земле лечь спать побоялся: ну-ко змей его съест! – полез на дерево. Кой-как умостился, спит. Всю ночь он проспал с устанку как убитый, а поутру открыл глаза – глядь, а змей-то десятиглавый тут же под деревом спит и головы все свои распространил в разные стороны… Как увидал это Ахметка, занялся у него дух, со страху ударило ему в башку, помутился у него ум, зашатался, зашатался – бух с дерева, да прямо на змея… А змей-то, впросонках не разобравши дела, тоже со страху (как Ахметка-то об него треснулся) думал, что застигли его, только крякнул и подох бездыханно; даже лопнул весь вдоль и поперек с испугу… так его Ахметка испугал. А Ахметка долго без памяти валялся на мертвом змее, а как очнулся, видит, что змей-то помер, и страх у него прошел, и гордость сейчас в нем оттаяла; и опять возмечтал о себе… Идет в город, а навстречу ему войско ханское. «Куда идете?» – «Да тебя ловить, где ты был?» – «Где был! Змея бил… подите-ка, поглядите, что там под деревом валяется…» Поглядели – мертвый змей. Тут про Ахметку такая слава пошла – неслыханная! Тут уж все уверовали, что истинный он богатырь и храбрость имеет необыкновенную. Тут его царь так ублаготворил, что выше всех поставил, всякими бриллиантами его наградил, подарков ему надарил, живет Ахметка по-царски. Только жена его, царевна, все не верит: «Эдакой плюгавый мужчина и чтобы он мог так сделать? Не верю я этому!» А Ахметка храбрости набрался, лежит на кровати, огрызается: «Вот ты поговори у меня! Я тебе покажу, какой я плюгавый!» Ну, царевна, обыкновенно, плачет – а ведь что с ним сделаешь? Молчи! Больше ничего…
«Хорошо…
«Идет время – живет Ахметка в полное свое удовольствие, и опять царь присылает за ним, к себе зовет… Скрючило Ахметку, однако пошел… «Так и так, – говорит царь, – идет на меня несметное войско, перережут нас всех начисто – иди, разбей их всех, богатырь мой великолепный!» На это Ахметка говорит: «Ваше царское величество! Не могу я идти, потому что я болен, всем нутром слаб, чахоткой одержим, белая горячка у меня. Скоро я должен сойти с ума – тогда я все могу погубить». Слушает хан эти слова и не верит: Ахметка и прошлый раз то же самое говорил – болен, болен, а на деле эво что вышло. «Хорошо, говорит, делай как знаешь, я на тебя надеюсь… А войску прикажу, чтобы каждое слово твое исполняли, да не то что слово – а чтобы в каждой малости слушались…» Вскарабкался Ахметка на кровать, подскользнул под одеяло – «ох-ох-ох, матушки-батюшки, умираю! чахотка, белая горячка, холера у меня!» Как увидала его жена, что он опять под одеяло шмыгнул: «А-а, говорит, кляузная душа, пришел твой конец! Слава тебе господи! Теперь ежели ты на войну не пойдешь, так тебя силком поведут, а ежели не победишь, так тебя на части разорвут, потому тогда не девица какая-нибудь, а целая держава должна пропасть. Вот я сейчас отцу пойду скажу!..» Побежала к отцу, а тем временем неприятель со всех сторон нахлынул, обложил город, и не успел Ахметка из-под одеяла выскочить, чтобы лататы задать, как входит хан, берет его за руку, выводит на улицу и говорит: «Вот тебе конь, садись, поезжай и командуй! А ты, мое верное войско, беспрекословно ему повинуйся и все, что только он ни прикажет, – все исполняй и даже что только он будет делать – то и ты, мое верное войско, делай… С богом!»
«Ни жив ни мертв сидит мой Ахметка на лошади; вожжей не может держать – и руки и ноги врозь расползаются… Царские адъютанты едут по бокам, держат его под руки. Выехали в поле, стали против несметного неприятеля, раскинули для Ахметки золотой шатер, сняли его с лошади, привели в этот шатер, собрались все генералы, фельдмаршалы, ждут приказаний, а Ахметка лыка не вяжет со страху… Наконец, того, говорит: «Я не могу! У меня ум помрачился, меня злой дух испортил, я рассудка лишился, а без рассудка нельзя командовать!» И стал он и со страху, и из притворства неведомо что творить: одежду с себя поснимал, все на себе изорвал, остался весь как мать родила и, наконец того, спрятался со страху под диван. Все генералы, фельдмаршалы смотрят – понять ничего не могут, а, между прочим, не смеют ослушаться царского приказания. Что Ахметка делает, то и они делают, и войску тоже делать приказывают. Обнаготились все начисто и войско все тоже размундировалось наголо, и все полезли, за кустики, за холмики попрятались… Лежат все, ждут, что будет. А Ахметка тоже лежит под диваном голый, ни жив ни мертв… Только, братцы мои, вскочи в это самое время собачка махонькая в шатер; увидала она Ахметку под диваном – к нему; ну с ним играть, кусать его, тормошить… Гонит ее Ахметка, а та сдуру все к нему лезет. И раз прогнал, и два – а она все свое. И должно быть, что, играючи, тяпнула она его за ногу. Ахметка осерчал, забыл свой страх; выскочил из-под дивана, схватил сапог – да за собакой! «Погоди, мол, каналья, – я тебя!» Да с сапогом-то из шатра вон! А за ним генералы, а за генералами все войско – да как двинули за своим первоначальником в голом-то виде, да как увидал неприятель этакую страсть – и где уж тут воевать, давай бог ноги, кто куда со страху-то, по ямам, по буеракам, по горам – все до единого разбежались… А Ахметка нагнал собачонку, ударил ее сапогом: «я тебе, говорит, дам кусаться!» Оглянулся – а уж от неприятеля и след простыл! И сейчас опять расхрабрился, говорит: «Вы что же меня из-за такой дряни беспокоили?» Тут хан и весь народ не знали, как Ахметку ублаготворить. Опять его наградили, обдарили и сделал его хан себе наследником… Пришел Ахметка к жене, говорит: «Что, дура этакая? Похож я на мочалу?» Ну, жена только плюнула на него и слезами залилась… А Ахметка стал жить да поживать… Ну что, господа, как счастье это?»
– Знамо, не горе! – отозвался лакей. – Чего ему еще? Живи, поживай!..
– Нет, – сказал солдат, – про такое счастье, что с неба сваливается, нельзя сказать: «живи да поживай!» Как пришло, так и уйдет – а в этом счастья нету. Вот и с Ахметкой то же было. Долго так ему все удавалось. Жена его даже все глаза выплакала – все ждала, не пропадет ли постылый каким-либо манером, а он все выше да выше. Наконец, того, подходит время, помирает наш хан, а Ахметка влезает, господи благослови, на престол. Вскарабкался, дубина этакая, уселся – и давай царствовать! Вот тут он и сплошал! Коли хочешь царствовать, так будь умен; тут, в этом деле, надобно каждую вещь разобрать… Подданные Ахметкины так и думали, что он все свои подвиги творил не с глупой головы, и надеялись на него… А Ахметка-то, знамо, уж дурак-дураком был от рождения… Однако, как пришлось ему царствовать, и решил он: «Все у меня в жизни навыворот выходило, от этого я так и возвеличился, пущай же и царствовать я буду тож наоборот – авось меня подданные почитать будут…» И стал орудовать: кого бы наказать, а он ему орден, награду, а кому награду – того в кутузку; кому бы в попы, а Ахметка его в плясуны, а кому бы самое любезное дело на голове ходить да фокусы представлять – того в духовенство определил… Перерубил он человечьих голов видимо-невидимо, и все понапрасну, а которые бы следовало отрубить – те всячески изукрасил… Ну, братцы мои, похозяйничал он этаким-то манером годик, другой, видит народ, что дело дрянь, что была в делах Ахметки удача, а ума не было… Потолковали, посоветовались, да и сняли Ахметку с престола… «Слезай-ка, мол, любезный, с престола-то, да ступай куда-нибудь подобру-поздорову, пока цел». Ну, Ахметка, нечего делать, с престола слез, одежу с него сняли, палкой в дорогу наградили… С тех пор и слуху о нем никакого нет, а жена как увидала все это – выскочила на крышу (они там все по крышам гуляют) да в бубен ударила, да песни стала играть на радостях, а вскорости нашла жениха умного, молодого, взяла его за себя и стала с ним царствовать… А куда Ахметка девался – так никто и не знает…
– Все-таки, – сказал лакей, – хоть два года счастливо пожил…
– Ну, нет, – сказал солдат, – по моим мыслям, я этого счастьем назвать не могу…
– Ну, а как же по-твоему-то?..
– А по-моему… Да ты слушай, что дальше будет, а уж тогда и будешь разговаривать.
– Ну, ладно, рассказывай!..
III
Понюхал старик табачку, поотчихался, покрестился, улегся поспокойнее и начал:
– Это я рассказывал, как на дурака валит удача, а теперича расскажу, что бывает иной раз – не своим умом, а чужим разумением человек захочет осчастливиться, так и это опять никак назвать счастьем невозможно… Было, братцы мои, такое дело: жил-был, опять же все там, в черкесских землях, мельник один… Ну, сам знаешь, какая уж нажива в тамошних местах по хлебной части! Там все больше фрукт, птица, овца, а уж где там по горам пашни пахать, хлеб сеять… Жил, стало быть, этот мужичонка кой-как, с хлеба на квас перебивался. Окроме мельницы было у него и еще дело – кур держал, яйцы продавал в город… Вот хорошо. Живет так-то. Только видит раз – курицы одной нет, другой раз и двух не досчитался, а третий раз и целого пятка не отыскалось… Стал примечать – что такое? кто этим делом орудует?.. Вот однова ночью и слышит – куры всполошились; выскочил из дому, а по полю лисица удирает с курицей… «Ну, – сказал мельник, – ладно, любезная! Попадешься ты мне!» Поставил капкан, и ночи через две попалась лисица, лапу ей капкан прищемил. Схватил мельник кинжал (у них бесперечь все поножовщина идет, так уж это чтоб без кинжала день продышать – извини!), хотел ее пырнуть, а лисица и говорит: «Мельник, мельник! Не режь меня, я тебе большую службу сослужу – и богатство тебе предоставлю, и на ханской дочери женю, и самого в ханы произведу. Только ты меня не убивай, а корми всю жизнь, а когда я помру, то чтобы честь-честью похоронить, а не так, чтобы собакам выкинуть». Подумал, подумал мельник: «Ну ладно, говорит, пущай!» Отпустил лисицу на волю и стал чужим умом жить… Это и так завсегда бывает: застигни я какого купца богатого или чиновника на нехорошем деле, и он мне начнет сулить: «Скрой, а я тебя награжу!» Вот так и мельник. «Ну, – говорит мельник, – коли такой уговор у нас, так действуй!»
«Вот лисий ум и начал орудовать… Первым долгом побежала она к соседнему хану, пала ему в ноги и говорит: «Прислал меня к тебе мой знаменитый государь, хан Ахметка…»
– Ну, что все Ахметка да Ахметка, – перебил рассказчика лакей.
– Ну, пущай хошь Абдулка будет – все едино. «Прислал меня мой Абдул-хан, – говорит лисица, – попросить у тебя меру; надобно нам перемерить золото наше, потому что у нашего Абдул-хана страсть сколько золота…» Дали ей меру, принесла она ее на мельницу и стала рыться в навозной куче. Рылась, рылась, откопала золотой; сейчас она этот золотой и воткни в щелку – значит туда, где мера раскололась. Воткнула и несет меру назад. «Насилу, говорит, вымерили… Смерть моя как умаялась! Мой хан Абдул приказал вас благодарить». – «Да неужели у него столько золота, что он два дня его мерою мерил?..» – «Очень, говорит, много!» Не поверил хан, взял меру в руки, говорит: «Эдакими мерами вы золото ваше мерили?» – «Этими самыми!» Хан даже рассердился, бросил меру на пол – а из нее и зазвенел по полу золотой. «Вот изволь видеть, – сказала лисица, – один золотой и сейчас где-то застрял. Нет, сущую правду я говорю: великий богач мой Абдул-хан!..
«И в другой раз прибежала к нему лисица и опять мерку потребовала. «Серебро, говорит, надо перемерить!..» И тоже пять двугривенных рассовала в разные щелки и принесла меру назад ровно чрез неделю. «Целую неделю, говорит, бились, еле-еле покончили… Приказал вас благодарить!» – «Не может быть, чтобы целую неделю серебро мерили…» – «Нет, верно!» Тряхнул хан мерой – двугривенные так и задребезжали по полу… «Да-а-а! – сказал хан, – должно быть, что сосед мой Абдул очень богатый человек. Скажи ему, не возьмет ли он замуж за себя мою дочь». Лисица, не будь глупа, отвечает ему: «Он и сам мне велел дочь вашу потребовать себе в брак и спрашивает, когда ему быть к вам, чтоб настоящим манером присвататься?» – «Ну, пущай хоть завтра приезжает!» – «Очень прекрасно!» – ответила лисица и шмыгнула домой.
«Рассказала все мельнику, а мельник и говорит: «В чем же я пойду к хану? у меня даже и брюк-то, с позволения сказать, нет настоящих – так как же я к ханской-то дочери могу соответствовать!» – «Ну уж это не твоя печаль, ты только исполняй, что я тебе присоветую…» – «Ну ладно!» Вот она и стала исхитряться; нацепила на него всяких лык, стружек навешала – издали-то они на солнце лоснятся, блестят – и говорит: «Пойдешь ты навстречу хану, он со свитой на том берегу реки будет тебя ждать, – пойдешь к нему, и иди прямо бродом, в воду, а на средине реки крикни, будто оступился, и нырни в воду»… Выехал хан навстречу к Абдулке, пошел Абдулка к нему пешком прямо вброд, нырнул и выплыл в чем мать родила, весь его наряд в речке потонул… А лисица выскочила на другой берег и говорит ханской свите: «Дайте что-нибудь моему Абдул-хану одеть, а то домой нам некогда за платьем ехать… Сколько бриллиантов одних потонуло в речке, так это и сосчитать невозможно!» Ну, свита сейчас поснимала с себя разные парчевые халаты, – чтобы понравиться будущему ханскому зятю, – обрядили его в лучшем виде, посадили на лучшего коня и поехали к хану во дворец. Едет наш мельник, разоделся барином!..