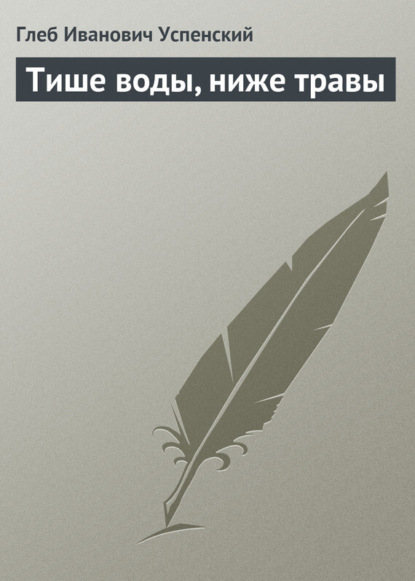По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Тише воды, ниже травы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну?
– Ну первый маляр по губернии? Пять домов?
– Ну?
– Ну я его по щекам бил!
Сказав это, Иван торжественно замолкает, сверкая на нас глазами.
– Я своими ручками бил его по морде! Ученик он мой был, видишь вот! Поди спроси у него: сколько, мол, раз Иван Лазарев вам голову прошибал? Поди! – что он тебе скажет? А теперь я сам у него копеечки напрошусь! Он – миллионщик, а я… Вот они бабы-то!
Солдат вздыхает.
– У меня тридцать человек рабочих пикнуть не смели! У меня… ах! Ах, бож-же мой! – вдруг обрывая гневную речь, как бы от сильной боли хватаясь за ухо, стонет Иван. – А-ах, как завы-ыл!..
– Кто? кто такой?
– Да кто же?.. Пошел из-за спины, завы-ыл, завыл так, альни под сердце подвернуло! Ах, боже милостивый!
– Да это ветер! что ты? – успокоивал солдат.
– Знаем мы его, какой он ветер! Учены очень! – говорит Иван, мало-помалу освобождаясь от видения. – Они, жены-то, довольно хорошо нас этому обучили, слава богу! Прраклятые!
Несмотря на добродушие солдата, несмотря на его полное понимание невозможности поправить что-нибудь в своем положении, открытая вражда Ивана к жене, подкрепляемая аргументами, подобными вышеприведенным, действовала на солдата весьма странным образом.
– Да что ж, ей-богу, – стал поговаривать он, – терпишь, терпишь… Сегодня вот опять вломился: «посылай!»
– Ермолка, что ль? – спрашивал Иван.
– Стало, он!
– По шее его! Больше ничего, одно! Дуй, как собаку!.. – советовал Иван гневно.
– Да что же в самом деле? Мне тоже требуется свой покой, право, ей-богу! «Ты, Ермолай, хушь бы подумал, говорю, ведь и ты тоже, чай, будешь на суде-то?..» – «Посылай!..» – только и слов… И жена: «Пошли, Филиппушка, нам, пропащиим!» Уж я посылал, посылал…
– Ловки они нашего брата разорять, собаки… Огреть хорошенько – да и сказ!
– Да что в самом деле! – как-то неопределенно произносил солдат, обращаясь ко мне и не то жалуясь, не то соглашаясь.
В таких разговорах мы проводили время, ожидая, не получшает ли нам всем, не перестанет ли непогода, не начнутся ли выборы. Ни того, ни другого, ни третьего покуда не случилось; только история господского сюртука, изображаемая хромым солдатом, выяснялась все более и более, делаясь от этого необыкновенно мучительной. Однажды, в бессонную ночь, поднявшись к окну за табаком, я случайно увидел Ермолая, который прошел под моим окном по грязи, без шапки, с растрепанными по ветру волосами и распоясанной рубахой. Он шел медленно и считал на ладони медные деньги… Вслед за ним проплелась, завернувшись с головой в рваную свиту, сгорбленная и, судя по походке, крайне изможденная жена солдата; она плелась босиком, хромая на одну ногу, обвязанную грязной тряпкой, и, повидимому, шла, куда глаза глядят. После этой сцены мне было весьма, тяжело слушать негодующие вопросы солдата вроде: «Да что ж в самом деле?», как бы грозившие чем-то этой, замученной женщине. Но благодаря простодушию и доброте солдата, низводившим этот вопрос только до степени глубокого вздоха, никто из нас троих не предполагал, что из этого что-нибудь выйдет.
А между тем это «что-нибудь» вышло, и подзадоривания Иваном солдата разрешились совершенно неожиданно.
* * *
Однажды, занимаясь в школе, я слышал, как хромой солдат вошел в мою комнату, толковал довольно громко о чем-то с Иваном и потом ушел куда-то вместе с ним: в последнее время солдат охотно водил Ивана в кабачок выпить рюмочку, и возвращались они скоро, боясь рассердить барыню; но в этот раз пропали на целый день.
Господский кучер, принесший мне обед вместо Ивана, на расспросы о нем объявил, что он вместе с хромым солдатом погнался куда-то за ворами.
– За какими ворами?
– Да за Ермолкой, за полюбовником жениным. В прошлую ночь ночевал он у них… Ну и стянул, увместях с Феколкой, деньги солдатские… Руп, что ли то… И ушли вместе с бабой куды-сь… Надо быть, на прощоновские колодези… Солдат-то хватился поутру, ан денег нет, а они с бабой ушли! Ну и погнал вдогонку. Да что, глупый совсем старик! Куды ему отнять? Это его Ванька поджег, он бы сам ни вовек – куда ему! А они, вашскбродие, в кабаке сначала зарядились, солдат-то накатился, боже мой, как! Мужика нанял – во весь дух!.. Барыня им попались – в город ехали, так даже очень удивились этому, что такое со стариком? Ей-богу-с!
Это известие весьма удивило меня.
– И стоит за этакой сволочью гнаться! На его месте я бы сам ей руп дал: иди, любезная, право. Что за такой, за паскудиной таскаться? Известная потаскуха, бродяга… Пирожное еще будет, ваше благородие!
Долго просидел я в этот вечер у Ивана Николаича и когда воротился, то нашел Ивана мертвецки пьяным. Он был весь в грязи и валялся в передней без чувств; рубаха его была изорвана, а лицо и руки покрыты ссадинами и синяками. Мне просто страшно сделалось в компании с ним. Очевидно, что было большое пьянство, большая драка, разыгралось какое-то невероятное буйство, в котором сорвано множество обид и огорчений.
* * *
Ранним утром, чуть свет, я был разбужен торопливым и нетерпеливым стуком в дверь, разбудившим даже Ивана.
– Погодишь, не умрешь! – рыча с похмелья и отворяя крючок у двери, бормотал он.
В передней застучала деревяшка солдата.
– Эко грохаешь! – хрипел Иван; но солдат ему не отвечал и прямо вошел ко мне.
На нем лица не было.
– Что с тобой?
– В дому не чисто, ваше высокоблагородие! – пролепетал он, вытянувшись в струну и как бы задыхаясь.
– Что такое?
– Очень не чисто, ваше благородие, жена померла!
– Ай померла? – воскликнул Иван в великом испуге.
– Померла! – прошептал солдат. – Ну не очень чисто скончалась… Очень… неаккуратно…
– Да в чем дело? Будет, говори!
Несмотря на испуг и трепет, солдат кое-как объяснил, что вчерашнего числа, после того как они с Иваном «выволокли» жену из прощоновского кабака, солдат привез ее домой, ругая дорогой, говоря ей, что она довела его, старого человека, до того, что он подрался, подрался из-за того, что она обокрала его, нищего, унесла последнее… Жена все молчала. Приехав домой, он взвалил ее на печь и сам лег туда же, предварительно привязав одним концом веревки за дверь, чтобы кто не вошел, а другой конец с пьяных глаз взял с собой на печку, обвязал им женину ногу и крепко держал веревку в руке, чтобы проснуться, когда она побежит. Жениной девчонке, которую тоже ударил несколько раз, он наказал смотреть за мамкой, ежели сам задремлет.
В глухую ночь он слышал пронзительный крик – голос походил на девчонкин, но очнуться не мог, потому что голова «дюже» была тяжела.
– Прочухался под утро, – шептал солдат. – Глянул к полатям… ан она… и веревка эта самая!
– Ах, дело-то не чистое! – хрипел Иван, очнувшись от хмеля. – А-а, братец ты мой!
– Очень не чистое дело!
Все мы помолчали.
– Эх, водочка-а, матушка! – утирая градом полившиеся слезы, говорил солдат: – два раза я от тебя погибель имею, под шапку из-за тебя попал… теперь, может, душу…
– Ну первый маляр по губернии? Пять домов?
– Ну?
– Ну я его по щекам бил!
Сказав это, Иван торжественно замолкает, сверкая на нас глазами.
– Я своими ручками бил его по морде! Ученик он мой был, видишь вот! Поди спроси у него: сколько, мол, раз Иван Лазарев вам голову прошибал? Поди! – что он тебе скажет? А теперь я сам у него копеечки напрошусь! Он – миллионщик, а я… Вот они бабы-то!
Солдат вздыхает.
– У меня тридцать человек рабочих пикнуть не смели! У меня… ах! Ах, бож-же мой! – вдруг обрывая гневную речь, как бы от сильной боли хватаясь за ухо, стонет Иван. – А-ах, как завы-ыл!..
– Кто? кто такой?
– Да кто же?.. Пошел из-за спины, завы-ыл, завыл так, альни под сердце подвернуло! Ах, боже милостивый!
– Да это ветер! что ты? – успокоивал солдат.
– Знаем мы его, какой он ветер! Учены очень! – говорит Иван, мало-помалу освобождаясь от видения. – Они, жены-то, довольно хорошо нас этому обучили, слава богу! Прраклятые!
Несмотря на добродушие солдата, несмотря на его полное понимание невозможности поправить что-нибудь в своем положении, открытая вражда Ивана к жене, подкрепляемая аргументами, подобными вышеприведенным, действовала на солдата весьма странным образом.
– Да что ж, ей-богу, – стал поговаривать он, – терпишь, терпишь… Сегодня вот опять вломился: «посылай!»
– Ермолка, что ль? – спрашивал Иван.
– Стало, он!
– По шее его! Больше ничего, одно! Дуй, как собаку!.. – советовал Иван гневно.
– Да что же в самом деле? Мне тоже требуется свой покой, право, ей-богу! «Ты, Ермолай, хушь бы подумал, говорю, ведь и ты тоже, чай, будешь на суде-то?..» – «Посылай!..» – только и слов… И жена: «Пошли, Филиппушка, нам, пропащиим!» Уж я посылал, посылал…
– Ловки они нашего брата разорять, собаки… Огреть хорошенько – да и сказ!
– Да что в самом деле! – как-то неопределенно произносил солдат, обращаясь ко мне и не то жалуясь, не то соглашаясь.
В таких разговорах мы проводили время, ожидая, не получшает ли нам всем, не перестанет ли непогода, не начнутся ли выборы. Ни того, ни другого, ни третьего покуда не случилось; только история господского сюртука, изображаемая хромым солдатом, выяснялась все более и более, делаясь от этого необыкновенно мучительной. Однажды, в бессонную ночь, поднявшись к окну за табаком, я случайно увидел Ермолая, который прошел под моим окном по грязи, без шапки, с растрепанными по ветру волосами и распоясанной рубахой. Он шел медленно и считал на ладони медные деньги… Вслед за ним проплелась, завернувшись с головой в рваную свиту, сгорбленная и, судя по походке, крайне изможденная жена солдата; она плелась босиком, хромая на одну ногу, обвязанную грязной тряпкой, и, повидимому, шла, куда глаза глядят. После этой сцены мне было весьма, тяжело слушать негодующие вопросы солдата вроде: «Да что ж в самом деле?», как бы грозившие чем-то этой, замученной женщине. Но благодаря простодушию и доброте солдата, низводившим этот вопрос только до степени глубокого вздоха, никто из нас троих не предполагал, что из этого что-нибудь выйдет.
А между тем это «что-нибудь» вышло, и подзадоривания Иваном солдата разрешились совершенно неожиданно.
* * *
Однажды, занимаясь в школе, я слышал, как хромой солдат вошел в мою комнату, толковал довольно громко о чем-то с Иваном и потом ушел куда-то вместе с ним: в последнее время солдат охотно водил Ивана в кабачок выпить рюмочку, и возвращались они скоро, боясь рассердить барыню; но в этот раз пропали на целый день.
Господский кучер, принесший мне обед вместо Ивана, на расспросы о нем объявил, что он вместе с хромым солдатом погнался куда-то за ворами.
– За какими ворами?
– Да за Ермолкой, за полюбовником жениным. В прошлую ночь ночевал он у них… Ну и стянул, увместях с Феколкой, деньги солдатские… Руп, что ли то… И ушли вместе с бабой куды-сь… Надо быть, на прощоновские колодези… Солдат-то хватился поутру, ан денег нет, а они с бабой ушли! Ну и погнал вдогонку. Да что, глупый совсем старик! Куды ему отнять? Это его Ванька поджег, он бы сам ни вовек – куда ему! А они, вашскбродие, в кабаке сначала зарядились, солдат-то накатился, боже мой, как! Мужика нанял – во весь дух!.. Барыня им попались – в город ехали, так даже очень удивились этому, что такое со стариком? Ей-богу-с!
Это известие весьма удивило меня.
– И стоит за этакой сволочью гнаться! На его месте я бы сам ей руп дал: иди, любезная, право. Что за такой, за паскудиной таскаться? Известная потаскуха, бродяга… Пирожное еще будет, ваше благородие!
Долго просидел я в этот вечер у Ивана Николаича и когда воротился, то нашел Ивана мертвецки пьяным. Он был весь в грязи и валялся в передней без чувств; рубаха его была изорвана, а лицо и руки покрыты ссадинами и синяками. Мне просто страшно сделалось в компании с ним. Очевидно, что было большое пьянство, большая драка, разыгралось какое-то невероятное буйство, в котором сорвано множество обид и огорчений.
* * *
Ранним утром, чуть свет, я был разбужен торопливым и нетерпеливым стуком в дверь, разбудившим даже Ивана.
– Погодишь, не умрешь! – рыча с похмелья и отворяя крючок у двери, бормотал он.
В передней застучала деревяшка солдата.
– Эко грохаешь! – хрипел Иван; но солдат ему не отвечал и прямо вошел ко мне.
На нем лица не было.
– Что с тобой?
– В дому не чисто, ваше высокоблагородие! – пролепетал он, вытянувшись в струну и как бы задыхаясь.
– Что такое?
– Очень не чисто, ваше благородие, жена померла!
– Ай померла? – воскликнул Иван в великом испуге.
– Померла! – прошептал солдат. – Ну не очень чисто скончалась… Очень… неаккуратно…
– Да в чем дело? Будет, говори!
Несмотря на испуг и трепет, солдат кое-как объяснил, что вчерашнего числа, после того как они с Иваном «выволокли» жену из прощоновского кабака, солдат привез ее домой, ругая дорогой, говоря ей, что она довела его, старого человека, до того, что он подрался, подрался из-за того, что она обокрала его, нищего, унесла последнее… Жена все молчала. Приехав домой, он взвалил ее на печь и сам лег туда же, предварительно привязав одним концом веревки за дверь, чтобы кто не вошел, а другой конец с пьяных глаз взял с собой на печку, обвязал им женину ногу и крепко держал веревку в руке, чтобы проснуться, когда она побежит. Жениной девчонке, которую тоже ударил несколько раз, он наказал смотреть за мамкой, ежели сам задремлет.
В глухую ночь он слышал пронзительный крик – голос походил на девчонкин, но очнуться не мог, потому что голова «дюже» была тяжела.
– Прочухался под утро, – шептал солдат. – Глянул к полатям… ан она… и веревка эта самая!
– Ах, дело-то не чистое! – хрипел Иван, очнувшись от хмеля. – А-а, братец ты мой!
– Очень не чистое дело!
Все мы помолчали.
– Эх, водочка-а, матушка! – утирая градом полившиеся слезы, говорил солдат: – два раза я от тебя погибель имею, под шапку из-за тебя попал… теперь, может, душу…