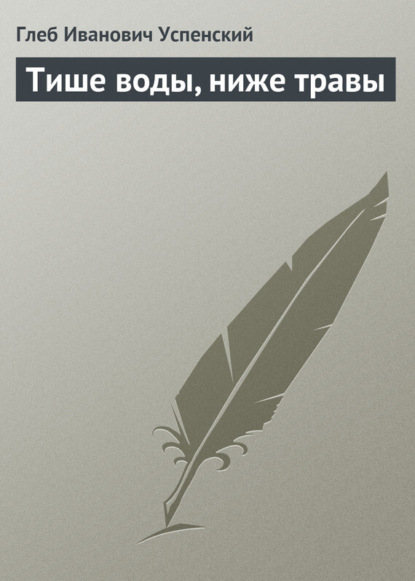По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Тише воды, ниже травы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ах вы, господа-господа!.. – сказал Иван Николаич… – «Гов-ворить»! Да нешто он умеет это?.. Чудаки вы, ей-богу… Там нешто по-мужицки надо?.. Да ежели он какое-нибудь слово выворотит, так ведь ему в самое горло звонок-то запустят да там и зазвонят! Да и говорить-то ему не о чем.
– Как?
– А так! У них, у членов-то, ведь всё кругом родня, все они друг дружке либо брат, либо сват… Уж они все дела знают! Один другому «шу-шу» – уж они не продадут! Будем так говорить: остался ты тут недоволен, пошел в губерню – опять же они самые сидят… так аль нет? Стало быть, какой же тут разговор, – изволишь видеть?.. Ну и пойдешь в нумер спать…
Разговаривая таким образом, мы, наконец, кое-как доплелись до Двуречек. Ночь была темная, «черная», степная.
– Ко мне ночевать поедем, уж где теперь к попу! – пригласил меня Иван Николаич.
Спустившись с горы, причем мерин выказал большой ум, не допустив хозяина осаживать и натягивать вожжи, мы приехали к небольшому домику в три окна, стоявшему неподалеку от мельницы.
В одном окне светился огонек, несмотря на то, что был час двенадцатый ночи и вся деревня спала мертвым сном.
– Ишь, – сказал Иван Николаич, – жена-то у меня – копье неизменное, булат! – сидит, ждет!
Тут он слез, отворил скрипучие прочные и высокие ворота и ввел лошадь с телегой во двор; на дворе было тихо и даже казалось теплее: так он был защищен от ветров плотными навесами.
В жарко натопленной кухне, перед комнатой с чистыми полами, лавками и столом, нас встретила жена Ивана Николаича, высокая черноволосая женщина с прекрасными черными глазами. Не показывая виду, что она рада приезду мужа, она сказала ему шутливо-сердитым голосом:
– Н-ну, лысый, куда лезешь!.. Что полы топчешь. Чай, их мыть надо? Раздевайся в кухне…
– Ты меня с такой грубостью не встречай! – ответил Иван Николаич, возвращаясь в кухню. – Потому, знаешь, где я был?
– Шут тебя знает!
– То-то и есть! Я, может, нонешний день все с девушками был-то… с хорошенькими, хочешь – ай нет?.. Ты ведь что такое? – болтал он, скидывая сапоги. – Теперь ты что? – холера! Сибирская язва, вот как в ведомостях пишут, – больше ничего! Захочу – сейчас обротаю, сведу на толкучку, а сам на молоденькой… Хе-хе-хе!..
– Да ты-то что, лысый хрен?.. Ты думаешь, и я дремала? У меня, погляди-кось, какие припасены гусарики! – шутила жена, собираясь подавать самовар, который уже кипел. – Шут ты гороховый!
– Хе-хе-хе! – помирал Иван Николаич. – Уж и огневая баба!.. Хе-хе-хе… Нет, мы ничего, дружно! Деток нам бог с ней не дал, ну… его воля! А что так – ладно! Иван не был?
– Был… а ты рубашку передень! Утром был.
– Принес?
Так они пошутили и поговорили о делах.
Самовар был подан в чистой горнице, из которой была видна еще и другая, также чрезвычайно чистая, с спальным пологом. Несмотря на то, что мебель была топорная и выкрашенная тёмнокрасной масляной краской, чистота в комнате была примерная; на стенах картинки известного содержания, у подоконников бутылки с наливкой. Иван Николаич сидел за чаем в одной рубашке, нанковых панталонах и босиком. В комнате было тепло, да он и так не боялся холоду: послышалось ему, что кто-то стучится в ворота, он встал и, надев только какие-то неуклюжие калоши с соломенной подстилкой, вышел в одной рубахе на двор. «Ветер!» – произнес он, воротясь, и снова уселся за чай. Он пил чаю много и с таким аппетитом и умением возбудить жажду в госте, что и я не отставал от него. Разговоры поэтому были отрывочны и вялы. После чаю дело зашло опять про земство.
– Нет, вот что, ваше благородие! – сказал Иван Николаич, шлепнув широкой ладонью об стол. – Дюже, я тебе скажу, мутит меня самому в это дело, в земство, впереть! Ей-ей! Дюже-дюже, я тебе доложу… Об мире я не опасаюсь: ведро вина – сейчас тебя куда угодно; тут мы и посредственника со старшиной отставим; а вот как бы подальше чего не вышло… это вот? И боюсь!
– Чего же боитесь-то?
– У-у, боже мой!.. Как не бояться, друг ты мой… Не об разговоре – это что! Это я могу: говаривал на своем веку с архиереями – старостой был! А что, пожалуй… сильны они! Ну а только уж и повредил бы им… Большую бы нанес им ущербу! Изволишь видеть, какое дело… приходит зима, время голодное. Мужику есть нечего. Посейчас он уж лебедку жует[6 - Мужику есть нечего. Посейчас он уж лебедку жует… – намек на голод 1867 года.]… Следственно, требуется хлеб. Так? Хорошо! Ну теперь гляди, какое положение: посредственник впихнет старшину в гласные – рука ему, вот они и купят хлеб у себя… чуешь? Иван-то Петров, старшина, с коих пор у мужиков же хлеб скупал для барина-то… Видел?.. Посредственник – он тут «чур меня» – в стороне, под видом благочестия… Он говорит: «Как угодно. Я полагал бы так и так, лучше Ивана Петрова нету…» Ну и – получай! Уж цену ва-аз-зьмут ха-аро-шую! Уж это верно! Вот в чем обида! Вот тут-то бы я им и не дал! Мы можем хлеб по настоящей цене доставить, мы помним бога, так-то! Мы не позволим себе, чего не надо: нам этого не нужно. Мы век копеечками жили и проживем; рублей не оченно много видали, каменных палат нету…
– Чего же вы боитесь?
– Эх, друг ты мой… Уж мы – травленые волки! Как не бояться…
Иван Николаич на минуту задумался и потом, понизив голос, сказал:
– Был я церковным старостой в Рожествене… называемо село Рожествено… Храм древний, причт бедный, ничего не стоит. Помочь нечем… Только что и жили бездождием да градобитием… Тут молебны бывали, а то в год одни крестины да двое похорон – приход слабый! Гляжу я, ан в книгах в церковных эдак вот сказано: «Берутся из сего храму пять тысяч на ассигнации… для, например, победы-одоления французов… ну, по покорении, отдадим…» Я с простоты-то и бултыхни к губернатору: «Так и так… Фракция теперича наша… сами без хлеба… пожалуйте назад, например, деньги…» Да к губернатору. Свету, свету, каков есть свет белый, не взвидел я с этого! Волокут в губерню. «Ты что же это… так и так… а?.. Франция – а?.. Ах ты…» Еле-еле уплел!
Иван Николаич сел на свое место.
– Не бояться! – нет, брат, тут скажи слово-то да оглянись! Так-то, друг, как вас? Василий Андреич? Так-то!
Перед сном Иван Николаич долгое время ходил по сеням, по двору – оглядывая, все ли заперто, не влез ли вор; поглядел, накормлена ли собака, и спустил ее с цепи…
Под чуткий лай верной собаки мы заснули покойно.
9
«На следующий день, взамен всего, что я знал недоброжелательного к бедному человеку, что слышал и вчера и сегодня и слышу каждый день, мне пришлось увидать народного благодетеля. Это была барыня. Добрые качества ее души бросались в глаза всякому, кто хотя только проходил мимо ее усадьбы. Такой прохожий непременно видел в окнах флигелей для прислуги – людей в красных кумачных рубахах, с жирными лицами, высовывающимися из-за ярко вычищенных самоваров; мог подивиться породистым лошадям, которых плотные и рослые кучера, один за одним, вели к водопою. Кучера обыкновенно были одеты в отличнейшие армяки, в которых не только не было ничего обужено и окорочено, но, напротив, – все «пущено слишком», так что подолы волочились по земле, а рукава, щедро набитые ватой, распирали мощные кучерские руки в разные стороны до того, что жеребцы часто вырывались из их рук или поднимали их вместе с своими мордами высоко над землей; при этом кучера имели на головах блестящие шляпы и выкрикивали «тпру!» такими неистовыми басами, что в тот же день получали от барыни прибавку. Ничего общего с теми людьми, которые норовят купить у мужиков хлеб по грошу и продать им же по рублю, барыня не имела – в зтом я убедился во время своего визита. Это была белокурая женщина, лет тридцати от роду, высокая, худая, необыкновенно доброе существо, жившая в деревне по убеждению, что праздно жить нельзя, что надобно трудиться и делать пользу ближнему. Муж ее, с которым она была не в ладах, жил в Петербурге. Но так как в том кругу, в котором барыня родилась и в котором жила в столицах и за границей, понятия о труде не идут далее уменья связать косынку, а понятия о пользе ближнему получаются посредством подарка этой косынки бедной чиновнице, получающей пенсию, то все добрые намерения барыни состояли в том, что называется «благотворительностью», со всеми атрибутами, обставляющими ее. В качестве такого рода особы она любила, чтобы ею были довольны и признательны, по возможности, до гроба… «Я не знаю, – сказала она мне: – быть может, я вам мало назначила… за труд? я не знаю». Я сказал, что «много доволен», да и барыня, видимо, знала, что цену она дала хорошую. Потом она постоянно читала французские книги, главным образом по части морали, и находила, что все это очень бы было полезно русским мужикам, у которых нет, например, прекрасного чувства благодарности. Так как это чувство в особенно больших размерах и приятных формах развито у иностранцев, то поэтому она была окружена немцами, которые только и делали, что благодарили ее с утра до ночи и оканчивали каждую почти фразу так: «это только мужик русски – не понимайт свой благодарнись…» Благодарные получали прямую выгоду.
* * *
Спустя несколько дней произошло открытие школы. За несколько дней перед этим крестьянским детям было велено собираться в школу, где их будут поить чаем и угощать баранками. Барыни в этот день не было дома, и угощением заведывала одна из немок в большом кисейном чепце, который возбуждал в детях самый веселый смех, сильно сердивший распорядительницу. Поэтому ругательные фразы вроде «свинья», «чушка» я довольно рано услыхал из моей комнаты при училище, ибо будущие ученики стали стекаться в школу чуть ли не до петухов. Обещанное угощение началось, однако, не ранее как по окончании обедни. Школа наполнилась множеством ребят, вслед за которыми робкою поступью прокралось и несколько родителей, в глубоком молчании засевших в дальний угол и принимавших все меры к тому, чтобы не рассердить немку, которая раздавала баранки. Робкими глазами смотрели они на распорядительницу, столь же робко, как и дети, утирая рукавами носы.
– Мая-а!.. – запищал один мальчишка на своего соседа мужика, и вслед за тем под столом упал кусок баранки. – Пил-ламил!
Мальчик заплакал.
– Это что такое? – спросила немка, грозно взглянув на мужика и мальчика…
– Мою баланку узял…
– Я ее вам-с хотел!.. – пролепетал мужичок, поднимаясь. – Дюже много… Куды ему съесть?.. У! – сказал он мальчишке: – обрадовался!..
Мальчишке дали другую баранку.
Чай пили охотно и много. Распорядительница только успевала наполнять чашки, пододвигаемые к ней с видом необыкновенного уныния на лице. А между тем посторонние посетители, взрослые, здоровые, прослышав об угощении, прибывали с каждой минутой толпами. Дворовые, как люди более или менее навостренные, с вежливостью раскланивались с немкой и старались заискать в ее расположении.
– Какое биспакойство! Экую ораву напоить! – говорил какой-нибудь из них, подсаживаясь на уголке и перехватывая на лету чашку, которую искала чья-то другая рука.
Слова мальчишек: «мая-а!» замирали в волнах комплиментов, отпускаемых дворовыми немке, в хрустении баранок и кусков сахару и стукотне ног входящих посетителей. Распорядительница сердилась и тыкала чайником куда попало.
– Коммерзум! – возгласил хромой солдат, которого я видал в городе, проворно шагая по комнате своей деревянной ногой.
Это непонятное слово относилось к другому отставному солдату, садовнику, высокая сухая фигура которого выдвигалась между крошечными ребятами за одним из столов. Садовник ответил хромому тоже каким-то непонятным словом, и потом они по-приятельски пожали друг, другу руки.
– По-черкесски, сударыня! – сказал хромой солдат немке. – Что будешь делать! Тоже видали на своем веку… И в теплых, сударыня, и в холодных землях побывали, всяких людей повидали!
– Молчи! – сердито буркнула немка, проносясь мимо солдата с чайником.
Солдат, очевидно, был под хмельком.
– Виноват, сударыня! – заговорил он, попятившись. – А что видали на своем веку много! Ну, позвольте вам сказать, такой госпожи, такого ангела не видал, как барыня наша! Да ты поди, всю вселенную изойди, не встренешь! Перед истинным создателем говорю, не найдешь!
– Как?
– А так! У них, у членов-то, ведь всё кругом родня, все они друг дружке либо брат, либо сват… Уж они все дела знают! Один другому «шу-шу» – уж они не продадут! Будем так говорить: остался ты тут недоволен, пошел в губерню – опять же они самые сидят… так аль нет? Стало быть, какой же тут разговор, – изволишь видеть?.. Ну и пойдешь в нумер спать…
Разговаривая таким образом, мы, наконец, кое-как доплелись до Двуречек. Ночь была темная, «черная», степная.
– Ко мне ночевать поедем, уж где теперь к попу! – пригласил меня Иван Николаич.
Спустившись с горы, причем мерин выказал большой ум, не допустив хозяина осаживать и натягивать вожжи, мы приехали к небольшому домику в три окна, стоявшему неподалеку от мельницы.
В одном окне светился огонек, несмотря на то, что был час двенадцатый ночи и вся деревня спала мертвым сном.
– Ишь, – сказал Иван Николаич, – жена-то у меня – копье неизменное, булат! – сидит, ждет!
Тут он слез, отворил скрипучие прочные и высокие ворота и ввел лошадь с телегой во двор; на дворе было тихо и даже казалось теплее: так он был защищен от ветров плотными навесами.
В жарко натопленной кухне, перед комнатой с чистыми полами, лавками и столом, нас встретила жена Ивана Николаича, высокая черноволосая женщина с прекрасными черными глазами. Не показывая виду, что она рада приезду мужа, она сказала ему шутливо-сердитым голосом:
– Н-ну, лысый, куда лезешь!.. Что полы топчешь. Чай, их мыть надо? Раздевайся в кухне…
– Ты меня с такой грубостью не встречай! – ответил Иван Николаич, возвращаясь в кухню. – Потому, знаешь, где я был?
– Шут тебя знает!
– То-то и есть! Я, может, нонешний день все с девушками был-то… с хорошенькими, хочешь – ай нет?.. Ты ведь что такое? – болтал он, скидывая сапоги. – Теперь ты что? – холера! Сибирская язва, вот как в ведомостях пишут, – больше ничего! Захочу – сейчас обротаю, сведу на толкучку, а сам на молоденькой… Хе-хе-хе!..
– Да ты-то что, лысый хрен?.. Ты думаешь, и я дремала? У меня, погляди-кось, какие припасены гусарики! – шутила жена, собираясь подавать самовар, который уже кипел. – Шут ты гороховый!
– Хе-хе-хе! – помирал Иван Николаич. – Уж и огневая баба!.. Хе-хе-хе… Нет, мы ничего, дружно! Деток нам бог с ней не дал, ну… его воля! А что так – ладно! Иван не был?
– Был… а ты рубашку передень! Утром был.
– Принес?
Так они пошутили и поговорили о делах.
Самовар был подан в чистой горнице, из которой была видна еще и другая, также чрезвычайно чистая, с спальным пологом. Несмотря на то, что мебель была топорная и выкрашенная тёмнокрасной масляной краской, чистота в комнате была примерная; на стенах картинки известного содержания, у подоконников бутылки с наливкой. Иван Николаич сидел за чаем в одной рубашке, нанковых панталонах и босиком. В комнате было тепло, да он и так не боялся холоду: послышалось ему, что кто-то стучится в ворота, он встал и, надев только какие-то неуклюжие калоши с соломенной подстилкой, вышел в одной рубахе на двор. «Ветер!» – произнес он, воротясь, и снова уселся за чай. Он пил чаю много и с таким аппетитом и умением возбудить жажду в госте, что и я не отставал от него. Разговоры поэтому были отрывочны и вялы. После чаю дело зашло опять про земство.
– Нет, вот что, ваше благородие! – сказал Иван Николаич, шлепнув широкой ладонью об стол. – Дюже, я тебе скажу, мутит меня самому в это дело, в земство, впереть! Ей-ей! Дюже-дюже, я тебе доложу… Об мире я не опасаюсь: ведро вина – сейчас тебя куда угодно; тут мы и посредственника со старшиной отставим; а вот как бы подальше чего не вышло… это вот? И боюсь!
– Чего же боитесь-то?
– У-у, боже мой!.. Как не бояться, друг ты мой… Не об разговоре – это что! Это я могу: говаривал на своем веку с архиереями – старостой был! А что, пожалуй… сильны они! Ну а только уж и повредил бы им… Большую бы нанес им ущербу! Изволишь видеть, какое дело… приходит зима, время голодное. Мужику есть нечего. Посейчас он уж лебедку жует[6 - Мужику есть нечего. Посейчас он уж лебедку жует… – намек на голод 1867 года.]… Следственно, требуется хлеб. Так? Хорошо! Ну теперь гляди, какое положение: посредственник впихнет старшину в гласные – рука ему, вот они и купят хлеб у себя… чуешь? Иван-то Петров, старшина, с коих пор у мужиков же хлеб скупал для барина-то… Видел?.. Посредственник – он тут «чур меня» – в стороне, под видом благочестия… Он говорит: «Как угодно. Я полагал бы так и так, лучше Ивана Петрова нету…» Ну и – получай! Уж цену ва-аз-зьмут ха-аро-шую! Уж это верно! Вот в чем обида! Вот тут-то бы я им и не дал! Мы можем хлеб по настоящей цене доставить, мы помним бога, так-то! Мы не позволим себе, чего не надо: нам этого не нужно. Мы век копеечками жили и проживем; рублей не оченно много видали, каменных палат нету…
– Чего же вы боитесь?
– Эх, друг ты мой… Уж мы – травленые волки! Как не бояться…
Иван Николаич на минуту задумался и потом, понизив голос, сказал:
– Был я церковным старостой в Рожествене… называемо село Рожествено… Храм древний, причт бедный, ничего не стоит. Помочь нечем… Только что и жили бездождием да градобитием… Тут молебны бывали, а то в год одни крестины да двое похорон – приход слабый! Гляжу я, ан в книгах в церковных эдак вот сказано: «Берутся из сего храму пять тысяч на ассигнации… для, например, победы-одоления французов… ну, по покорении, отдадим…» Я с простоты-то и бултыхни к губернатору: «Так и так… Фракция теперича наша… сами без хлеба… пожалуйте назад, например, деньги…» Да к губернатору. Свету, свету, каков есть свет белый, не взвидел я с этого! Волокут в губерню. «Ты что же это… так и так… а?.. Франция – а?.. Ах ты…» Еле-еле уплел!
Иван Николаич сел на свое место.
– Не бояться! – нет, брат, тут скажи слово-то да оглянись! Так-то, друг, как вас? Василий Андреич? Так-то!
Перед сном Иван Николаич долгое время ходил по сеням, по двору – оглядывая, все ли заперто, не влез ли вор; поглядел, накормлена ли собака, и спустил ее с цепи…
Под чуткий лай верной собаки мы заснули покойно.
9
«На следующий день, взамен всего, что я знал недоброжелательного к бедному человеку, что слышал и вчера и сегодня и слышу каждый день, мне пришлось увидать народного благодетеля. Это была барыня. Добрые качества ее души бросались в глаза всякому, кто хотя только проходил мимо ее усадьбы. Такой прохожий непременно видел в окнах флигелей для прислуги – людей в красных кумачных рубахах, с жирными лицами, высовывающимися из-за ярко вычищенных самоваров; мог подивиться породистым лошадям, которых плотные и рослые кучера, один за одним, вели к водопою. Кучера обыкновенно были одеты в отличнейшие армяки, в которых не только не было ничего обужено и окорочено, но, напротив, – все «пущено слишком», так что подолы волочились по земле, а рукава, щедро набитые ватой, распирали мощные кучерские руки в разные стороны до того, что жеребцы часто вырывались из их рук или поднимали их вместе с своими мордами высоко над землей; при этом кучера имели на головах блестящие шляпы и выкрикивали «тпру!» такими неистовыми басами, что в тот же день получали от барыни прибавку. Ничего общего с теми людьми, которые норовят купить у мужиков хлеб по грошу и продать им же по рублю, барыня не имела – в зтом я убедился во время своего визита. Это была белокурая женщина, лет тридцати от роду, высокая, худая, необыкновенно доброе существо, жившая в деревне по убеждению, что праздно жить нельзя, что надобно трудиться и делать пользу ближнему. Муж ее, с которым она была не в ладах, жил в Петербурге. Но так как в том кругу, в котором барыня родилась и в котором жила в столицах и за границей, понятия о труде не идут далее уменья связать косынку, а понятия о пользе ближнему получаются посредством подарка этой косынки бедной чиновнице, получающей пенсию, то все добрые намерения барыни состояли в том, что называется «благотворительностью», со всеми атрибутами, обставляющими ее. В качестве такого рода особы она любила, чтобы ею были довольны и признательны, по возможности, до гроба… «Я не знаю, – сказала она мне: – быть может, я вам мало назначила… за труд? я не знаю». Я сказал, что «много доволен», да и барыня, видимо, знала, что цену она дала хорошую. Потом она постоянно читала французские книги, главным образом по части морали, и находила, что все это очень бы было полезно русским мужикам, у которых нет, например, прекрасного чувства благодарности. Так как это чувство в особенно больших размерах и приятных формах развито у иностранцев, то поэтому она была окружена немцами, которые только и делали, что благодарили ее с утра до ночи и оканчивали каждую почти фразу так: «это только мужик русски – не понимайт свой благодарнись…» Благодарные получали прямую выгоду.
* * *
Спустя несколько дней произошло открытие школы. За несколько дней перед этим крестьянским детям было велено собираться в школу, где их будут поить чаем и угощать баранками. Барыни в этот день не было дома, и угощением заведывала одна из немок в большом кисейном чепце, который возбуждал в детях самый веселый смех, сильно сердивший распорядительницу. Поэтому ругательные фразы вроде «свинья», «чушка» я довольно рано услыхал из моей комнаты при училище, ибо будущие ученики стали стекаться в школу чуть ли не до петухов. Обещанное угощение началось, однако, не ранее как по окончании обедни. Школа наполнилась множеством ребят, вслед за которыми робкою поступью прокралось и несколько родителей, в глубоком молчании засевших в дальний угол и принимавших все меры к тому, чтобы не рассердить немку, которая раздавала баранки. Робкими глазами смотрели они на распорядительницу, столь же робко, как и дети, утирая рукавами носы.
– Мая-а!.. – запищал один мальчишка на своего соседа мужика, и вслед за тем под столом упал кусок баранки. – Пил-ламил!
Мальчик заплакал.
– Это что такое? – спросила немка, грозно взглянув на мужика и мальчика…
– Мою баланку узял…
– Я ее вам-с хотел!.. – пролепетал мужичок, поднимаясь. – Дюже много… Куды ему съесть?.. У! – сказал он мальчишке: – обрадовался!..
Мальчишке дали другую баранку.
Чай пили охотно и много. Распорядительница только успевала наполнять чашки, пододвигаемые к ней с видом необыкновенного уныния на лице. А между тем посторонние посетители, взрослые, здоровые, прослышав об угощении, прибывали с каждой минутой толпами. Дворовые, как люди более или менее навостренные, с вежливостью раскланивались с немкой и старались заискать в ее расположении.
– Какое биспакойство! Экую ораву напоить! – говорил какой-нибудь из них, подсаживаясь на уголке и перехватывая на лету чашку, которую искала чья-то другая рука.
Слова мальчишек: «мая-а!» замирали в волнах комплиментов, отпускаемых дворовыми немке, в хрустении баранок и кусков сахару и стукотне ног входящих посетителей. Распорядительница сердилась и тыкала чайником куда попало.
– Коммерзум! – возгласил хромой солдат, которого я видал в городе, проворно шагая по комнате своей деревянной ногой.
Это непонятное слово относилось к другому отставному солдату, садовнику, высокая сухая фигура которого выдвигалась между крошечными ребятами за одним из столов. Садовник ответил хромому тоже каким-то непонятным словом, и потом они по-приятельски пожали друг, другу руки.
– По-черкесски, сударыня! – сказал хромой солдат немке. – Что будешь делать! Тоже видали на своем веку… И в теплых, сударыня, и в холодных землях побывали, всяких людей повидали!
– Молчи! – сердито буркнула немка, проносясь мимо солдата с чайником.
Солдат, очевидно, был под хмельком.
– Виноват, сударыня! – заговорил он, попятившись. – А что видали на своем веку много! Ну, позвольте вам сказать, такой госпожи, такого ангела не видал, как барыня наша! Да ты поди, всю вселенную изойди, не встренешь! Перед истинным создателем говорю, не найдешь!