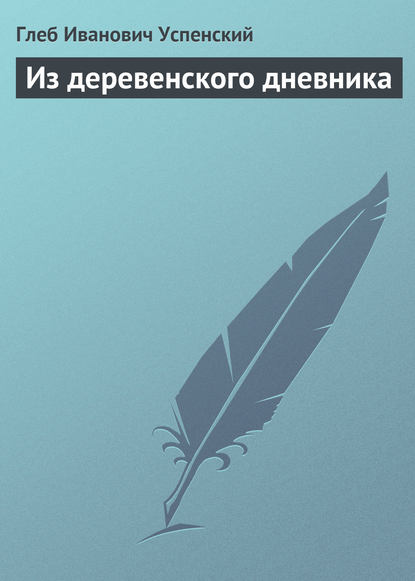По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Из деревенского дневника
Автор
Год написания книги
1879
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Будет деньги-то в кабак таскать! Подати несите… бумага вон!
– И всего-то гривенник несу… два стаканчика…
– Всё давайте, что есть!
– Мы с нашим полным удовольствием, да какие это деньги – гривенник!..
– Все меньше будет! Знаю я ваше прекрасное удовольствие… зачну вот продавать…
– Храни бог!.. авось…
Мужик идет в кабак, и колом влезают ему в горло оба стаканчика.
– Эй-эй! – кричит, между прочим, староста, настигая другого случайно встретившегося слепинца: – подати несите! Скажи своим, чтобы беспременно… бумага – боже мой!
– Ладно!
– Чего ладно! Сейчас давай, сколько есть!
– Да нетути сейчас-то.
– Когда ж будут? – все нетути да нетути. Когда ж будут-то?
– Авось…
– Авось! А мне за вас в темной сидеть?.. Чтоб беспременно несли – вот что!
– Принесем….
– Да, беспременно несите! Много вам прощали – ноне «поступать» станут.
Слово «поступать», очевидно, очень значительно и для старосты и для мужика.
– Что ты! – говорит он испуганно: – господь с тобой, авось поплатимся…
– Ну то-то! Помнить это надо!
Говоря такие страшные слова и суля такие угрозы, сельский староста, как мужик доподлинно знающий невозможность в данную минуту напирать на крестьян «всурьез», потому что из этого ничего не выйдет, кипятится и свирепствует без всякого серьезу, просто исполняя предписание. Ввиду такой внутренней непрочности идеи о необходимости взносов, непрочности, живущей даже в самом сельском начальстве, главнейшем добывателе наших сотен миллионов, необходимо вести осаду с непоколебимою настойчивостью; необходимо день и ночь долбить циркулярами и телеграммами исправников; необходимо тормошить становых, необходимо не давать опомниться ни старшинам, ни старостам, чтобы все это полчище финансистов постоянно стояло на ногах и чтобы оно, внутренно сознающее непреоборимую трудность предстоящей финансовой операции, выкинуло бы, под влиянием бомбардировки, всякие мысли об этой трудности и сосредоточилось бы только на требовании. И вот почему, едва смолот первый сноп, – крик «подати! подати!» начинает гудеть над деревней неумолкаемо.
– Подати несите! Несите подати! – как-то угрожающе (хотя и кротко) советует старшина, появляясь на деревенской улице, появляясь как бы случайно, по пути в лавку, но в сущности именно только за тем, чтобы укрепить в населении главную идею времени. Все мимоедущие и мимоидущие власти, которые в течение лета куда-то запропастились, а если и показывались на деревенских аванпостах, то с совершенно мирными намерениями, как, например, с вопросами о том, что «много ли, мол, нынче ягод? много ли будет осенью свадеб?» и «не скучно ли, мол, тебе, Авдотья, одной, без мужа-то?» – все это кроткое, любезное и милое сословие явилось теперь в совершенно ином виде. Никто из них не пройдет, не проедет, чтобы не остановиться или не остановить своих лошадей перед первым встречным мужиком и не сказать ему торопливо и решительно:
– Скажи старосте, чтобы непременно подати… Слышишь?
– Слушаю-с!
– Непременно! Слышишь ли? Неп-ре-мен-но!..
– Слушаю-с!
– То-то слушаю-с! Непре-ммменно!
Или:
– Ты староста?
– Я-с!
– Как подати?
– Помаленечку идут…
– Как помаленечку?.. Что такое «помаленечку»?
– Мы с нашим с полным… кабы ежели бы…
– Что такое – «кабы ежели»? Какие такие «ежели»? Никаких «ежели» тут нет и быть не может. Слышишь?
– Слушаю-с!
Благодаря такой тактике недели через две-три непрерывной осады слепинские мужики окончательно забывают всевозможные летние фантазии и перестают понимать в себе и вне себя что-либо другое, кроме необходимости платить подати.
Вот «Общее обозрение» существеннейших признаков первых осенних дней в деревне.
4
Осаждающие, как я уж упомянул, несмотря на точность, аккуратность и немедленность исполнения предписаний, не только «серьезно» не питают лично к осажденным враждебных чувств, но, напротив, если дело дойдет до разговора о предстоящей кампании, не замедлят высказать вам прежде всего о неуспешности предпринятой ими осады, даже почти о полной ее бесполезности. Всякий палит исправно, настойчиво, неумолимо, но знает, что толку будет мало и что «ежели бы не семейство» или что-нибудь в этом роде, что заставляет человека палить из-за молочишка, так бы отряс прах от ног и ушел бы куда-нибудь к другому, более мирному делу.
– Да неужели вы полагаете, что на мне нет креста? – восклицает где-нибудь в интимном кругу и в минуту откровенности кто-нибудь из числа лиц, ежедневно рассылающих по всем концам уезда «строжайшие предписания» о взыскании «без послабления и снисхождения». – Неужели вы полагаете, что у меня вместо головы ведерная бутыль или кирпич? Вот не угодно ли, прошу вас покорно, прежде чем осуждать…
И вслед за тем из бокового кармана военного сюртука торопливо вытаскивается целая кипа бумаг.
– Вот-с! Сделайте одолжение.
Длинная бумага есть объяснительная записка в ответ на строжайший выговор, полученный уездным понукателем от понукателей губернских. В записке говорится, что если не собрано за первую треть 16 744 руб. с копейками, то это происходило не от личной бездеятельности понукателя или нерадения, а от других причин, которые он и считает долгом изложить перед начальством, дабы оказаться чистым со стороны подозрений в нерадении. В доказательство своего рвения он приводит примеры необыкновенных, поистине героических подвигов: он переплывал на утлой ладье реки, бывшие еще в полном разливе, застревал в зажорах, сажал в темную сельских старост и т. д. Но при всей своей неустрашимости, при всей своей готовности не мог ничего сделать с непреоборимыми фактами действительности: с бесхлебьем людей, бескормицею скотов, «из которых, например, овцы совершенно облезли, а коровы до того отощали, что на бывшей ярмарке он собственными глазами видел таких, которые не могли стоять на задних ногах, а сидели, словно зайцы, на собственном своем хвосте». И не случайность какую-либо, вроде неурожая, или падежа скота, или эпидемии, винит он в существовании этих неодолимых для успешности взимания обстоятельств, хотя и эти случайности без внимания не оставляет, но видит «причину в корне, а именно»… Далее, конечно, идет то, что известно всем и каждому: разделы, баловство, пьянство. Дойдя до этих слов, вы готовы возвратить рукопись автору; но автор останавливает вас, говоря:
– Читайте, читайте дальше!.. Там есть, есть настоящее!.. Это ведь только для отводу… Там дальше я ввернул втихомолку… Не беспокойтесь, будьте покойны, извольте читать!
И действительно, в пышном букете тщательно собранных народных пороков замечается тщательно спрятанный репейник: идет речь о наделе, о доходности его и о соразмерности…
– Всё знаем-с! Уж говорено! Писано-переписано… И что ж за все это? – кроме выговоров да распеканий ничего не видишь и не слышишь… В нынешнем году я получил уж пять выговоров простых да с полдюжины строжайших: – так тут перестанешь рассуждать… Нет, батюшка, кабы не семейство…
И такие речи слышатся по всей длинной лестнице понукателей, от высших до низших. Везде понимание и гуманизм, всегда, впрочем, довольно счастливо завершающийся на деле непреклонностью. Низший понукатель деревни, сельский староста, так тот даже разъясняет вам самые мельчайшие причины неуспеха осады. Не дальше как сегодня, то есть в тот самый день, когда мне пришло в голову завести дневник, я зазвал к себе с улицы нашего сельского понукателя и, коснувшись в разговоре вопроса дня, слышал от него самые рациональные и обстоятельные суждения.
– Много ли набрали, Михайл Петрович? – спросил я его.
Михайл Петрович засмеялся и махнул рукой.
– И не поминайте!.. За два-то дня – четыре с чем-то рубля со всех семидесяти домов… Один только мужик дал рубль, и то спасибо, что я его настиг на мосту – с работы шел: плотник он, с расчетом, – а то всё гривенник, двугривенный, полтинник… Вот тут вам и собирай! Покуда выберешь с них двадцать-то пять рублей…