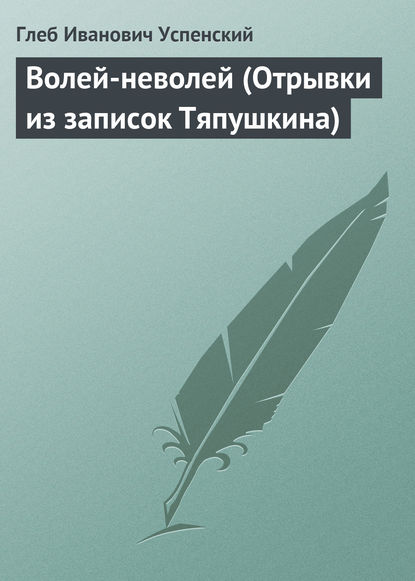По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Волей-неволей (Отрывки из записок Тяпушкина)
Автор
Год написания книги
1884
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Что вы сидите как истукан? Весь мокрый и ничего не ест…
Тогда я увидал булки и тотчас стал есть. Я ел булки и прежде, и вчера, и сегодня, и каждый день; но все мне как-то казалось, что это тоже только так «пока», что это в сущности «все не то» и тоже принадлежит к числу явлений, которые надо забросить через плечо. Казалось, что все это: чиновники, остроги, сумасшедшие дома, шпицрутены, помещичьи усадьбы, крестьянские лачуги, учителя, булки, в особенности сдобные, пироги, блины и т. д., и. т. д., что все это кануло в вечность, что это достояние прошлого, что это только «доживает» свой век. Я ел у бабки ее стряпню, ел довольно много, но думал: «как эта старуха глупа, что бьется целый день чорт знает из-за чего, ворочает какие-то горшки, крестится и охает… Все это вздор и чепуха». Но когда к булкам призвала меня насмешливая девушка, я изумился: булки были превосходные, горячие, только что из печи… а между тем 19 февраля… как же так? стало быть, не все кануло в вечность… Я ел, чувствуя, до какой степени я необыкновенный урод в глазах этой девушки, ел и думал об освобождении крестьян, ел и думал – «точно, булки необыкновенно вкусны», а между тем «все уж не то!» Никогда в жизни не чувствовал я себя до такой степени нелепым и достойным полного посмеяния…
И вдруг я испугался. Я увидел себя в один прекрасный день совершенно одиноким! Все, что я вижу и слышу, – все это мне чужое, непонятное или если и понятное, то возмущающее, оскорбляющее, возбуждающее желание «вырваться» отсюда и вовсе не укрепляющее решимости самопожертвования. Я почувствовал, что я просто дармоед: ничего не делаю, ем чужой хлеб, все ненавижу и в то же время толкую о самопожертвовании, думаю, что я обречен на великое дело мученичества. Мученик ест у старухи последнюю корку, да еще на нее сердится за то, что она говорит глупости… «Ноньче у нас по осени ведьму убили!» – «О, идиоты!» – думает, мученик, вторую неделю ничего не делая и терзаясь мыслью о том, как бы унести ноги от «них», от «этих самых», для которых он готов отдать жизнь.
Я до того испугался своего положения и своего нравственного состояния, что в первую минуту, когда оно обрисовалось мне ясно и резко, я как-то вдруг отупел, остолбенел в непонимании себя и окружающего. Я не пил, не ел, глядел и ничего не видал: я по целым часам сидел на крыльце хибарки, бессмысленно и тяжело смотря на хлопья последнего весеннего снега, и чувствовал одно – все наполнено вокруг меня, но там, где я, – совершенно пусто. Постучать палкой там, где я сижу, – непременно загудит так же, как если постучать или крикнуть внутрь пустой бочки. Дни шли за днями, падал и таял снег, и я падал, и таял, и думал о смерти, как об избавлении. Не знаю, каким образом в этаком-то остолбенелом состоянии попал я в господский дом.
Не могу припомнить буквально ни одной подробности, которая бы могла выяснить причину или по крайней мере предлог для этого знакомства. Вероятно, дело не обошлось без участия моей бабушки, хотя наверное решительно не могу утверждать этого; знаю только одно, что очнулся я от моего столбняка, и очнулся на мгновение за старинным круглым столом, на котором стоял старинный, измятый самовар, сливки, и булки, и варенье. Очнулся в какой-то куртке, в грязных сапогах, и, главное, очнулся от вопроса:
– Вы что же ничего не едите? Какие булки вкусные! И ел! Ел, думая: «когда же, наконец, это кончится?» И, не дождавшись конца, вдруг положил булку на стол, встал со стула и пошел…
– Куда вы? Чего вы не сидите? Куда вы в этакую грязь… Идите ночевать наверх; весь дом пустой… никого нет…
– Хорошо!
И я пошел наверх, спотыкаясь и толкая то ту, то другую дверь. Едва слышный смех, но смех бездонной насмешки послышался вслед за мной. «Это непременно она издевается!» – подумал я, почему-то устремляясь наверх; на повороте лестницы я споткнулся и сказал себе:
– Осел!
Потом упал и сказал себе:
– Подлец!
Потом вспомнил, как она сидит, опершись локтями на стол, как смотрит, какие у нее волосы и какие глаза.
Здоровая молодая босая баба, появившись со свечкой, выручила меня из беды. Я нашел дверь, вошел в комнату и увидел бабу. Баба смотрела на меня в недоумении, и я недоумевал.
– Ну ложись! – сказала баба. – Хучь здесь, хучь там…
– Сейчас, – ответил я и стал раздеваться.
– Дай уйти-то! – остановила меня баба.
– Хорошо, – сказал я и подумал: «Идиот, осел и черт!»
И остался один с вопросом: что все это означает? Что это такое? А ответом на эти вопросы были те же локти, упертые о край стола, те же глаза, те же булки. Долго-долго я не мог заснуть: все это путалось у меня в голове, кружилось, и насмешка, насмешка бездонная, ела меня.
Но сдобные, горячие булки «сейчас из печи», не знаю почему-то, в особенности сильно опечалили меня, вспомнившись среди ночи. Ведь все это кончилось, а тут сейчас из печи эти сдобные призраки канувшего в вечность, Быстро и тяжко промелькнуло по сердцу, вслед за воспоминанием о булках, все это прошлое, погребенное мною, промелькнуло, испугало, защемило в самой глубине сердца и вызвало страстное желание уйти, уйти поскорее отсюда, из этого дома, где все веет прошлым, отжившим, все тянет назад…
2
Прошлое, канувшее в вечность, на воспоминание о котором наводил старый барский дом, казалось действительно канувшим, и не для одного только меня. Все, кто жил в нем, чувствовали, что песня этого дома спета, что если еще и живут в нем люди, то это только так, «пока», между концом и неизвестным началом. Жила в нем теперь старая сестра умершего бездетным владельца, долгое время – чуть не всю жизнь – промаявшаяся на чужих хлебах и в домах богатой московской знати девица, в которой институтская наивность неприятно дополнялась знанием неприглядных будуарных тайн времен крепостного права. Этими тайнами с наивностью институтки она по временам делилась с своей сожительницей, молодой белокурой девушкой (насмешницей), которая была дочь брата покойного владельца, офицера, убитого в севастопольскую войну. Мать ее умерла также незадолго перед кончиною отца; и вот эти две случайные наследницы жили в большом, разваливающемся доме, не зная, что будет завтра и с ними и с этим домом, и зная притом совершенно несомненно, что старое безвозвратно ушло. И они были чужие этому дому, и дом был чужой для них. Не будь вокруг и около этого дома старых крепостных людей, для которых была невозможна даже мысль о том, что они свободны и должны считать себя вступившими в «новую эру», я, право, не знаю, была ли бы какая-нибудь возможность для обитательниц этого старого дома просто-напросто быть сытыми. Но оставались какие-то Михеичи, Авдотьи, старухи Пахомовны, оставались на тех же местах, где были и жили всю жизнь, и руки их продолжали делать то же, что делали прежде. Иные из них были дряхлы и стары, другие хоть и молоды, но не знали еще, как быть и куда деваться, И вот несет Пахомыч дров, Авдотья тащит самовар, древнейший кучер моет на дворе древнейший экипаж. Кто-то платит аренду, еще заключенную при покойнике, кто-то нет-нет да привезет сотню-другую за купленный лес. Из какого-то казначейства что-то тоже по временам высылают, причем иногда племянница и тетка с трудом разбирали: «кому это, мне или тебе?» Кое-как, благодаря тем же живым остаткам прошлого, создавшим кое-какой жизненный обиход помощью печения хлебов, пирогов, собирания и варения грибов и ягод, создавались и кой-какие обличия «господской» жизни. Тот же Пахомыч придет и скажет, что завтрашнего числа хорошо бы господам проехать в село Всесвятское, ибо там храмовой праздник; что не худо принять и угостить господина исправника, который сидит теперича у попа, что в такой-то день надо бы отслужить панихиду по покойникам, а в такой-то поставить на господском дворе качели и купить девкам пряников – так, мол, исстари заведено. Не будь этих Пахомычей и Аксиний – и люди, населявшие дом, и самый дом могли бы производить на посетителя впечатление только запустения, а при их попечении все-таки в этом доме журчала какая-то тощая струйка жизни. Иногда Пахомыч придет и «пожалуется» на Авдотью и даст таким образом возможность обитателям почувствовать, что они господа, что они хоть Авдотье могут дать нравоучение. Но вообще струйка жизни журчала здесь тихо-тихо… «Старая это жизнь, – думали все, – и ничего из нее уж не может выйти; это – срубленное дерево, на котором еще не совсем завяли листья». Старое и срубленное – это впечатление веяло отовсюду: из пустых конюшен, от гнилой крыши, от огромного пустого двора, от падавшей с потолка штукатурки, от этих старых портретов. Баба с грязными ногами и с кошелкой яиц, желая продать эти яйца господам, свободно шла с черного хода из одной комнаты в другую, из залы в гостиную, шла словно по улице, зная, что эта улица ничья. И все чувствовали, что действительно ничья. Молодой крестьянский парень, Пахомыча племяш, толкавшийся по дому и около дома «пока» без дела, пойдет на чердак, пороется, вытащит какие-то сапоги с ботфортами, наденет и придет к старой барыне: «Глянь-кось, ладно ли?» – «Чьи это?» – «Да там, на чердаке, валяются. Не знаю чьи». – «Ничего, хорошо!» – «Так я носить стану?» – «Носи, пожалуйста». Да и в самом деле, чьи эти сапоги теперь? Да и все в доме тоже неизвестно чье. И жил здесь народ, за исключением стариков, только так, пока. Хозяйки мечтали поехать и в город, и в Москву, и в Петербург, но так как определенно им не было известно, зачем собственно ехать, то и не ехали, да и денег что-то «не высылают», хотя должны же выслать когда-нибудь. Гуляли, разговаривали о старых московских сплетнях, о том, что Мишка отыскал на чердаке сапоги, о том, что нужно отслужить панихиду; опять гуляли, ели, скучали, раскладывали карты, говорили, что надо ехать в Москву, или, нет, в Петербург, или в город, потом шли смотреть теленка, которого бог послал, потом говорили о теленке, потом о попе, так как об нем зашел разговор благодаря какой-то бабе, потом о бабе, о ее муже. Так шли дни за днями «пока», то есть пока все это в самом деле кончится. И в самом деле, разве все это не должно кончиться? Разве можно что-нибудь оставить из всего этого? Здесь все было когда-то понятно и объяснимо, от этого кресла, от этого уродского портрета: до кнута, который висит теперь в бездействии на конюшне… Теперь, начиная с кнута, все здесь необъяснимо, все погребено, все напоминает молчание могилы. И вдруг вот из этой-то могилы появляются горячие, сдобные булки. «Сейчас из печи!» Если бы сам домовладелец, о котором у меня с детства остались тягостнейшие воспоминаний, встал из гроба и явился передо мною ночью, я бы не испугался его так, как напугался всей вереницы впечатлений, связанных с булками. «Уйти, уйти отсюда, – думал я, чувствуя настоятельность сделать это сейчас же, – уйти из дому, из деревни – «туда!», все тут обречено; страшно, гнило, ненужно, мертво»… Думая «уйти», я, однако, ни разу не подумал о том, как могло случиться, что я очутился в чужом, незнакомом доме, сплю на чужом диване, и сплю на нем почти без всякого приглашения? Так была прочна, непоколебима уверенность, что «все это кончилось», что в доме этом все «ничье», да и дом вместе с людьми «ничей». Он так же принадлежит им, как и мне, как и Пахомычу, как и бабе, которая принесла яйца и ходит по всему дому как по площади, А вот булки встревожили меня. Стало быть, тут что-то живет еще. И мне стало страшно и противно, и мысль «уйти» уж не давала мне заснуть вновь.
Я ушел, едва стало светло, едва где-то в доме хлопнула дверь, а со двора донеслись звуки раскалываемых дров. «Проснулись», – подумал я, и потихоньку ушел.
В тяжкой, безысходной тоске о своем положении провел я целый день в лачуге моей бабки, не зная, что делать, куда идти. Я чувствовал однако, что надо идти «сейчас», и к вечеру почти уж окончательно решил идти пешком в Москву, не зная, что еще я там буду делать и к кому обращусь. Но идти все-таки надо непременно, неотложно, и завтра непременно. Так я порешил и так сказал бабке. Оба мы, горемычные, сидели с ней вечером на крыльце и думали. Она охала, жалела меня, а я сидел, молчал и смотрел в сторону, терзаясь кручиною моей бабки: «Боже мой! – думал я, – как она добра, как у ней привыкло страдать сердце, сколько в ней сейчас, сию минуту, печали обо мне, сколько она уж пролила слез о моей участи… Но когда же она замолчит? Хоть бы она ожесточилась на меня, мне бы было в тысячу раз легче».
Мне было до того тяжело, что я положительно как ребенок обрадовался, увидав, что к нашему крыльцу подошли обитатели старого господского дома… И старая дева и дева юная вдруг появились из-за угла. Бабка засуетилась, впала мгновенно в рабское состояние, приглашая войти, но гости не вошли. Старая дева только поклонилась бабке, поклоном «путешествующей принцессы», а юная только посмотрела на мою старуху, посмотрела своими серыми бесцеремонными глазами и ела подсолнухи…
– Ну, вы! – сказала она мне, выплюнув шелуху и опуская руку в карман, очевидно за новой горстью деревенского лакомства, – извольте одеваться… Пойдемте!
– Я…
– Нечего! Я на босу ногу… Мне нельзя на сырости… – И она показала ногу, без чулка в туфле.
– Надевайте шапку, и марш!
И я надел шапку и пошел. И опять ночевал в чужом доме.
Утром я проспал; но проснувшись, тотчас оделся и хотел идти. Однако почему-то сел на тот же диван, на котором спал, и тяжело задумался. День был великолепный, и как бы пропорционально этому великолепию увеличивалась и моя тоска, тоска одиночества моего на белом свете, тоска пребывания в этой могиле старого прошлого, томящая жажда света и дела.
– Вы продрали, что ли, глаза-то? – послышалось за дверью.
И, не дождавшись ответа, появилась юная хозяйка с тем же взглядом, в том же свободно надетом ситцевом платье.
– Наденьте вот, – сказала она голосом опытных женщин, – эту рубашку… Я взяла у Васьки новую.
И какой-то комок, пролетев от двери близко около потолка, ударился мне в грудь. Это была кумачная рубашка.
– А то на вас противно смотреть.
Я нагнулся было, чтоб подхватить рубашку, соскользнувшую на пол, и в это время почувствовал новый удар чем-то мягким в голову.
– У вас, кажется, и чулок нет, пальцы вылезают. Вот вам Аксиньины.
В недоумении поднял я голову – и увидел дьявольски издевающееся лицо. Но это лицо я видел одну секунду, оно сейчас же сделалось опять просто бесцеремонным.
– И одеваться! Живо! у меня есть к вам серьезное дело.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Здесь в записках Тяпушкина следует большой перерыв; в тетради, из которой я их заимствую, после вышеприведенной сцены следует множество страниц с обозначением глав, названием их, началом в несколько строк, за которыми почти тотчас же следует перерыв: рисунок какой-нибудь рожи, какая-нибудь фраза, вроде: «Нет, вот Тургенев небойсь (?) – об этом не пишет!» Или: «Неужели это только золаизм и натурализм? Нет, это дело и горе общественное!» и т. д. Сколько можно понять из того, что удалось разобрать в этих отрывочных строчках, можно заключить, что Тяпушкин пробыл в старом доме всю весну, лето, и только в глубокую осень весь старый дом – то есть старая дева, юная дева и Тяпушкин – каким-то родом очутились в Петербурге. Наконец идет глава, написанная вся целиком, от первой строки до последней. Эту главу я и помещаю, придерживаясь моей нумерации, хотя в записках Тяпушкина она носит какую-то огромную римскую цифру.)
3
Есть у меня один приятель-фельдшер, человек весьма любопытный обилием философских теорий, роящихся у него в голове. Начнет что-нибудь рассказывать, (а рассказывать он любит, и преимущественно о женщинах и своих наблюдениях над ними) – и, не досказав до конца, ударится в философию. Необходимо остановить его и спросить, «чем же кончилось?» – иначе повествовательный интерес наблюдения или рассказа так и канет в бездну обобщений. Рассказывал он мне как-то недавно одну из таких любимых своих историй и, не досказав, принялся по обыкновению мудрствовать, а я также по обыкновению должен был прервать его и спросить:
– Но чем же кончилось?
Тогда философ остановился, несколько презрительно посмотрел на меня и сказал: – Какое же может быть в этом (?) – сомнение?
И опять, презрительно пожав плечами, прибавил:
– Мальчик и девочка! Одному восемь, другой пять… Кажется, это не требует никаких обобщений.
Вот и мне приходится тоже сказать о своей «истории».
Осенняя петербургская ночь, глухая, поздняя, темная. Все спит в нашей квартире, и в маленькой колыбели спит маленький ребенок, а я сижу неподалеку от него и думаю те самые черные думы, о которых я сказал в самом начале «первой главы, первой части»… Но для успокоения читателей скажу, что источник моих черных дум вовсе не черный; не ненависть и злоба, а, напротив, нечто совершенно на них не похожее, именно, необычайная любовь к этому маленькому существу, необычайная чувствительность к малейшим проявлениям жизни, обнаруживаемым этим существом. И вот эта-то необычайная чувствительность, обнаружившаяся во мне при появлении ребенка, и есть то главное, на что я хотел бы обратить внимание читателя, рассказывая возмутительный эпизод в моей жизни.