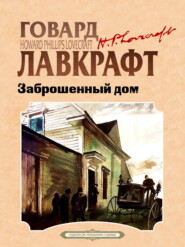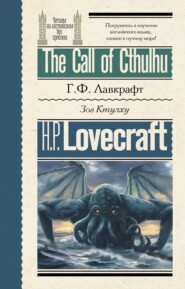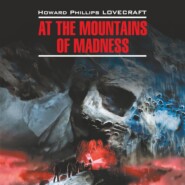По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Зов Ктулху
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Говард Филлипс Лавкрафт
«Человеческий разум не способен разобраться в своей сущности, и, полагаю, мы должны благодарить природу за ее милосердие. Мы живем на блаженном острове невежества среди черных морей бесконечности, которые нам едва ли суждено переплыть. Науки устремились каждая в своем направлении и не принесли нам особого вреда. Но когда-нибудь, систематизируя обрывки знаний, мы обнаружим чудовищные сферы действительности и поймем, сколь ничтожно в них наше место. От этого мы либо сойдем с ума, либо поспешим скрыться от мертвенного света познания и отыщем спасение в безопасном мирке нового Средневековья…»
Говард Филлипс Лавкрафт
Зов Ктулху
…Возможно, эти могучие силы, или сущности, предвещают возрождение давно минувшей эры, когда жизни были свойственны очертания и формы, возникшие задолго до явления человечества… Память об этих формах сохранилась лишь в поэзии и легендах, где они превратились в богов, чудовищ и героев различных мифов.
Алджернон Блэквуд
I. Ужас, запечатлевшийся в глине
Человеческий разум не способен разобраться в своей сущности, и, полагаю, мы должны благодарить природу за ее милосердие. Мы живем на блаженном острове невежества среди черных морей бесконечности, которые нам едва ли суждено переплыть. Науки устремились каждая в своем направлении и не принесли нам особого вреда. Но когда-нибудь, систематизируя обрывки знаний, мы обнаружим чудовищные сферы действительности и поймем, сколь ничтожно в них наше место. От этого мы либо сойдем с ума, либо поспешим скрыться от мертвенного света познания и отыщем спасение в безопасном мирке нового Средневековья.
Теософы догадывались о пугающих масштабах космического цикла, в которых наша земля и человечество всего лишь временные и случайные величины. В их учении глухо упоминалось о грядущих воскрешениях, и от этих туманных двусмысленных определений перехватывало дыхание и застывала кровь в жилах, да теософы и не пытались казаться оптимистами. Но единственный намек на скрытую в глубинах времени эпоху поступил не от них. Я подумал об этом послании, и меня пробрала дрожь, а попытавшись вообразить, что за ним стоит, чуть не лишился рассудка. Подобно всем отблескам истины, он дал о себе знать, когда разнородные явления внезапно оказались связанными воедино. В данном случае искра сверкнула от заметки в старой газете и записок недавно умершего профессора. Надеюсь, что никому больше не придет в голову их соединять, и могу поклясться, что до конца своих дней не добавлю нового звена в столь жуткую цепь. Мне кажется, профессор тоже решил сохранить в тайне все, что ему довелось узнать, и уничтожил бы свои записки, но скоропостижная кончина разрушила его планы.
Однако начну по порядку. Я услышал об этом зимой 1926/27 года, после смерти моего двоюродного дяди, профессора в отставке Джорджа Грэммела Энджелла. Прежде он преподавал языки семитской группы в университете Браун в Провиденсе, на Род-Айленде. Профессор Энджелл считался блестящим знатоком древних надписей, и директора крупнейших музеев часто приглашали его для консультаций. Естественно, что его смерть в возрасте девяноста двух лет не прошла незамеченной, а ее странные обстоятельства привлекли к ней особое внимание. На профессора напали, когда он возвращался на лодке из Ньюпорта. По словам очевидца, он упал, столкнувшись с негром, похожим с виду на моряка. Тот внезапно появился из какого-то темного двора за крутым склоном холма, протянувшегося от берега к особняку профессора на Уильям-стрит. Врачи не смогли обнаружить следов какой-либо болезни и после долгих споров сошлись на том, что спуск с холма тяжело дался столь глубокому старику и у него усилилась сердечная недостаточность. Тогда их вердикт не вызвал у меня возражений, но позднее я усомнился в нем, а быть может, испытал и более тревожное чувство.
Как наследник и душеприказчик моего двоюродного дяди – он умер бездетным вдовцом, – я мечтал заняться разборкой его архива и перевез в мой бостонский дом множество папок и картотек. Впоследствии американское Археологическое общество опубликовало целый ряд проверенных и отредактированных мной материалов, но один ящик с документами показался мне захватывающе интересным, и я решил его никому не показывать. Он был заперт, и я долго не мог найти ключ, пока не додумался осмотреть карманы его костюма. Там я и отыскал кольцо с ключом. На сей раз мне повезло больше: я думал отпереть ящик, но столкнулся с куда более сложной и неразрешимой проблемой. Мне было неясно, почему там хранится глиняный барельеф, а рядом с ним лежат листы бумаги с краткими бессвязными выписками и вырезки из газет. Зачем он собрал и спрятал эти страшные свидетельства? Неужели на склоне лет мой дядя стал по-детски наивен и дал себя одурачить? Подумав, я заключил, что всему виной эксцентричный скульптор, нарушивший душевный покой старика.
По форме барельеф представлял собой грубо высеченный прямоугольник не более дюйма в объеме и около пяти или шести дюймов в длину.
Очевидно, он был создан совсем недавно, хотя его стиль свидетельствовал скорее об архаике. В подобной примитивно-гротескной манере работали многие кубисты и футуристы, однако им упорно не давалась загадочная симметрия, характерная для искусства Древнего мира. А барельеф изумлял именно своей симметрией. Я уже подробно ознакомился с документами и коллекцией дяди, но не смог припомнить изображений такого рода, и скульптура не вызвала у меня даже отдаленных ассоциаций.
Среди непонятных надписей отчетливо выделялась фигура в импрессионистском стиле. Я так и не понял, что она означает. Похоже, это было какое-то чудовище, и придумать его могло лишь больное воображение. У меня достаточно богатая и вольная фантазия, и если я скажу, что фигура походила одновременно на осьминога, дракона и карикатурного человека, то не погрешу против истины. Чешуйчатое тело с крыльями венчала голова, усеянная щупальцами. Изображение внушало ужас, и я чуть было не оцепенел. Позади чудовища высилась циклопическая глыба.
Пространное описание этого барельефа лежало отдельно от газетных вырезок. Судя по всему, профессор Энджелл завершил свое исследование незадолго до смерти и не успел отредактировать далекий от совершенства стиль. Большая глава, которой он явно придавал особое значение, называлась «Культ Ктулху», но в аккуратно отпечатанном тексте это неудобопроизносимое имя почти не фигурировало. Глава состояла из двух частей – первая была озаглавлена «1925. Сны и творческие прозрения Г. Э. Уилкокса, проживающего по адресу: Томас-стрит, 7, в Провиденсе на Род-Айленде», а вторая – «Сообщение инспектора Джона Р. Леграсса из Бьенвилля, 121, в Новом Орлеане на конференции американского Археологического общества в 1908 г. и доклад профессора Уэбба на ту же тему». Далее в кратких заметках цитировались теософские книги и журналы (например, «Атлантида, или Потерянная Лемурия» В. Скотт-Эллиота), пересказывались странные сны разных людей или говорилось о существовании тайных обществ, переживших века, об их символике, культах и ритуалах. Профессор постоянно ссылался на «Золотую ветвь» Фрэзера и «Магические обряды в Западной Европе» мисс Мари, то есть на фундаментальные труды по мифологии и антропологии. А в подборке газетных статей прослеживались вспышки душевных заболеваний и проявлений массового психоза или маний весной 1925 года.
В первой части рукописи излагалась загадочная история. Первого марта 1925 года взволнованный молодой человек принес профессору только что законченный и еще не успевший засохнуть глиняный барельеф. Он подал визитную карточку и представился. Его звали Генри Энтони Уилкокс, и мой дядя вспомнил его родителей, с которыми был знаком, хотя и не слишком близко. Уилкокс с увлечением занимался ваянием в Школе изобразительных искусств на Род-Айленде и жил один в особняке Флер-де-Лис неподалеку от нее. Одаренный, но в высшей степени эксцентричный, он с детства возбуждал любопытство окружающих, рассказывая причудливые истории и странные сны. Уилкокс называл себя сверхчувствительным, но горожане считали его попросту ненормальным. Он избегал общества, понемногу замыкался в себе и в последнее время был известен лишь группе эстетов из других городов. В художественном клубе Провиденса, озабоченном своей репутацией, полагали, что он совершенно безнадежен.
Скульптор попросил хозяина дома расшифровать надписи на барельефе. Он говорил как в полусне, но при этом напыщенно и с вызовом, что никак не располагало к нему собеседника. Дядя ответил ему достаточно резко и дал понять, что новая скульптура не имеет ни малейшего отношения к археологии. Уилкокс принялся ему возражать и так удивил профессора вдохновенным поэтическим монологом, что тот запомнил его наизусть и позднее записал. Могу подтвердить, скульптор привык говорить ярко и образно. Он ответил: «Да, это новая работа. Прошлой ночью я видел во сне странные города, а видения древнее Тира, мудрого сфинкса или утопающего Вавилона».
Тогда-то Уилкокс и начал свой сумбурный рассказ. Дядя оживился, многое вспомнил и слушал его с жадным интересом. Прошлой ночью произошло слабое землетрясение, однако в Новой Англии такого не было уже несколько лет, и воображение скульптора заработало с удвоенной силой. Он прилег отдохнуть и увидел во сне циклопические города с гигантскими зданиями и устремленными ввысь монолитами. Все они были покрыты тиной и внушали страх. Стены и колонны украшали надписи, а откуда-то снизу доносился голос, не похожий на человеческий. Преобразить эту какофонию в звуки могло лишь пылкое воображение, но Уилкокс прислушался и разобрал дикие слова: «Ктулху фтагн».
Нагромождение согласных дало ключ к разгадке тайны, давно тревожившей профессора Энджелла. Он подробно расспросил Уилкокса, а потом стал разглядывать барельеф, над которым тот трудился ночью. По словам скульптора, он дрожал от холода в легкой ночной рубашке, но ему была дорога каждая минута, и он не желал сдаваться на милость обстоятельств. Иными словами, Уилкокс не стал одеваться. Дядя не сразу распознал надписи и долго проклинал себя за старческую немощь. Многие его вопросы показались гостю совершенно неуместными. Уилкокс не понял, почему профессор так настойчиво связывал чудовищную фигурку с древними культами, и просил никому не говорить о своем видении. Дядя даже обещал помочь ему вступить в какую-нибудь влиятельную мистическую секту, лишь бы тайное не сделалось явным. Наконец профессор убедился в полном невежестве Уилкокса, ровным счетом ничего не знавшего о культах и системе тайных доктрин. Скульптор оказался в его полной власти и должен был сообщать о своих снах. Это был плодотворный контакт, и рукопись дяди пополнялась с каждым днем. Уилкоксу снилось одно и то же: циклопические ряды темных и скользких каменных глыб и голос, монотонно выкрикивавший загадочную тарабарщину, чаще всего «Ктулху» и «Р’лайх».
Двадцать третьего марта скульптор внезапно исчез. Выяснилось, что его свалил с ног приступ лихорадки и родители перевезли его к себе на Уотермен-стрит. До этого он кричал всю ночь напролет, разбудил других художников, живших в том же большом особняке, и затих, лишь потеряв сознание. Дядя тут же позвонил Уилкоксам и с тех пор не выпускал из-под контроля ход событий. Он регулярно бывал у лечащего врача скульптора доктора Тоби. Очевидно, возбудимая психика Уилкокса повлияла на развитие болезни, и, вспоминая о нем, врач то и дело вздрагивал. Скульптор не только описывал свои прежние сны, но и говорил о гигантской глыбе высотой во множество миль, которая то ли двигалась, то ли преграждала путь. Он не рассказывал о ней подробно, но по отдельным замечаниям (доктор Тоби процитировал их) профессор догадался, что глыба полностью совпадает с безымянным чудищем на барельефе. Врач объяснил, что эти упоминания – верный признак наступления летаргии. Как ни странно, температура у него почти не поднималась, но, судя по общему состоянию, Уилкокса мучила лихорадка, а не душевное расстройство.
Второго апреля в три часа дня он неожиданно пришел в себя. Выздоровление было столь же непредсказуемым, как и болезнь. Скульптор уселся на кровати, огляделся по сторонам и с изумлением осознал, что находится в доме родителей. Он ничего не помнил о случившемся во сне и наяву после 22 марта. Врач подтвердил, что теперь Уилкокс практически здоров, и через три дня он вернулся к себе. Но ему перестали сниться странные сны, и необходимость в советах профессора Энджелла отпала сама собой. Дядя еще неделю пытался разобраться в причинах перемен, оставил в своей рукописи обрывочные и бессвязные описания ничем не примечательных снов, но позднее ни словом не обмолвился об Уилкоксе. Я прочел первую часть главы, что называется, от корки до корки. Любопытно, что ссылки и примечания невольно заставили меня задуматься о даре провидения и его неразгаданных источниках. Я был готов поверить скульптору, однако мой неискоренимый скептицизм требовал новых доказательств.
В заметках излагались сны разных людей, совпавшие по времени с видениями Уилкокса. Признаюсь, у меня сразу возникло немало вопросов. Похоже, мой дядя быстро сориентировался и опросил едва ли не всех знакомых, которым не боялся показаться навязчивым. Он записал даты, когда сны были особенно яркими. Характерно, что он получил довольно много откликов, во всяком случае больше, чем рассчитывал. Их классификация могла оказаться непосильной для старого человека, работавшего без секретаря. К сожалению, сами письма не сохранились, но по его заметкам я составил полное представление о содержании снов. Обращение к солидным и состоятельным людям – «соли земли» Новой Англии – в общем не дало никаких результатов, хотя в дядиных бумагах все же попадались короткие описания необычных ночных видений. Надо ли говорить, что все они относились к интервалу между 23 марта и 2 апреля, то есть к периоду, когда Уилкокс заболел и начал бредить. Ученые отреагировали не намного активнее – четверо упомянули о непонятных пейзажах, а один увидел во сне какую-то пугающую аномалию.
По существу ответили лишь художники и поэты. Никто из них не подозревал о том, что снилось другим, а иначе они бы потеряли покой. Однако меня по-прежнему мучили сомнения. Возможно, дядя задал им наводящие вопросы или постарался научно обосновать полученные сведения. Смущало и поведение Уилкокса, в котором чувствовалось что-то нарочитое. Я допускал, что он услышал легенду, сопоставил даты и ловко разыграл старого ученого. Впрочем, нельзя было отрицать, что тонкие художественные натуры поведали просто захватывающие истории. С 28 февраля по 2 апреля большинство из них видело фантастические сны, особенно в последнюю неделю, когда скульптор метался в лихорадке. У четверых миражи напоминали рассказы Уилкокса – им снился подземный город с каменными глыбами, и они слышали те же гортанные звуки. Кто-то признался, что испытал ужас, увидев гигантское чудовище. Один случай произвел на меня гнетущее впечатление. Известный архитектор, увлекавшийся теософией и оккультизмом, сошел с ума и начал буйствовать в тот день, когда Уилкокс заболел лихорадкой. Он несколько месяцев бился в судорогах и кричал, умоляя, чтобы его спасли от дьявола. Если бы мой дядя записал имена корреспондентов, я бы продолжил его исследования и отправился к ним, но в теперешнем положении мне удалось отыскать лишь нескольких. К счастью, все они подтвердили его заметки. Я часто спрашивал себя, как подействовали на остальных обращения и просьбы профессора. Полагаю, что чуть ли не все они растерялись и не смогли объяснить свои сны.
В подборке газетных статей речь шла о различных маниях, болезненных страхах и помешательстве. Похоже, что в марте эта эпидемия охватила весь мир. У профессора Энджелла скопилась такая груда статей, что он мог бы открыть бюро. Примеры озадачивали видимой безмотивностью – в Лондоне человек, проснувшийся от страшного сна, с воплем выбросился из окна. В Латинской Америке какой-то фанатик написал письмо редактору газеты. Он поверил в свой сон и решил предупредить читателей о смертельной угрозе, нависшей над человечеством. Теософы из Калифорнии облачились в белые балахоны и заговорили о великом и славном конце света, который, впрочем, никогда не наступит. В заметке из Индии осторожно намекали на массовые волнения в конце марта. На Гаити все чаще устраивались оргии вуду, а корреспонденты из Африки передавали какую-то зловещую невнятицу. Американские офицеры отыскали на Филиппинах несколько племен, которые в это время без всяких причин страшно возбудились. В Нью-Йорке в ночь с 22 на 23 марта группа истеричных левантинцев набросилась на полицейского. На западе Ирландии ожили дикие слухи и легенды, а художник-визионер Арду-Боннот выставил в парижском салоне 1926 года кощунственный фантастический пейзаж. По психиатрическим клиникам разных стран прокатилась волна приступов буйства. Казалось, только чудо могло удержать медиков от анализа странных параллелей и парадоксальных выводов. Но я продолжал сомневаться и, нехотя отложив кипу вырезок, попытался внушить себе, что молодой Уилкокс знал о событиях седой древности.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: