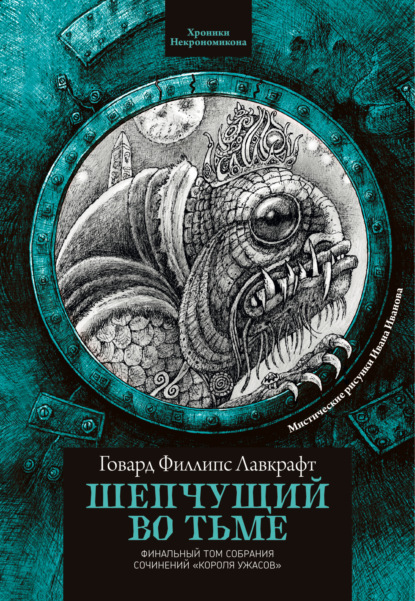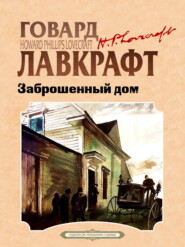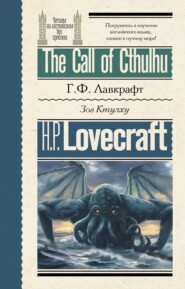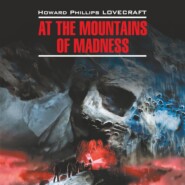По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Шепчущий во тьме
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Никто ни здесь, ни в Аркхеме или Ипсвиче не хочет с ними связываться, да и к ним тоже не подойди, когда они сами появляются тут в городе или когда кто-то из здешних пробует рыбачить в их водах. Странные дела: вблизи иннсмутской бухты всегда ходит рыба – крупная, жирная, а в других местах – ни рыбешки! Так вот: стоит вам забросить там сеть – они на вас сразу налетят со всех сторон и погонят прочь! Раньше они приезжали сюда по железной дороге; потом, когда их ветку закрыли, стали ходить пёхом до Раули и там садились на поезд, а теперь пользуются вот этим автобусным маршрутом.
Да, есть в Иннсмуте гостиница – называется «Гильман-хаус», – но навряд ли тамошние условия будут вам по душе. Не советую туда даже заходить. Лучше переночуйте здесь, завтра утром отправляйтесь в Иннсмут десятичасовым автобусом, а оттуда уедете в Аркхем вечерним автобусом, который отправляется в восемь. Приезжал туда пару лет назад один инспектор фабрик, так он снял номер в «Гильман-хаусе», и, доложу я вам, очень неприятные впечатления у него остались от того места. Похоже, у них там обретается сомнительный сброд, ведь тот инспектор слышал голоса из других номеров, – при том, что большинство номеров пустовало! – от которых у него мурашки по коже бегали. Ему почудилось, что лопочут иностранцы, но, по его словам, больше всего напугал один голос, который время от времени вступал в разговор. Голос этот звучал так ненатурально – как он выразился, был похож на хлюпанье – и так страшно, что он не смог даже раздеться и лечь в кровать. Так и просидел до утра не сомкнув глаз и чуть свет пустился оттуда наутек. А голоса галдели всю ночь!
Этот инспектор, Касей его фамилия, рассказывал, что иннсмутцы следили за ним во все глаза, словно сопровождали его… и вроде как все время были начеку. Захаживал он и на аффинажный завод Марша – говорит, очень странное предприятие в здании сукновальной фабрики у нижних порогов Манускета. Касей повторил все то, что я и без него слыхал. В бухгалтерских книгах у них черт ногу сломит, никаких следов какой бы то ни было деловой активности. Знаете, для нас всегда оставалось загадкой, откуда Марш берет золото, которое он там очищает. Они вроде никогда не занимались скупкой золота, а вот много лет назад их корабль вернулся в порт с большим грузом золотых слитков.
Еще люди говорили о диковинных драгоценностях, которыми моряки и работники аффинажного завода иногда приторговывали из-под полы, – кто-то видел пару раз эти цацки на женщинах из рода Маршей. Народ решил, что, должно быть, старый капитан Овидий Марш выменял эти украшения у туземцев в каком-нибудь заморском порту, потому как он всегда перед плаванием закупал горы стеклянных бус и побрякушек, какие мореплаватели обычно брали с собой для торговли с туземцами. А кто-то считал – и до сих пор считает, – что он нашел-таки пиратский клад на Рифе Дьявола. Но вот что странно. Старый капитан уже шестьдесят лет как умер, и ни один большой корабль не покидал иннсмутский порт со времен Гражданской войны; но тем не менее семья Маршей, как я слыхал, продолжает закупать безделушки. Может, иннсмутским дуралеям просто нравится напяливать их самим и красоваться друг перед другом, хе-хе… Бог их знает… может, они сами уже стали такими же дикарями, как каннибалы Южных морей и гвинейские туземцы?
Та эпидемия сорок шестого года погубила лучших из лучших в их городе. Как ни посмотри, теперь там проживает сомнительный народец. И Марши, и другие богатые семьи – такие же вырожденцы, как и прочие в Иннсмуте. Я же говорю: во всем городе осталось не больше четырехсот жителей, хотя улиц и домов там не счесть сколько. По моему разумению, там осталось одно жалкое отродье, которое в южных штатах называют «белой рванью»: хитрые, подлые, не признающие закон людишки, чья жизнь – сплошная тайна за семью печатями. Они вылавливают солидно рыбы и омаров и вывозят улов грузовиками. Странно, что рыба косяками приходит только в их бухту, а больше никуда. Да никто толком не знает, сколько их там вообще жителей! Когда туда приезжают школьные инспекторы да переписчики населения, они им задают ту еще работку! И точно вам говорю: любопытным приезжим, которые суют нос в чужие дела, в Иннсмуте не поздоровится! Я своими ушами слыхал, что там исчезли несколько заезжих бизнесменов и чиновников, а еще рассказывали – и это факт! – об одном бедолаге, который там свихнулся и теперь сидит в Данверсе[15 - Подразумевается реально существующая окружная психиатрическая лечебница в г. Данверс, Массачусетс.]. Во какого страха они напустили на парня!
Потому-то я и говорю: на вашем месте я бы туда не ездил на ночь глядя, и сам я не горю желанием туда наведываться. Хотя, может, если поехать туда днем – риск не велик, но здешние будут хором вас отговаривать. Правда, ежели вам только посмотреть, что там и как, и ежели вы интересуетесь здешней стариной, то Иннсмут – то что надо!..
…Я провел несколько вечерних часов в публичной библиотеке Ньюберипорта в поисках сведений об Иннсмуте. Когда я приступал с расспросами к местным жителям в лавках, таверне, в гаражах и в пожарной части, то выяснялось, что завести с ними разговор об Иннсмуте еще сложнее, чем думал словоохотливый билетер на станции, и я решил не тратить время. Они отнеслись ко мне с необъяснимой подозрительностью, словно всякий, кто проявляет живой интерес к странному городу, по их мнению, был отмечен печатью порока. Клерк местного отделения Ассоциации молодых христиан категорически осудил мое желание посетить столь жалкое и убогое место; и все, с кем я успел побеседовать в городской библиотеке, высказались в таком же духе. Стало ясно, что в глазах образованной части горожан Иннсмут являл собой яркий пример общественного вырождения.
Найденные мной на библиотечных полках труды по истории округа Эссекс содержали мало сведений об Иннсмуте: город был основан в 1643 году, перед Революцией вырос в крупный центр кораблестроения, в начале XIX века стал цветущим торговым портом, а позже обратился в фабричный городок, чьим главным энергоресурсом была река Мануксет. Об эпидемии и волнениях 1846 года упоминалось походя, точно они составляли самые позорные страницы в истории округа. О периоде упадка Иннсмута тоже говорилось вскользь, хотя важность событий позднего периода его истории сомнений не вызывала. После Гражданской войны вся местная промышленность свелась к той самой аффинажной компании Марша, и торговля золотыми слитками оставалась последним видом некогда кипучей деловой активности города, помимо неизменного рыболовного промысла. При том, что из-за спада ценника на рыбу и успешной конкуренции со стороны крупных корпорантов рыболовство приносило все меньше дохода, в районе гавани рыба не переводилась никогда. Иностранцы селились там редко, и я нашел ряд завуалированных свидетельств, что поселения поляков и португальцев, пытавшихся осесть в этих краях, почему-то все распались, не закрепившись.
Наибольший мой интерес вызвало коротенькое упоминание о странных драгоценных изделиях, непонятно как связанных с Иннсмутом. Эти драгоценности явно были у местной публики притчей во языцех; так, упоминались некие предметы, демонстрируемые в музее Мискатоникского университета в Аркхеме и в зале экспозиций Исторического общества Ньюберипорта. Описания изделий были скудны и бессодержательны, но в них угадывалось подспудное указание на необычное происхождение этих украшений, так взбудоражившее меня, что я, несмотря на вечерний час, твердо решил увидеть своими глазами один из местных экспонатов, описанный как «крупное изделие причудливой формы»; вероятно, нечто вроде тиары. Теперь оставалось только это как-то устроить.
Хранитель библиотеки дал мне записку для куратора Общества, миссис Анны Тилтон, жившей неподалеку, и после недолгих объяснений старушка оказалась столь любезна, что провела меня в уже закрытое для посетителей здание, благо было еще не слишком поздно. Коллекция оказалась и впрямь довольно впечатляющей, но, пребывая в волнении, я ни на что другое глядеть не мог, кроме как на угловой шкаф, в котором лежал странный предмет, поблескивающий в сиянии электрических ламп. Даже не обладая неким особо утонченным чувством прекрасного, я буквально обмер при виде диковинного артефакта, рожденного чьей-то по-неземному богатой фантазией. Он лежал на пурпурной бархатной подушечке; даже теперь я едва ли смогу точно описать увиденное мною, хотя это была, как явствовало из описания, «тиара». Довольно высокая спереди, с крупными, неровными боковинами, эта вещь словно предназначалась для головы причудливой эллиптической формы. Тиара почти что целиком была изготовлена из золота; странный светлый глянец указывал на необычный сплав золота со столь же красивым металлом непонятной природы. Изделие находилось почти в идеальном состоянии, и можно было часами стоять перед ним, изучая изумительные чарующе причудливые орнаменты – какие-то просто геометрические, другие выдержанные в морской тематике, – с изысканным мастерством вычеканенные или рельефно выбитые на поверхности.
И чем дольше я смотрел на этот предмет, тем больше он меня завораживал; и к этой завороженности примешивалось некое странное ощущение тревоги, смутное и необъяснимое. Сперва я решил, что мое волнение вызвано необычным характером тончайшего мастерства, казавшегося потусторонним. Все прочие произведения искусства, какие я видел ранее, либо были созданы в известных традициях культуры той или иной расы или народа, либо представляли собой нарочитые модернистские отклонения от любых узнаваемых норм. Но эта тиара не была ни тем, ни другим. Ее создали в какой-то канонической технике, доведенной до высочайшего уровня совершенства, но эта техника была абсолютно далека от любого – европейского или азиатского, древнего или современного – стиля из тех, что я знал или чьи образцы я видел. Создавалось впечатление, что это филигранное творение мастера из иного мира.
Позже я осознал, что охватившая меня тревога возникла под действием другого, вероятно более мощного, импульса: изобразительных мотивов в причудливых орнаментах тиары, перемежающихся с математической точностью. Эти орнаменты словно намекали на далекие тайны и невообразимые бездны времени и пространства, а монотонно повторяющиеся в рельефных фигурах морские мотивы обрели вдруг почти что зловещую суть. Среди образов угадывались сказочные чудища, причудливо сочетающие жуткое уродство и бесстыдство людей с отчужденной бесчеловечностью рыб и земноводных. Они вызывали у меня некие навязчивые и неприятные псевдовоспоминания, как если бы это были некие таинственные образы, всплывшие из жуткой пучины первобытной памяти. Временами чудилось мне, что рельефные контуры этих нечестивых людей-рыб сочатся ядовитой эссенцией неведомого и беспощадного зла.
Странным контрастом жутковатому виду тиары была ее короткая и прозаичная история, которую мне поведала миссис Тилтон. В 1873 году эту тиару буквально за гроши сдал в ломбард на Стейт-стрит пьяный житель Иннсмута, вскоре после того зарезанный в уличной драке. Историческое общество выкупило ее у хозяина ломбарда и сразу выставило на обозрение, отведя находке видное место в экспозиции. Экспонат снабдили этикеткой, на которой указали местом вероятного изготовления тиары Восточную Индию или Индокитай, хотя эта атрибуция отдавала откровенной произвольностью.
Старая миссис Тилтон, сравнив все возможные гипотезы о происхождении тиары и ее появлении в Новой Англии, была склонна считать, что изделие находилось в пресловутом пиратском кладе, найденном капитаном Овидием Маршем. Справедливость мнения, между прочим, нашла подтверждение в настойчивых предложениях о выкупе тиары за огромные деньги, которые стали поступать Обществу от семейства Маршей, как только те прознали о ее местонахождении. Они неустанно делают их и по сей день, несмотря на решительный отказ Общества расстаться с артефактом. Проводив меня из здания, добрая старушка дала понять, что с пиратской версией происхождения богатства Маршей единодушно согласны далеко не самые глупые жители этого края. В ее же собственном отношении к объятому мглой Иннсмуту – где она сама никогда не бывала – сквозило отвращение к общине, которая в культурном смысле пала ниже некуда. Миссис Тилтон уверила меня, что слухи о распространенном в городе ритуале поклонения морскому черту отчасти подтверждались существованием странного тайного культа, бытующего там и охватившего приверженцев всех канонических вероисповеданий.
Этот культ назывался, по ее словам, «Эзотерическим Орденом Дагона» и без сомнения был вульгаризированным квазиязыческим верованием, занесенным туда с Востока еще в прошлом веке – в ту самую пору, когда рыбные места Иннсмута внезапно оскудели. Его распространение среди малограмотных простолюдинов – дело вполне естественное, если учесть нежданное возвращение рыбного изобилия в иннсмутских водах. Адепты Ордена в самом скорейшем времени стали пользоваться в городе огромным влиянием, полностью вытеснив местных франкмасонов и заняв под свою штаб-квартиру старый масонский храм на площади Нью-Черч-Грин.
Все это, по мнению набожной старухи, служило разумным поводом игнорировать сей очаг упадка и деградации. Я же, напротив, увидел лишний довод в пользу поездки. К моему любопытству энтузиаста архитектуры и истории теперь еще добавился и азарт антрополога-любителя – и я, находясь в возбужденном предвкушении путешествия, почти всю ночь не сомкнул глаз в своей крошечной комнатушке в общежитии Молодых христиан.
II
Наутро около десяти часов я уже стоял с небольшим саквояжем в руках перед аптекой Хэммонда на старой площади Маркет-сквер. В ожидании иннсмутского рейсового автобуса я наблюдал за горожанами: к остановке не подошел ни один, и люди в основном шатались без дела по улице или забредали в таверну «Айдол ланч» на дальнем околотке площади. Похоже, говорливый билетер ничуть не преувеличил неприязни, которую здешние жители испытывали к Иннсмуту и его обитателям. Через несколько минут небольшой автобус, грязно-серого цвета и неописуемо дряхлый, протарахтел по Стейт-стрит, развернулся и затормозил у тротуара рядом со мной. Я сразу догадался, что именно он мне и нужен; эту догадку подтвердила прикрепленная к лобовому стеклу табличка с выцветшей надписью: АРКХЕМ – ИННСМУТ – НЬЮБЕРИПОРТ.
В салоне было всего три пассажира: смуглые неопрятные мужчины крепкого сложения с мрачными лицами; когда автобус остановился, они, неуклюже волоча ноги, высадились из него и пошли вверх по Стейт-стрит – молча и едва ли не крадучись. За ними появился и водитель; он направился в аптеку – видимо, за покупками. «Ага, – подумал я, – это и есть Джо Сарджент, о котором мне рассказывал билетер». И не успел я внимательно его рассмотреть, как накатила волною оторопь, которую я не мог ни обуздать, ни объяснить. Мне вдруг стало ясно, почему здешние жители не хотят ни ездить на автобусе, владельцем и водителем которого был Сарджент, ни посещать город, где проживал этот человек и его земляки.
Когда водитель вышел из аптеки, я присмотрелся к нему и попытался понять причину произведенного им на меня неприятного впечатления. Это был тощий сутулый мужчина чуть меньше шести футов росту, в поношенном синем сюртуке и потрепанной кепке для гольфа. На вид ему было лет тридцать пять, но из-за глубоких морщинистых складок на шее он мог бы казаться старше, если бы не его туповатое, ничего не выражающее лицо. У него была узкая голова, выпученные водянисто-голубые глаза, которые, похоже, никогда не моргали, приплюснутый нос, маленький покатый лоб и такой же подбородок и, что особенно бросалось в глаза, – недоразвитые ушные раковины. Над его длинной толстой верхней губой и на пористых землистых щеках не замечалось никакой растительности, кроме очень редких желтоватых волосков, торчащих курчавящимися клоками, причем в некоторых местах его лицо было покрыто странными струпьями, точно его поразила экзема. Его большие, с набрякшими венами, руки имели странный серовато-голубой оттенок. Пальцы были непропорционально коротки и расположены так близко друг к другу, что странным образом казалось, будто их связывают между собой кожистые перепонки.
Пока водитель шел к автобусу, я отметил про себя его нелепую шаркающую походку и необычайно длинные ступни. Разглядывая их, я невольно задумался, где же он покупает себе подходящую по размеру обувь. Весь он был какой-то скользко-маслянистый, что лишь усугубило мою неприязнь. Он явно изо дня в день только и делал, что крутил руль своего тарантаса да шатался по рыбным складам, – об этом свидетельствовал исходящий от него сильный запах тухлой рыбы. Но какие чужие крови были в нем намешаны – я мог лишь догадываться. Его странная внешность не выдавала в нем ни азиата, ни полинезийца, ни левантийца[16 - Левантийцы (от фр. levant – восток) – распространенное наименование народов, проживающих в районе Восточного Средиземноморья: египтян, сирийцев, турок, греков и т. д.] или негроида, но я теперь понимал, отчего люди считали его инородцем. Впрочем, я бы сказал, что в нем угадывались черты не чужеземного происхождения, а генетического вырождения.
Я огорчился, поняв, что буду единственным пассажиром в автобусе. Меня, честно говоря, совсем не обрадовала перспектива ехать одному в компании с этим водителем. Но время отправления приближалось, и, поборов сомнения, я вошел в салон следом за ним и протянул ему доллар, пробормотав единственное слово: «Иннсмут». Он с любопытством смерил меня взглядом и без лишних слов вернул сорок центов сдачи. Я выбрал себе место далеко позади водительского сиденья, прямо у него за спиной, потому что мне хотелось во время поездки полюбоваться морским берегом.
Наконец рыдван дернулся с места и с грохотом покатил по Стейт-стрит мимо старых кирпичных домов, выпуская из выхлопной трубы клубы сизого дыма. Глядя на идущих по тротуару пешеходов, я подумал: они всем своим видом хотят показать, что не видят этот автобус… Когда мы свернули налево на Хай-стрит, дорога стала ровнее; автобус резво промчался мимо импозантных старых особняков времен молодой республики и еще более древних фермерских колониальных домов. Потом мы пересекли реки Лоэр-Грин и Паркер-ривер и оказались среди бесконечно-однообразных просторов прибрежной равнины.
День был теплый и солнечный, но береговой пейзаж, перемежающий песчаные дюны с зарослями тростника и чахлыми кустарниками, становился все более пустынным. Из окна я видел голубые воды океана и песчаный берег острова Плам. Вскоре мы свернули с главного шоссе на Раули и Ипсвич и поехали по узкому проселку почти вплотную к песчаному взморью. Вокруг не было видно ни единой постройки; судя по состоянию дороги, в этих краях редко передвигались на автомобилях. По обветренным телефонным столбам ползли лишь два провода. То и дело мы ехали по старым деревянным мостам над ручьями, убегавшими в глубь материка и служившими природной преградой между этим пустынным краем и остальным штатом.
Порой я замечал темные пни и останки фундаментов, торчащие из зыбучих песков, и мне вспомнилась старинная легенда, о которой я прочитал в книге по истории здешних мест. Легенда гласила, что некогда это был благодатный и плотно населенный край, но все резко изменилось после иннсмутского поветрия 1846 года. Как повелось у недалеких фермеров, эти перемены сразу стали связывать с произволом неких тайных темных сил. На самом деле причиной запустения стала бездумная вырубка прибрежных лесов, лишившая местную почву надежной защиты и открывшая путь для скорого наступления берегового песка, приносимого дующими с моря ветрами.
И вот остров Плам скрылся из виду, и слева я увидел бескрайние просторы Атлантики. Наша узкая дорога начала карабкаться вверх по крутому склону, и меня вдруг охватило неприятное беспокойство, когда я заметил впереди одинокий горный хребет, где ухабистый проселок встречался с небом. Можно было подумать, что автобус готов без остановки продолжить движение вверх по склону, чтобы через несколько миль оторваться от земли и слиться с неведомой тайной эфира и загадочных небес. Запах моря неожиданно стал каким-то зловещим, а сутулая спина молчаливого водителя и его узкая голова показались мне еще более омерзительными. Глядя на него, я заметил, что его затылок, как и лицо, практически безволосый, и лишь местами из сизой чешуйчатой кожи торчали редкие желтые пряди.
Затем мы достигли вершины хребта, и моему взору открылась широкая долина, где Мануксет впадал в море к северу от длинной гряды скал с высочайшим пиком Кингспорт-Хед; гряда уходила в сторону полуострова Кейп-Энн. На дальнем туманном горизонте я мог различить лишь величественный профиль пика, увенчанный диковинным старинным домом, упоминавшимся во многих легендах; но в какой-то момент мое внимание привлекла открывшаяся прямо под нами панорама города. И тут я понял, что это и есть окутанный мглой тайны Иннсмут.
В этом широко раскинувшемся городе с довольно плотной застройкой меня сразу же неприятно поразило отсутствие признаков кипучей жизни. Над крышами торчали легионы печных труб, но дымок вился лишь из очень немногих. Три высокие серые башни отчетливо выделялись на фоне морского горизонта. Шпиль на одной из них давно обвалился, и на ней, как и на ее соседке, вместо циферблата часов зиял черный провал. Необъятная для взора масса провисающих двускатных крыш и ветхих фронтонов с пронзительной ясностью обличала явный и далеко зашедший упадок. По мере продвижения по пустынной дороге я все отчетливее видел, что многие крыши держатся лишь на куцых обломках стропил, а некоторые обвалились целиком. Еще я заметил несколько крупных особняков в георгианском стиле, с куполообразными башенками и смотровыми площадками на крышах. Они располагались на приличном расстоянии от набережной; по меньшей мере два из них были в хорошем состоянии. От построек из города в глубь материка тянулись покрытые ржавчиной и травой рельсы брошенной железнодорожной ветки с телеграфными столбами без проводов по обеим ее сторонам да еле заметные ленты старых проселочных дорог на Раули и на Ипсвич.
Приметы запустения особенно бросались в глаза в прибрежных кварталах, но и там я сумел разглядеть белую колокольню над неплохо сохранившимся кирпичным зданием, с виду – небольшим заводом. Гавань, давно заметенную песком, ограждал от моря древний каменный волнорез, на котором, напрягши зрение, я различил крохотные фигурки рыбаков; на самом его краю высились останки фундамента от давно не существующего маяка. От каменного волнореза в глубину гавани длинным языком тянулась песчаная коса, на которой я заметил несколько ветхих лачуг, причаленные плоскодонки да разбросанные верши для ловли омаров. Единственное глубокое место в бухте, похоже, было там, где река разливалась позади здания с колокольней и потом резко изгибалась к югу, прежде чем встретиться с океаном в самом конце волнореза.
Там и сям вдоль берега торчали прогнившие руины пирсов; те, что были в южной части гавани, казались давным-давно заброшенными и полностью изъеденными гнилью. А далеко в море, несмотря на прилив, я заметил длинную черную полосу, едва виднеющуюся над водой и навевавшую мысли о древней тайной пагубе. Это, вероятно, и был печально знаменитый Риф Дьявола. Глядя на него, помимо мрачного отвращения я вдруг ощутил некую необъяснимую тягу к нему; как ни странно, эта его смутная притягательность встревожила меня гораздо больше, нежели первоначальное отвращение.
На дороге нам никто не встретился, и вскоре мы поехали мимо заброшенных ферм в разной стадии упадка. Потом я заприметил несколько обитаемых домов – их выбитые окна были законопачены тряпьем, а дворы усеяны битыми ракушками и дохлой рыбой. Раз или два я видел взрослых мужчин, вяло копающихся на пустых огородах или выковыривающих из берегового песка моллюсков, да чумазых детишек с обезьяньими личиками, игравших подле заросших бурьяном крылец своих домов. Вид этих людей показался мне даже более гнетущим, чем самые унылые городские пейзажи, поскольку в их движениях, а также почти на всех лицах проступало нечто противное и даже противоестественное, – хотя я и не смог бы четко сформулировать, за счет чего создавалось такое впечатление. На секунду картинка за автобусным окном словно бы напомнила мне гравюру из какой-то книги; не иначе как я разглядывал ее в состоянии исключительного ужаса и подавленности. Но это мимолетное и недооформленное воспоминание промелькнуло очень быстро – и испарилось.
Когда автобус съехал со склона в низину, я уловил в неестественной тишине далекий шум водопада. Здесь покосившиеся некрашеные домишки плотно теснились друг к другу по обеим сторонам дороги и больше походили на городские постройки, нежели те лачуги, что остались позади. За лобовым стеклом теперь я мог видеть только улицу. Я сразу заметил участки, где проезжая часть некогда была вымощена булыжниками, а тротуары выложены кирпичом. Все дома в этой части города были явно заброшены, и между ними то и дело попадались небольшие пустыри, где лишь обвалившиеся дымоотводы и закопченные стены подвалов скорбно напоминали о кипевшей тут некогда жизни. Всюду стоял скверный рыбный смрад.
Вскоре показались перекрестки и развилки улиц: те, что слева, убегали к прибрежным кварталам, где на немощеных улицах царило убогое запустение, а те, что справа, вели в мир былой роскоши. До сих пор я еще не увидел ни единого человека на городских улицах, зато в домах появились скудные приметы жизни: портьеры на окнах, драные половики у порогов, старенькие автомобили у дверей. Проезжая часть и тротуары были здесь в заметно лучшем состоянии, чем в иных частях города; хотя большинство деревянных и каменных домов были явно старой постройки – начала девятнадцатого века, – все они оставались вполне пригодными для проживания. Очутившись в этом богатом районе, сохранившемся с прошлого века, я, как истый любитель древности, сразу избавился и от гадливости, которую провоцировала вездесущая рыбная вонь, и от подсознательного чувства угрозы.
Но окончание поездки ознаменовалось для меня потрясением весьма неприятного свойства. Автобус выехал на открытую площадь, по обе стороны которой высились церкви, а в центре виднелись грязные остатки круглой клумбы. Но тут мое внимание привлекло величественное здание с колоннами на перекрестке справа. Некогда белая краска на его стенах посерела и во многих местах облупилась, а черно-золотая вывеска на каменном постаменте настолько потускнела, что я лишь с превеликим усилием смог прочитать слова «Эзотерический Орден Дагона». Значит, это бывший масонский храм, занятый теперь неоязычниками! Пока я разбирал блеклые литеры на постаменте, с дальней стороны улицы раздался пронзительный бой надтреснутого колокола. Я поспешно повернул голову и выглянул в окно.
Звуки колокола доносились с приземистой каменной церкви в псевдоготическом стиле, явно выстроенной гораздо позже, чем окрестные дома; у нее был непропорционально высокий подвальный этаж, где все окна были наглухо закрыты ставнями. Хотя обе стрелки на башенных часах отсутствовали, я сосчитал пронзительные удары и понял, что бой возвестил одиннадцать часов. И тут мои мысли о времени внезапно были сметены мимолетным, но необычайно отчетливым видением и волной неминучего ужаса, обуявшего меня, прежде чем я смог догадаться, в чем, собственно, дело. Дверь в церковный погреб была распахнута, и в проеме виднелся прямоугольник кромешной тьмы. Когда я заглянул в дверной проем, некая фигура стремительно возникла и исчезла – или мне так показалось – на его фоне, заставив меня невольно заподозрить нечто ужасное. Впрочем, если рассудить здраво, в этой фигуре ничего кошмарного не было – и быть не могло!
Это был человек – не считая водителя, первый увиденный мной после того, как автобус въехал в центральную часть города, – и, не будь я в столь возбужденном состоянии, я бы не усмотрел в нем ничего ужасного. Через мгновение я догадался, что увидел пастора в диковинном ритуальном облачении, которое стало общепринятым после того, как Орден Дагона изменил обряды в местных церквах. И то, что, по всей видимости, привлекло мое внимание и вызвало мимолетный приступ необъяснимого ужаса, оказалось высокой тиарой на его голове – почти точной копией той, что миссис Тилтон показывала мне недавно. Да, именно эта тиара, взбудоражив мою фантазию, заставила меня приписать зловещие черты человеку в странном облачении, которого я заметил в темном церковном подвале. Так что, сделал я вывод, нет ровным счетом никакого разумного объяснения охватившему меня приступу паники. Ничего удивительного, что местный таинственный культ использует в качестве атрибута своего ритуального облачения диковинный головной убор, который, как считали местные жители, попал сюда загадочным образом – вроде как из старинного клада.
Только теперь на тротуаре появились редкие прохожие – молодежь отталкивающей наружности, передвигавшаяся смешанными молчаливыми группками по двое-трое. Кое-где в нижних этажах обветшалых зданий располагались мелкие лавчонки с вылинявшими вывесками, и, пока мы ехали мимо, я заметил один-два припаркованных грузовичка. Шум падающей воды стал громче, и вскоре я увидел впереди реку, протекавшую по довольно глубокому ущелью, через которое был перекинут широкий мост с железными перилами; дальше за мостом виднелась большая площадь. Когда автобус с грохотом катил по мосту, я глазел по сторонам, рассматривая фабричные здания на поросшем травой пустыре впереди. Река под мостом была полноводная, и я заметил справа выше по течению два мощных водопада и минимум еще один – чуть ниже. На мосту рев низвергающейся воды стал чуть ли не оглушающим. Миновав мост, автобус выехал на большую полукруглую площадь и подкатил к фасаду высокого, увенчанного куполом здания с остатками желтой краски на стенах и с полустертой вывеской, гласившей, что это и есть «Гильман-хаус».
Я с облегчением вышел из автобуса и, зайдя в обшарпанный вестибюль гостиницы, сразу же пристроил свой саквояж в гардеробе. В вестибюле я увидел только старика-портье – причем без характерных черт этого, как я его окрестил, «иннсмутского экстерьера», – но решил не задавать ему лишних вопросов, памятуя о замеченных в этой гостинице странностях. Вместо того я вышел на площадь и, увидев, что автобус уже уехал, оглядел окрестности оценивающим взглядом.
С одной стороны вымощенная булыжником площадь граничила с рекой, а с другой была окаймлена полукругом кирпичных зданий начала девятнадцатого века, с высокими двускатными крышами; от площади лучами разбегались улицы – на юг, юго-восток и юго-запад. Уличных фонарей явно недоставало, и все они были оснащены маломощными лампами накаливания, так что я лишний раз порадовался своему решению покинуть этот город еще до наступления темноты, – хотя, насколько я знал, сегодня ночь обещала быть ясной и лунной. Все здания были в сносном состоянии, и я заметил не меньше дюжины работающих заведений – в их числе сетевую бакалею «Ферст нэшнл», дешевую столовую, аптеку и контору по оптовой торговле рыбой. Далеко в восточной части площади, у самой реки, зазывала приоткрытыми дверями контора единственного промышленного предприятия в городе – аффинажной компании Марша. На глаза мне попались человек семь горожан, и я насчитал четыре или пять легковых автомобилей и грузовиков, стоявших без движения в разных углах площади. Судя по всему, это и был центр деловой и общественной жизни Иннсмута. Посмотрев на восток, на горизонте я заметил водную гладь гавани, на фоне которой высились развалины некогда красивых георгианских башен. Ближе ко взморью, на противоположном берегу реки, виднелась белая колокольня над зданием – как можно было догадаться, над аффинажным заводом Марша.
Сам не знаю, почему я решил начать расспросы в сетевой бакалее, чьи сотрудники вряд ли были родом из Иннсмута. Я быстро нашел старшего – юношу лет семнадцати – и, к своей радости, отметил его сообразительность и учтивость. Казалось, малый был не прочь поболтать, и очень скоро я выведал, что в городе ему все не нравится: и рыбный смрад, и нелюдимые жители. Его явно радовала возможность перекинуться парой слов с приезжим. Он был родом из Аркхема, а здесь снимал квартиру у семьи, переехавшей из Ипсвича, и в каждый выходной, если выпадала такая возможность, сразу же возвращался к родителям. Те не одобряли его работу в Иннсмуте, но сюда его назначило руководство торговой сети, и ему не хотелось потерять место.
В Иннсмуте, по словам юноши, не сыскать ни публичной библиотеки, ни торговой палаты; но зато здесь трудно заблудиться. Улица, по которой я шел от гостиницы, называлась Федерал-стрит, к западу от нее пролегали благополучные кварталы на Брод, Вашингтон, Лафайет и Адамс-стрит, а к востоку – приморские трущобы. Именно в этих трущобах – вдоль Мейн-стрит – я смогу найти старинные георгианские церкви, но они давно уже заброшены. Было бы разумно не привлекать внимания тамошних обитателей – особенно в районах к северу от реки, где люд живет крайне неприветливый. Бывало, и не раз, что приезжие там бесследно исчезали.
Некоторые места в городе считались чуть ли не запретной территорией – это он узнал на своей шкуре. Не стоит, к примеру, долго задерживаться около аффинажного завода Марша или возле действующих церквей либо бродить вокруг храма Ордена Дагона на площади Нью-Черч-Грин. Местные церкви отличались странностями; от них решительно отреклись все единоверцы из прочих мест, потому что там явно практиковали очень уж странные обряды, а их священники носили очень уж диковинные облачения. Их вера явно была основана на ереси и тайных культах, которые включали элементы неких чудесных превращений, способствующих распространению на нашей земле телесной распущенности. Духовник моего собеседника – доктор Уоллес из Методистской евангелической церкви Эсбери в Аркхеме – настоятельно рекомендовал ему держаться подальше от городских храмов.
Что же до самих обитателей Иннсмута, то юноша не мог сказать о них ничего определенного. Они отличались чрезвычайной скрытностью и крайне редко показывались на свет – точно лесные звери, обитающие в земляных норах. Невозможно было представить, как они вообще проводят свои дни, помимо рыбалки, которой занимались от случая к случаю. Возможно (если судить по количеству потребляемого ими нелегального спиртного), они целыми днями пребывали в алкогольном отупении. Их всех объединяли прочные узы угрюмого братства или тайного знания и некая ненависть к внешнему миру, точно у них имелся доступ к каким-то иным, более предпочтительным для них сферам бытия. У многих из них была пугающая внешность – особенно немигающие выпученные глаза, – а уж их голоса могли повергнуть в дрожь неподготовленного человека. От их обрядовых песен, доносившихся по ночам из храмов, пробирал мороз по коже – особенно во время их главных праздников или всеобщих бдений, отмечавшихся дважды в год, 30 апреля и 31 октября.
Они обожали воду и много плавали в реке и в гавани. Часто устраивали заплывы на скорость к Рифу Дьявола, и в такие дни все, кто был физически крепок, выползали на свет божий и принимали участие в состязании. Правда, если подумать, на глаза в этом городе попадались лишь относительно молодые люди, причем у тех, кто сильно постарше, почти у всех без исключения, на лицах проявлялись признаки какого-то дефекта или уродства. А если исключения и встречались, то это были люди вообще без каких-либо признаков физических отклонений – вроде старика портье в гостинице, – и оставалось лишь гадать, куда подевались представители старого поколения горожан и не был ли «иннсмутский экстерьер» признаком неведомой и медленно прогрессирующей болезни, которая с годами внешне проявлялась все сильнее. Ведь только крайне редкое заболевание могло бы вызвать у человека в зрелом возрасте глубокие деформации костной структуры – к примеру, изменение строения черепа. Было бы сложно, заметил юноша, сделать какой-то определенный вывод относительно этого феномена, потому как никто еще не заводил близкого знакомства с местными жителями, даже прожив в Иннсмуте довольно долго.
Юноша был уверен, что наиболее уродливых особей держали дома под замком. В некоторых районах города подчас слышали очень необычные звуки, доносившиеся из-за стен. По слухам, припортовые лачужки к северу от реки соединялись сетью тайных туннелей, образуя самый настоящий лабиринт под землей; возможно, он кишел невыразимыми уродами. Трудно сказать, какие чужие крови – если это и впрямь чужие крови – смешались в этих существах. Самых отвратных субъектов часто упрятывали подальше, когда в город являлись чиновники или приезжие издалека.
Совершенно бесполезно, уверил меня собеседник, расспрашивать местных об этом городе. Только один согласился бы на такой разговор: очень древний, но с виду вполне нормальный старик, что жил в ночлежке на северной окраине города и целыми днями околачивался возле пожарной части. У убеленного сединами дедули по имени Зидок Аллен, которому девяносто шесть лет от роду, явно были не все дома, и еще он был известный на весь город пропойца. Это был чудаковатый, очень недоверчивый человек, который вечно оглядывался через плечо, точно боялся чего-то. Когда он бывал трезв, ничто не могло заставить его вступить в беседу с незнакомцем, однако если предложить ему порцию его излюбленной отравы, он был не в силах устоять перед искушением и, налакавшись, мог нашептать на ухо невольному слушателю свои самые сокровенные воспоминания, от которых просто волосы вставали дыбом. Впрочем, из него можно было выудить лишь крохи полезной информации, так как все его россказни сводились к бредовым и очень уклончивым намекам на какие-то невероятные чудеса и ужасы, которые, скорее всего, существовали исключительно в его пьяных фантазиях. И хоть никто ему не верил, местные страшно не любили, когда он, напившись, пускался в беседы с приезжими; более того: если незнакомца замечали беседующим с ним, это могло иметь самые печальные последствия. Вероятнее всего, от этого забулдыги и пошли самые невероятные слухи и предрассудки, связанные с Иннсмутом. Кое-кто из горожан-переселенцев время от времени заявлял, будто видел каких-то чудовищ, но чему ж тут удивляться, коли все были наслышаны про байки старого Зидока, вдобавок всем было известно, что некоторые обитатели города действительно страдали от каких-то физических уродств. Никто из этих переселенцев не выходил из дому по ночам: ведь, как говорили втихомолку, очень неразумно появляться на улице в поздний час. К тому же ночью Иннсмут всегда был погружен в кромешную тьму.
Что же до бизнеса, то изобилие рыбы в здешних водах – факт почти необъяснимый, но горожане все реже стали пользоваться этим благом к своей выгоде. К тому же и цены сильно упали, и конкуренция выросла. По словам юноши, в городе остался единственный настоящий бизнес – аффинажный завод, чья контора располагалась на площади всего в нескольких шагах к востоку от бакалейного магазина, где мы вели нашу беседу. Старик Марш никогда не показывался людям на глаза, но изредка видели, как он направляется на свой завод в автомобиле с плотно занавешенными окнами.
Ходило множество разных слухов о нынешней внешности Марша. Некогда он слыл большим модником, и люди говорили, что он до сих пор щеголяет в роскошном сюртуке, скроенном по эдуардовской моде[17 - Мода первого десятилетия ХХ века, периода царствования британского короля Эдуарда VII.], теперь специально подогнанном под его скрюченную фигуру. Один из его сыновей еще до недавней поры трудился управляющим в конторе на площади, но старик Марш, скрывающий свои дела от посторонних глаз, переложил основное бремя забот на более молодое поколение клана. Сыновья и дочери Марша в последнее время стали выглядеть очень странно, особенно старшие. Говаривали, что их здоровье нешуточно пошатнулось.
Одна из дочерей Марша – пучеглазая женщина с отталкивающим большим ртом – любила обвешиваться диковинными украшениями, изготовленными в такой же дикарской традиции, что и странная тиара. Мой собеседник видел эту тиару много раз и слышал, будто бы ее нашли в тайной сокровищнице, принадлежавшей то ли пиратам, то ли язычникам. Здешние клирики – или священники, или как их там называли – носили головные уборы наподобие этой тиары. Но этих мало кто встречал лично. Никаких других представителей местного населения юноша не видел, хотя, по слухам, их в Иннсмуте тьма-тьмущая, и все они – самого экзотического вида и нрава.
Марши, как и три другие благородные семьи города – Уэйтсы, Гильманы и Элиоты, – были очень нелюдимы. Они проживали в огромных особняках на Вашингтон-стрит, и кое-кто из них, как говаривали, держал взаперти некоторых своих родичей, чья внешность не позволяла выставлять их на всеобщее обозрение; однако, когда те умирали, их смерть всегда предавалась огласке и должным образом регистрировалась.
Да, есть в Иннсмуте гостиница – называется «Гильман-хаус», – но навряд ли тамошние условия будут вам по душе. Не советую туда даже заходить. Лучше переночуйте здесь, завтра утром отправляйтесь в Иннсмут десятичасовым автобусом, а оттуда уедете в Аркхем вечерним автобусом, который отправляется в восемь. Приезжал туда пару лет назад один инспектор фабрик, так он снял номер в «Гильман-хаусе», и, доложу я вам, очень неприятные впечатления у него остались от того места. Похоже, у них там обретается сомнительный сброд, ведь тот инспектор слышал голоса из других номеров, – при том, что большинство номеров пустовало! – от которых у него мурашки по коже бегали. Ему почудилось, что лопочут иностранцы, но, по его словам, больше всего напугал один голос, который время от времени вступал в разговор. Голос этот звучал так ненатурально – как он выразился, был похож на хлюпанье – и так страшно, что он не смог даже раздеться и лечь в кровать. Так и просидел до утра не сомкнув глаз и чуть свет пустился оттуда наутек. А голоса галдели всю ночь!
Этот инспектор, Касей его фамилия, рассказывал, что иннсмутцы следили за ним во все глаза, словно сопровождали его… и вроде как все время были начеку. Захаживал он и на аффинажный завод Марша – говорит, очень странное предприятие в здании сукновальной фабрики у нижних порогов Манускета. Касей повторил все то, что я и без него слыхал. В бухгалтерских книгах у них черт ногу сломит, никаких следов какой бы то ни было деловой активности. Знаете, для нас всегда оставалось загадкой, откуда Марш берет золото, которое он там очищает. Они вроде никогда не занимались скупкой золота, а вот много лет назад их корабль вернулся в порт с большим грузом золотых слитков.
Еще люди говорили о диковинных драгоценностях, которыми моряки и работники аффинажного завода иногда приторговывали из-под полы, – кто-то видел пару раз эти цацки на женщинах из рода Маршей. Народ решил, что, должно быть, старый капитан Овидий Марш выменял эти украшения у туземцев в каком-нибудь заморском порту, потому как он всегда перед плаванием закупал горы стеклянных бус и побрякушек, какие мореплаватели обычно брали с собой для торговли с туземцами. А кто-то считал – и до сих пор считает, – что он нашел-таки пиратский клад на Рифе Дьявола. Но вот что странно. Старый капитан уже шестьдесят лет как умер, и ни один большой корабль не покидал иннсмутский порт со времен Гражданской войны; но тем не менее семья Маршей, как я слыхал, продолжает закупать безделушки. Может, иннсмутским дуралеям просто нравится напяливать их самим и красоваться друг перед другом, хе-хе… Бог их знает… может, они сами уже стали такими же дикарями, как каннибалы Южных морей и гвинейские туземцы?
Та эпидемия сорок шестого года погубила лучших из лучших в их городе. Как ни посмотри, теперь там проживает сомнительный народец. И Марши, и другие богатые семьи – такие же вырожденцы, как и прочие в Иннсмуте. Я же говорю: во всем городе осталось не больше четырехсот жителей, хотя улиц и домов там не счесть сколько. По моему разумению, там осталось одно жалкое отродье, которое в южных штатах называют «белой рванью»: хитрые, подлые, не признающие закон людишки, чья жизнь – сплошная тайна за семью печатями. Они вылавливают солидно рыбы и омаров и вывозят улов грузовиками. Странно, что рыба косяками приходит только в их бухту, а больше никуда. Да никто толком не знает, сколько их там вообще жителей! Когда туда приезжают школьные инспекторы да переписчики населения, они им задают ту еще работку! И точно вам говорю: любопытным приезжим, которые суют нос в чужие дела, в Иннсмуте не поздоровится! Я своими ушами слыхал, что там исчезли несколько заезжих бизнесменов и чиновников, а еще рассказывали – и это факт! – об одном бедолаге, который там свихнулся и теперь сидит в Данверсе[15 - Подразумевается реально существующая окружная психиатрическая лечебница в г. Данверс, Массачусетс.]. Во какого страха они напустили на парня!
Потому-то я и говорю: на вашем месте я бы туда не ездил на ночь глядя, и сам я не горю желанием туда наведываться. Хотя, может, если поехать туда днем – риск не велик, но здешние будут хором вас отговаривать. Правда, ежели вам только посмотреть, что там и как, и ежели вы интересуетесь здешней стариной, то Иннсмут – то что надо!..
…Я провел несколько вечерних часов в публичной библиотеке Ньюберипорта в поисках сведений об Иннсмуте. Когда я приступал с расспросами к местным жителям в лавках, таверне, в гаражах и в пожарной части, то выяснялось, что завести с ними разговор об Иннсмуте еще сложнее, чем думал словоохотливый билетер на станции, и я решил не тратить время. Они отнеслись ко мне с необъяснимой подозрительностью, словно всякий, кто проявляет живой интерес к странному городу, по их мнению, был отмечен печатью порока. Клерк местного отделения Ассоциации молодых христиан категорически осудил мое желание посетить столь жалкое и убогое место; и все, с кем я успел побеседовать в городской библиотеке, высказались в таком же духе. Стало ясно, что в глазах образованной части горожан Иннсмут являл собой яркий пример общественного вырождения.
Найденные мной на библиотечных полках труды по истории округа Эссекс содержали мало сведений об Иннсмуте: город был основан в 1643 году, перед Революцией вырос в крупный центр кораблестроения, в начале XIX века стал цветущим торговым портом, а позже обратился в фабричный городок, чьим главным энергоресурсом была река Мануксет. Об эпидемии и волнениях 1846 года упоминалось походя, точно они составляли самые позорные страницы в истории округа. О периоде упадка Иннсмута тоже говорилось вскользь, хотя важность событий позднего периода его истории сомнений не вызывала. После Гражданской войны вся местная промышленность свелась к той самой аффинажной компании Марша, и торговля золотыми слитками оставалась последним видом некогда кипучей деловой активности города, помимо неизменного рыболовного промысла. При том, что из-за спада ценника на рыбу и успешной конкуренции со стороны крупных корпорантов рыболовство приносило все меньше дохода, в районе гавани рыба не переводилась никогда. Иностранцы селились там редко, и я нашел ряд завуалированных свидетельств, что поселения поляков и португальцев, пытавшихся осесть в этих краях, почему-то все распались, не закрепившись.
Наибольший мой интерес вызвало коротенькое упоминание о странных драгоценных изделиях, непонятно как связанных с Иннсмутом. Эти драгоценности явно были у местной публики притчей во языцех; так, упоминались некие предметы, демонстрируемые в музее Мискатоникского университета в Аркхеме и в зале экспозиций Исторического общества Ньюберипорта. Описания изделий были скудны и бессодержательны, но в них угадывалось подспудное указание на необычное происхождение этих украшений, так взбудоражившее меня, что я, несмотря на вечерний час, твердо решил увидеть своими глазами один из местных экспонатов, описанный как «крупное изделие причудливой формы»; вероятно, нечто вроде тиары. Теперь оставалось только это как-то устроить.
Хранитель библиотеки дал мне записку для куратора Общества, миссис Анны Тилтон, жившей неподалеку, и после недолгих объяснений старушка оказалась столь любезна, что провела меня в уже закрытое для посетителей здание, благо было еще не слишком поздно. Коллекция оказалась и впрямь довольно впечатляющей, но, пребывая в волнении, я ни на что другое глядеть не мог, кроме как на угловой шкаф, в котором лежал странный предмет, поблескивающий в сиянии электрических ламп. Даже не обладая неким особо утонченным чувством прекрасного, я буквально обмер при виде диковинного артефакта, рожденного чьей-то по-неземному богатой фантазией. Он лежал на пурпурной бархатной подушечке; даже теперь я едва ли смогу точно описать увиденное мною, хотя это была, как явствовало из описания, «тиара». Довольно высокая спереди, с крупными, неровными боковинами, эта вещь словно предназначалась для головы причудливой эллиптической формы. Тиара почти что целиком была изготовлена из золота; странный светлый глянец указывал на необычный сплав золота со столь же красивым металлом непонятной природы. Изделие находилось почти в идеальном состоянии, и можно было часами стоять перед ним, изучая изумительные чарующе причудливые орнаменты – какие-то просто геометрические, другие выдержанные в морской тематике, – с изысканным мастерством вычеканенные или рельефно выбитые на поверхности.
И чем дольше я смотрел на этот предмет, тем больше он меня завораживал; и к этой завороженности примешивалось некое странное ощущение тревоги, смутное и необъяснимое. Сперва я решил, что мое волнение вызвано необычным характером тончайшего мастерства, казавшегося потусторонним. Все прочие произведения искусства, какие я видел ранее, либо были созданы в известных традициях культуры той или иной расы или народа, либо представляли собой нарочитые модернистские отклонения от любых узнаваемых норм. Но эта тиара не была ни тем, ни другим. Ее создали в какой-то канонической технике, доведенной до высочайшего уровня совершенства, но эта техника была абсолютно далека от любого – европейского или азиатского, древнего или современного – стиля из тех, что я знал или чьи образцы я видел. Создавалось впечатление, что это филигранное творение мастера из иного мира.
Позже я осознал, что охватившая меня тревога возникла под действием другого, вероятно более мощного, импульса: изобразительных мотивов в причудливых орнаментах тиары, перемежающихся с математической точностью. Эти орнаменты словно намекали на далекие тайны и невообразимые бездны времени и пространства, а монотонно повторяющиеся в рельефных фигурах морские мотивы обрели вдруг почти что зловещую суть. Среди образов угадывались сказочные чудища, причудливо сочетающие жуткое уродство и бесстыдство людей с отчужденной бесчеловечностью рыб и земноводных. Они вызывали у меня некие навязчивые и неприятные псевдовоспоминания, как если бы это были некие таинственные образы, всплывшие из жуткой пучины первобытной памяти. Временами чудилось мне, что рельефные контуры этих нечестивых людей-рыб сочатся ядовитой эссенцией неведомого и беспощадного зла.
Странным контрастом жутковатому виду тиары была ее короткая и прозаичная история, которую мне поведала миссис Тилтон. В 1873 году эту тиару буквально за гроши сдал в ломбард на Стейт-стрит пьяный житель Иннсмута, вскоре после того зарезанный в уличной драке. Историческое общество выкупило ее у хозяина ломбарда и сразу выставило на обозрение, отведя находке видное место в экспозиции. Экспонат снабдили этикеткой, на которой указали местом вероятного изготовления тиары Восточную Индию или Индокитай, хотя эта атрибуция отдавала откровенной произвольностью.
Старая миссис Тилтон, сравнив все возможные гипотезы о происхождении тиары и ее появлении в Новой Англии, была склонна считать, что изделие находилось в пресловутом пиратском кладе, найденном капитаном Овидием Маршем. Справедливость мнения, между прочим, нашла подтверждение в настойчивых предложениях о выкупе тиары за огромные деньги, которые стали поступать Обществу от семейства Маршей, как только те прознали о ее местонахождении. Они неустанно делают их и по сей день, несмотря на решительный отказ Общества расстаться с артефактом. Проводив меня из здания, добрая старушка дала понять, что с пиратской версией происхождения богатства Маршей единодушно согласны далеко не самые глупые жители этого края. В ее же собственном отношении к объятому мглой Иннсмуту – где она сама никогда не бывала – сквозило отвращение к общине, которая в культурном смысле пала ниже некуда. Миссис Тилтон уверила меня, что слухи о распространенном в городе ритуале поклонения морскому черту отчасти подтверждались существованием странного тайного культа, бытующего там и охватившего приверженцев всех канонических вероисповеданий.
Этот культ назывался, по ее словам, «Эзотерическим Орденом Дагона» и без сомнения был вульгаризированным квазиязыческим верованием, занесенным туда с Востока еще в прошлом веке – в ту самую пору, когда рыбные места Иннсмута внезапно оскудели. Его распространение среди малограмотных простолюдинов – дело вполне естественное, если учесть нежданное возвращение рыбного изобилия в иннсмутских водах. Адепты Ордена в самом скорейшем времени стали пользоваться в городе огромным влиянием, полностью вытеснив местных франкмасонов и заняв под свою штаб-квартиру старый масонский храм на площади Нью-Черч-Грин.
Все это, по мнению набожной старухи, служило разумным поводом игнорировать сей очаг упадка и деградации. Я же, напротив, увидел лишний довод в пользу поездки. К моему любопытству энтузиаста архитектуры и истории теперь еще добавился и азарт антрополога-любителя – и я, находясь в возбужденном предвкушении путешествия, почти всю ночь не сомкнул глаз в своей крошечной комнатушке в общежитии Молодых христиан.
II
Наутро около десяти часов я уже стоял с небольшим саквояжем в руках перед аптекой Хэммонда на старой площади Маркет-сквер. В ожидании иннсмутского рейсового автобуса я наблюдал за горожанами: к остановке не подошел ни один, и люди в основном шатались без дела по улице или забредали в таверну «Айдол ланч» на дальнем околотке площади. Похоже, говорливый билетер ничуть не преувеличил неприязни, которую здешние жители испытывали к Иннсмуту и его обитателям. Через несколько минут небольшой автобус, грязно-серого цвета и неописуемо дряхлый, протарахтел по Стейт-стрит, развернулся и затормозил у тротуара рядом со мной. Я сразу догадался, что именно он мне и нужен; эту догадку подтвердила прикрепленная к лобовому стеклу табличка с выцветшей надписью: АРКХЕМ – ИННСМУТ – НЬЮБЕРИПОРТ.
В салоне было всего три пассажира: смуглые неопрятные мужчины крепкого сложения с мрачными лицами; когда автобус остановился, они, неуклюже волоча ноги, высадились из него и пошли вверх по Стейт-стрит – молча и едва ли не крадучись. За ними появился и водитель; он направился в аптеку – видимо, за покупками. «Ага, – подумал я, – это и есть Джо Сарджент, о котором мне рассказывал билетер». И не успел я внимательно его рассмотреть, как накатила волною оторопь, которую я не мог ни обуздать, ни объяснить. Мне вдруг стало ясно, почему здешние жители не хотят ни ездить на автобусе, владельцем и водителем которого был Сарджент, ни посещать город, где проживал этот человек и его земляки.
Когда водитель вышел из аптеки, я присмотрелся к нему и попытался понять причину произведенного им на меня неприятного впечатления. Это был тощий сутулый мужчина чуть меньше шести футов росту, в поношенном синем сюртуке и потрепанной кепке для гольфа. На вид ему было лет тридцать пять, но из-за глубоких морщинистых складок на шее он мог бы казаться старше, если бы не его туповатое, ничего не выражающее лицо. У него была узкая голова, выпученные водянисто-голубые глаза, которые, похоже, никогда не моргали, приплюснутый нос, маленький покатый лоб и такой же подбородок и, что особенно бросалось в глаза, – недоразвитые ушные раковины. Над его длинной толстой верхней губой и на пористых землистых щеках не замечалось никакой растительности, кроме очень редких желтоватых волосков, торчащих курчавящимися клоками, причем в некоторых местах его лицо было покрыто странными струпьями, точно его поразила экзема. Его большие, с набрякшими венами, руки имели странный серовато-голубой оттенок. Пальцы были непропорционально коротки и расположены так близко друг к другу, что странным образом казалось, будто их связывают между собой кожистые перепонки.
Пока водитель шел к автобусу, я отметил про себя его нелепую шаркающую походку и необычайно длинные ступни. Разглядывая их, я невольно задумался, где же он покупает себе подходящую по размеру обувь. Весь он был какой-то скользко-маслянистый, что лишь усугубило мою неприязнь. Он явно изо дня в день только и делал, что крутил руль своего тарантаса да шатался по рыбным складам, – об этом свидетельствовал исходящий от него сильный запах тухлой рыбы. Но какие чужие крови были в нем намешаны – я мог лишь догадываться. Его странная внешность не выдавала в нем ни азиата, ни полинезийца, ни левантийца[16 - Левантийцы (от фр. levant – восток) – распространенное наименование народов, проживающих в районе Восточного Средиземноморья: египтян, сирийцев, турок, греков и т. д.] или негроида, но я теперь понимал, отчего люди считали его инородцем. Впрочем, я бы сказал, что в нем угадывались черты не чужеземного происхождения, а генетического вырождения.
Я огорчился, поняв, что буду единственным пассажиром в автобусе. Меня, честно говоря, совсем не обрадовала перспектива ехать одному в компании с этим водителем. Но время отправления приближалось, и, поборов сомнения, я вошел в салон следом за ним и протянул ему доллар, пробормотав единственное слово: «Иннсмут». Он с любопытством смерил меня взглядом и без лишних слов вернул сорок центов сдачи. Я выбрал себе место далеко позади водительского сиденья, прямо у него за спиной, потому что мне хотелось во время поездки полюбоваться морским берегом.
Наконец рыдван дернулся с места и с грохотом покатил по Стейт-стрит мимо старых кирпичных домов, выпуская из выхлопной трубы клубы сизого дыма. Глядя на идущих по тротуару пешеходов, я подумал: они всем своим видом хотят показать, что не видят этот автобус… Когда мы свернули налево на Хай-стрит, дорога стала ровнее; автобус резво промчался мимо импозантных старых особняков времен молодой республики и еще более древних фермерских колониальных домов. Потом мы пересекли реки Лоэр-Грин и Паркер-ривер и оказались среди бесконечно-однообразных просторов прибрежной равнины.
День был теплый и солнечный, но береговой пейзаж, перемежающий песчаные дюны с зарослями тростника и чахлыми кустарниками, становился все более пустынным. Из окна я видел голубые воды океана и песчаный берег острова Плам. Вскоре мы свернули с главного шоссе на Раули и Ипсвич и поехали по узкому проселку почти вплотную к песчаному взморью. Вокруг не было видно ни единой постройки; судя по состоянию дороги, в этих краях редко передвигались на автомобилях. По обветренным телефонным столбам ползли лишь два провода. То и дело мы ехали по старым деревянным мостам над ручьями, убегавшими в глубь материка и служившими природной преградой между этим пустынным краем и остальным штатом.
Порой я замечал темные пни и останки фундаментов, торчащие из зыбучих песков, и мне вспомнилась старинная легенда, о которой я прочитал в книге по истории здешних мест. Легенда гласила, что некогда это был благодатный и плотно населенный край, но все резко изменилось после иннсмутского поветрия 1846 года. Как повелось у недалеких фермеров, эти перемены сразу стали связывать с произволом неких тайных темных сил. На самом деле причиной запустения стала бездумная вырубка прибрежных лесов, лишившая местную почву надежной защиты и открывшая путь для скорого наступления берегового песка, приносимого дующими с моря ветрами.
И вот остров Плам скрылся из виду, и слева я увидел бескрайние просторы Атлантики. Наша узкая дорога начала карабкаться вверх по крутому склону, и меня вдруг охватило неприятное беспокойство, когда я заметил впереди одинокий горный хребет, где ухабистый проселок встречался с небом. Можно было подумать, что автобус готов без остановки продолжить движение вверх по склону, чтобы через несколько миль оторваться от земли и слиться с неведомой тайной эфира и загадочных небес. Запах моря неожиданно стал каким-то зловещим, а сутулая спина молчаливого водителя и его узкая голова показались мне еще более омерзительными. Глядя на него, я заметил, что его затылок, как и лицо, практически безволосый, и лишь местами из сизой чешуйчатой кожи торчали редкие желтые пряди.
Затем мы достигли вершины хребта, и моему взору открылась широкая долина, где Мануксет впадал в море к северу от длинной гряды скал с высочайшим пиком Кингспорт-Хед; гряда уходила в сторону полуострова Кейп-Энн. На дальнем туманном горизонте я мог различить лишь величественный профиль пика, увенчанный диковинным старинным домом, упоминавшимся во многих легендах; но в какой-то момент мое внимание привлекла открывшаяся прямо под нами панорама города. И тут я понял, что это и есть окутанный мглой тайны Иннсмут.
В этом широко раскинувшемся городе с довольно плотной застройкой меня сразу же неприятно поразило отсутствие признаков кипучей жизни. Над крышами торчали легионы печных труб, но дымок вился лишь из очень немногих. Три высокие серые башни отчетливо выделялись на фоне морского горизонта. Шпиль на одной из них давно обвалился, и на ней, как и на ее соседке, вместо циферблата часов зиял черный провал. Необъятная для взора масса провисающих двускатных крыш и ветхих фронтонов с пронзительной ясностью обличала явный и далеко зашедший упадок. По мере продвижения по пустынной дороге я все отчетливее видел, что многие крыши держатся лишь на куцых обломках стропил, а некоторые обвалились целиком. Еще я заметил несколько крупных особняков в георгианском стиле, с куполообразными башенками и смотровыми площадками на крышах. Они располагались на приличном расстоянии от набережной; по меньшей мере два из них были в хорошем состоянии. От построек из города в глубь материка тянулись покрытые ржавчиной и травой рельсы брошенной железнодорожной ветки с телеграфными столбами без проводов по обеим ее сторонам да еле заметные ленты старых проселочных дорог на Раули и на Ипсвич.
Приметы запустения особенно бросались в глаза в прибрежных кварталах, но и там я сумел разглядеть белую колокольню над неплохо сохранившимся кирпичным зданием, с виду – небольшим заводом. Гавань, давно заметенную песком, ограждал от моря древний каменный волнорез, на котором, напрягши зрение, я различил крохотные фигурки рыбаков; на самом его краю высились останки фундамента от давно не существующего маяка. От каменного волнореза в глубину гавани длинным языком тянулась песчаная коса, на которой я заметил несколько ветхих лачуг, причаленные плоскодонки да разбросанные верши для ловли омаров. Единственное глубокое место в бухте, похоже, было там, где река разливалась позади здания с колокольней и потом резко изгибалась к югу, прежде чем встретиться с океаном в самом конце волнореза.
Там и сям вдоль берега торчали прогнившие руины пирсов; те, что были в южной части гавани, казались давным-давно заброшенными и полностью изъеденными гнилью. А далеко в море, несмотря на прилив, я заметил длинную черную полосу, едва виднеющуюся над водой и навевавшую мысли о древней тайной пагубе. Это, вероятно, и был печально знаменитый Риф Дьявола. Глядя на него, помимо мрачного отвращения я вдруг ощутил некую необъяснимую тягу к нему; как ни странно, эта его смутная притягательность встревожила меня гораздо больше, нежели первоначальное отвращение.
На дороге нам никто не встретился, и вскоре мы поехали мимо заброшенных ферм в разной стадии упадка. Потом я заприметил несколько обитаемых домов – их выбитые окна были законопачены тряпьем, а дворы усеяны битыми ракушками и дохлой рыбой. Раз или два я видел взрослых мужчин, вяло копающихся на пустых огородах или выковыривающих из берегового песка моллюсков, да чумазых детишек с обезьяньими личиками, игравших подле заросших бурьяном крылец своих домов. Вид этих людей показался мне даже более гнетущим, чем самые унылые городские пейзажи, поскольку в их движениях, а также почти на всех лицах проступало нечто противное и даже противоестественное, – хотя я и не смог бы четко сформулировать, за счет чего создавалось такое впечатление. На секунду картинка за автобусным окном словно бы напомнила мне гравюру из какой-то книги; не иначе как я разглядывал ее в состоянии исключительного ужаса и подавленности. Но это мимолетное и недооформленное воспоминание промелькнуло очень быстро – и испарилось.
Когда автобус съехал со склона в низину, я уловил в неестественной тишине далекий шум водопада. Здесь покосившиеся некрашеные домишки плотно теснились друг к другу по обеим сторонам дороги и больше походили на городские постройки, нежели те лачуги, что остались позади. За лобовым стеклом теперь я мог видеть только улицу. Я сразу заметил участки, где проезжая часть некогда была вымощена булыжниками, а тротуары выложены кирпичом. Все дома в этой части города были явно заброшены, и между ними то и дело попадались небольшие пустыри, где лишь обвалившиеся дымоотводы и закопченные стены подвалов скорбно напоминали о кипевшей тут некогда жизни. Всюду стоял скверный рыбный смрад.
Вскоре показались перекрестки и развилки улиц: те, что слева, убегали к прибрежным кварталам, где на немощеных улицах царило убогое запустение, а те, что справа, вели в мир былой роскоши. До сих пор я еще не увидел ни единого человека на городских улицах, зато в домах появились скудные приметы жизни: портьеры на окнах, драные половики у порогов, старенькие автомобили у дверей. Проезжая часть и тротуары были здесь в заметно лучшем состоянии, чем в иных частях города; хотя большинство деревянных и каменных домов были явно старой постройки – начала девятнадцатого века, – все они оставались вполне пригодными для проживания. Очутившись в этом богатом районе, сохранившемся с прошлого века, я, как истый любитель древности, сразу избавился и от гадливости, которую провоцировала вездесущая рыбная вонь, и от подсознательного чувства угрозы.
Но окончание поездки ознаменовалось для меня потрясением весьма неприятного свойства. Автобус выехал на открытую площадь, по обе стороны которой высились церкви, а в центре виднелись грязные остатки круглой клумбы. Но тут мое внимание привлекло величественное здание с колоннами на перекрестке справа. Некогда белая краска на его стенах посерела и во многих местах облупилась, а черно-золотая вывеска на каменном постаменте настолько потускнела, что я лишь с превеликим усилием смог прочитать слова «Эзотерический Орден Дагона». Значит, это бывший масонский храм, занятый теперь неоязычниками! Пока я разбирал блеклые литеры на постаменте, с дальней стороны улицы раздался пронзительный бой надтреснутого колокола. Я поспешно повернул голову и выглянул в окно.
Звуки колокола доносились с приземистой каменной церкви в псевдоготическом стиле, явно выстроенной гораздо позже, чем окрестные дома; у нее был непропорционально высокий подвальный этаж, где все окна были наглухо закрыты ставнями. Хотя обе стрелки на башенных часах отсутствовали, я сосчитал пронзительные удары и понял, что бой возвестил одиннадцать часов. И тут мои мысли о времени внезапно были сметены мимолетным, но необычайно отчетливым видением и волной неминучего ужаса, обуявшего меня, прежде чем я смог догадаться, в чем, собственно, дело. Дверь в церковный погреб была распахнута, и в проеме виднелся прямоугольник кромешной тьмы. Когда я заглянул в дверной проем, некая фигура стремительно возникла и исчезла – или мне так показалось – на его фоне, заставив меня невольно заподозрить нечто ужасное. Впрочем, если рассудить здраво, в этой фигуре ничего кошмарного не было – и быть не могло!
Это был человек – не считая водителя, первый увиденный мной после того, как автобус въехал в центральную часть города, – и, не будь я в столь возбужденном состоянии, я бы не усмотрел в нем ничего ужасного. Через мгновение я догадался, что увидел пастора в диковинном ритуальном облачении, которое стало общепринятым после того, как Орден Дагона изменил обряды в местных церквах. И то, что, по всей видимости, привлекло мое внимание и вызвало мимолетный приступ необъяснимого ужаса, оказалось высокой тиарой на его голове – почти точной копией той, что миссис Тилтон показывала мне недавно. Да, именно эта тиара, взбудоражив мою фантазию, заставила меня приписать зловещие черты человеку в странном облачении, которого я заметил в темном церковном подвале. Так что, сделал я вывод, нет ровным счетом никакого разумного объяснения охватившему меня приступу паники. Ничего удивительного, что местный таинственный культ использует в качестве атрибута своего ритуального облачения диковинный головной убор, который, как считали местные жители, попал сюда загадочным образом – вроде как из старинного клада.
Только теперь на тротуаре появились редкие прохожие – молодежь отталкивающей наружности, передвигавшаяся смешанными молчаливыми группками по двое-трое. Кое-где в нижних этажах обветшалых зданий располагались мелкие лавчонки с вылинявшими вывесками, и, пока мы ехали мимо, я заметил один-два припаркованных грузовичка. Шум падающей воды стал громче, и вскоре я увидел впереди реку, протекавшую по довольно глубокому ущелью, через которое был перекинут широкий мост с железными перилами; дальше за мостом виднелась большая площадь. Когда автобус с грохотом катил по мосту, я глазел по сторонам, рассматривая фабричные здания на поросшем травой пустыре впереди. Река под мостом была полноводная, и я заметил справа выше по течению два мощных водопада и минимум еще один – чуть ниже. На мосту рев низвергающейся воды стал чуть ли не оглушающим. Миновав мост, автобус выехал на большую полукруглую площадь и подкатил к фасаду высокого, увенчанного куполом здания с остатками желтой краски на стенах и с полустертой вывеской, гласившей, что это и есть «Гильман-хаус».
Я с облегчением вышел из автобуса и, зайдя в обшарпанный вестибюль гостиницы, сразу же пристроил свой саквояж в гардеробе. В вестибюле я увидел только старика-портье – причем без характерных черт этого, как я его окрестил, «иннсмутского экстерьера», – но решил не задавать ему лишних вопросов, памятуя о замеченных в этой гостинице странностях. Вместо того я вышел на площадь и, увидев, что автобус уже уехал, оглядел окрестности оценивающим взглядом.
С одной стороны вымощенная булыжником площадь граничила с рекой, а с другой была окаймлена полукругом кирпичных зданий начала девятнадцатого века, с высокими двускатными крышами; от площади лучами разбегались улицы – на юг, юго-восток и юго-запад. Уличных фонарей явно недоставало, и все они были оснащены маломощными лампами накаливания, так что я лишний раз порадовался своему решению покинуть этот город еще до наступления темноты, – хотя, насколько я знал, сегодня ночь обещала быть ясной и лунной. Все здания были в сносном состоянии, и я заметил не меньше дюжины работающих заведений – в их числе сетевую бакалею «Ферст нэшнл», дешевую столовую, аптеку и контору по оптовой торговле рыбой. Далеко в восточной части площади, у самой реки, зазывала приоткрытыми дверями контора единственного промышленного предприятия в городе – аффинажной компании Марша. На глаза мне попались человек семь горожан, и я насчитал четыре или пять легковых автомобилей и грузовиков, стоявших без движения в разных углах площади. Судя по всему, это и был центр деловой и общественной жизни Иннсмута. Посмотрев на восток, на горизонте я заметил водную гладь гавани, на фоне которой высились развалины некогда красивых георгианских башен. Ближе ко взморью, на противоположном берегу реки, виднелась белая колокольня над зданием – как можно было догадаться, над аффинажным заводом Марша.
Сам не знаю, почему я решил начать расспросы в сетевой бакалее, чьи сотрудники вряд ли были родом из Иннсмута. Я быстро нашел старшего – юношу лет семнадцати – и, к своей радости, отметил его сообразительность и учтивость. Казалось, малый был не прочь поболтать, и очень скоро я выведал, что в городе ему все не нравится: и рыбный смрад, и нелюдимые жители. Его явно радовала возможность перекинуться парой слов с приезжим. Он был родом из Аркхема, а здесь снимал квартиру у семьи, переехавшей из Ипсвича, и в каждый выходной, если выпадала такая возможность, сразу же возвращался к родителям. Те не одобряли его работу в Иннсмуте, но сюда его назначило руководство торговой сети, и ему не хотелось потерять место.
В Иннсмуте, по словам юноши, не сыскать ни публичной библиотеки, ни торговой палаты; но зато здесь трудно заблудиться. Улица, по которой я шел от гостиницы, называлась Федерал-стрит, к западу от нее пролегали благополучные кварталы на Брод, Вашингтон, Лафайет и Адамс-стрит, а к востоку – приморские трущобы. Именно в этих трущобах – вдоль Мейн-стрит – я смогу найти старинные георгианские церкви, но они давно уже заброшены. Было бы разумно не привлекать внимания тамошних обитателей – особенно в районах к северу от реки, где люд живет крайне неприветливый. Бывало, и не раз, что приезжие там бесследно исчезали.
Некоторые места в городе считались чуть ли не запретной территорией – это он узнал на своей шкуре. Не стоит, к примеру, долго задерживаться около аффинажного завода Марша или возле действующих церквей либо бродить вокруг храма Ордена Дагона на площади Нью-Черч-Грин. Местные церкви отличались странностями; от них решительно отреклись все единоверцы из прочих мест, потому что там явно практиковали очень уж странные обряды, а их священники носили очень уж диковинные облачения. Их вера явно была основана на ереси и тайных культах, которые включали элементы неких чудесных превращений, способствующих распространению на нашей земле телесной распущенности. Духовник моего собеседника – доктор Уоллес из Методистской евангелической церкви Эсбери в Аркхеме – настоятельно рекомендовал ему держаться подальше от городских храмов.
Что же до самих обитателей Иннсмута, то юноша не мог сказать о них ничего определенного. Они отличались чрезвычайной скрытностью и крайне редко показывались на свет – точно лесные звери, обитающие в земляных норах. Невозможно было представить, как они вообще проводят свои дни, помимо рыбалки, которой занимались от случая к случаю. Возможно (если судить по количеству потребляемого ими нелегального спиртного), они целыми днями пребывали в алкогольном отупении. Их всех объединяли прочные узы угрюмого братства или тайного знания и некая ненависть к внешнему миру, точно у них имелся доступ к каким-то иным, более предпочтительным для них сферам бытия. У многих из них была пугающая внешность – особенно немигающие выпученные глаза, – а уж их голоса могли повергнуть в дрожь неподготовленного человека. От их обрядовых песен, доносившихся по ночам из храмов, пробирал мороз по коже – особенно во время их главных праздников или всеобщих бдений, отмечавшихся дважды в год, 30 апреля и 31 октября.
Они обожали воду и много плавали в реке и в гавани. Часто устраивали заплывы на скорость к Рифу Дьявола, и в такие дни все, кто был физически крепок, выползали на свет божий и принимали участие в состязании. Правда, если подумать, на глаза в этом городе попадались лишь относительно молодые люди, причем у тех, кто сильно постарше, почти у всех без исключения, на лицах проявлялись признаки какого-то дефекта или уродства. А если исключения и встречались, то это были люди вообще без каких-либо признаков физических отклонений – вроде старика портье в гостинице, – и оставалось лишь гадать, куда подевались представители старого поколения горожан и не был ли «иннсмутский экстерьер» признаком неведомой и медленно прогрессирующей болезни, которая с годами внешне проявлялась все сильнее. Ведь только крайне редкое заболевание могло бы вызвать у человека в зрелом возрасте глубокие деформации костной структуры – к примеру, изменение строения черепа. Было бы сложно, заметил юноша, сделать какой-то определенный вывод относительно этого феномена, потому как никто еще не заводил близкого знакомства с местными жителями, даже прожив в Иннсмуте довольно долго.
Юноша был уверен, что наиболее уродливых особей держали дома под замком. В некоторых районах города подчас слышали очень необычные звуки, доносившиеся из-за стен. По слухам, припортовые лачужки к северу от реки соединялись сетью тайных туннелей, образуя самый настоящий лабиринт под землей; возможно, он кишел невыразимыми уродами. Трудно сказать, какие чужие крови – если это и впрямь чужие крови – смешались в этих существах. Самых отвратных субъектов часто упрятывали подальше, когда в город являлись чиновники или приезжие издалека.
Совершенно бесполезно, уверил меня собеседник, расспрашивать местных об этом городе. Только один согласился бы на такой разговор: очень древний, но с виду вполне нормальный старик, что жил в ночлежке на северной окраине города и целыми днями околачивался возле пожарной части. У убеленного сединами дедули по имени Зидок Аллен, которому девяносто шесть лет от роду, явно были не все дома, и еще он был известный на весь город пропойца. Это был чудаковатый, очень недоверчивый человек, который вечно оглядывался через плечо, точно боялся чего-то. Когда он бывал трезв, ничто не могло заставить его вступить в беседу с незнакомцем, однако если предложить ему порцию его излюбленной отравы, он был не в силах устоять перед искушением и, налакавшись, мог нашептать на ухо невольному слушателю свои самые сокровенные воспоминания, от которых просто волосы вставали дыбом. Впрочем, из него можно было выудить лишь крохи полезной информации, так как все его россказни сводились к бредовым и очень уклончивым намекам на какие-то невероятные чудеса и ужасы, которые, скорее всего, существовали исключительно в его пьяных фантазиях. И хоть никто ему не верил, местные страшно не любили, когда он, напившись, пускался в беседы с приезжими; более того: если незнакомца замечали беседующим с ним, это могло иметь самые печальные последствия. Вероятнее всего, от этого забулдыги и пошли самые невероятные слухи и предрассудки, связанные с Иннсмутом. Кое-кто из горожан-переселенцев время от времени заявлял, будто видел каких-то чудовищ, но чему ж тут удивляться, коли все были наслышаны про байки старого Зидока, вдобавок всем было известно, что некоторые обитатели города действительно страдали от каких-то физических уродств. Никто из этих переселенцев не выходил из дому по ночам: ведь, как говорили втихомолку, очень неразумно появляться на улице в поздний час. К тому же ночью Иннсмут всегда был погружен в кромешную тьму.
Что же до бизнеса, то изобилие рыбы в здешних водах – факт почти необъяснимый, но горожане все реже стали пользоваться этим благом к своей выгоде. К тому же и цены сильно упали, и конкуренция выросла. По словам юноши, в городе остался единственный настоящий бизнес – аффинажный завод, чья контора располагалась на площади всего в нескольких шагах к востоку от бакалейного магазина, где мы вели нашу беседу. Старик Марш никогда не показывался людям на глаза, но изредка видели, как он направляется на свой завод в автомобиле с плотно занавешенными окнами.
Ходило множество разных слухов о нынешней внешности Марша. Некогда он слыл большим модником, и люди говорили, что он до сих пор щеголяет в роскошном сюртуке, скроенном по эдуардовской моде[17 - Мода первого десятилетия ХХ века, периода царствования британского короля Эдуарда VII.], теперь специально подогнанном под его скрюченную фигуру. Один из его сыновей еще до недавней поры трудился управляющим в конторе на площади, но старик Марш, скрывающий свои дела от посторонних глаз, переложил основное бремя забот на более молодое поколение клана. Сыновья и дочери Марша в последнее время стали выглядеть очень странно, особенно старшие. Говаривали, что их здоровье нешуточно пошатнулось.
Одна из дочерей Марша – пучеглазая женщина с отталкивающим большим ртом – любила обвешиваться диковинными украшениями, изготовленными в такой же дикарской традиции, что и странная тиара. Мой собеседник видел эту тиару много раз и слышал, будто бы ее нашли в тайной сокровищнице, принадлежавшей то ли пиратам, то ли язычникам. Здешние клирики – или священники, или как их там называли – носили головные уборы наподобие этой тиары. Но этих мало кто встречал лично. Никаких других представителей местного населения юноша не видел, хотя, по слухам, их в Иннсмуте тьма-тьмущая, и все они – самого экзотического вида и нрава.
Марши, как и три другие благородные семьи города – Уэйтсы, Гильманы и Элиоты, – были очень нелюдимы. Они проживали в огромных особняках на Вашингтон-стрит, и кое-кто из них, как говаривали, держал взаперти некоторых своих родичей, чья внешность не позволяла выставлять их на всеобщее обозрение; однако, когда те умирали, их смерть всегда предавалась огласке и должным образом регистрировалась.