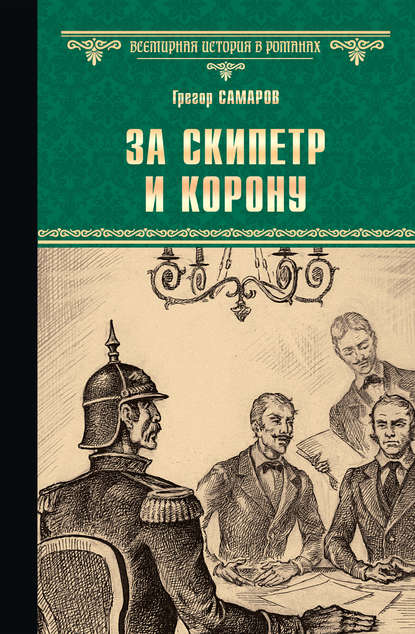По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
За скипетр и корону
Автор
Жанр
Год написания книги
1872
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А что может думать Наполеон о вашем отношении к этим его мыслям? – продолжал спрашивать Мантейфель.
– Что хочет, – отвечал Бисмарк довольно небрежно. – Так как он ничего не требовал, я не имел основания что-либо ему обещать, а доказывать нелепость и невыполнимость его желаний не входило в мою задачу.
– Понимаю, – кивнул Мантейфель.
– Ганновер нужно будет за уступки вознаградить в Лауэнбурге и Гольштейне.
– Этого требовал император Наполеон? – спросил несколько удивленно Мантейфель.
– Отнюдь нет, – отвечал Бисмарк. – По традициям своего семейства он не любит Вельфов, а вы видите, что базис всего переустройства – прусское преобладание в Северной Германии. Стало быть, ему все равно, что там происходит, но наш всемилостивейший государь придает большое значение тому, чтобы Ганновер в предстоящей борьбе стоял на нашей стороне и старинные семейные связи, существующие между двумя домами, сохранились в будущем.
– А вы сами, – допрашивал Мантейфель, – что думаете о ганноверском вопросе?
– Становясь на чисто объективную политическую точку зрения, – отвечал откровенно Бисмарк, – я должен желать, чтобы Ганновера вовсе не существовало, и должен выразить сожаление, что нашим дипломатам на Венском конгрессе[9 - Венский конгресс 1814–1815 годов завершил войны коалиций европейских государств против наполеоновской Франции. Заключенные договоры, в частности, закрепляли политическую раздробленность Германии и Италии.] не удалось убедить английский дом к уступке этого secundo genitur[10 - Термин, определяющий владение младшей ветви королевского рода.] – что, может быть, могло бы удаться. Ганновер – гвоздь в нашем теле, и при самых лучших обстоятельствах причиняет боль, а если там подчиняются враждебному настроению, – как видно уже давно, – то он становится для нас опасным. Если б я был таким макиавеллистом, каким меня считают, то должен был бы устремить все свое внимание на приобретение Ганновера и, возможно, это не так трудно, как кажется, – продолжал Бисмарк, как бы невольно следуя цепи размышлений. – Ни английская нация, ни английский королевский дом не могут слишком близко принимать к сердцу его судьбу, и… но вы знаете, наш всемилостивейший государь очень консервативен и глубоко чтит ганноверско-прусские традиции, воплощаемые в Софии-Шарлоте и королеве Луизе, а я консервативен не менее – для меня те традиции тоже святы, и я всем сердцем присоединяюсь к желаниям короля хранить их в будущем и обеспечить прочное существование Ганновера. Но дело не может оставаться в теперешнем положении. Нам необходимы гарантии, и чем более жизнь государства в своей самобытности определяется и концентрируется, чем более международные сношения служат проводниками политики и преобразуются в ее плоть и кровь, тем менее Пруссия может терпеть, чтобы в ее теле, так близко к сердцу, существовал чуждый элемент, способный сделаться враждебным при любом кризисе. Поэтому могу вам ответить совершенно серьезно: я честно и откровенно стремлюсь к приобретению Ганновера, и если он, со своей стороны, чтит древние традиции и искренно нам предан, то я ему доставлю надежное и почетное, даже блестящее положение в Северной Германии. Но, конечно, ганноверцы должны перестать давать нам чувствовать, что могут быть препятствием для нас.
– И вы надеетесь добиться соглашения с Ганновером? Серьезного, прочного союза? – спросил Мантейфель.
– Надеюсь, – отвечал Бисмарк после короткой паузы. – Граф Платен был здесь. Вы с ним знакомы?
Мантейфель улыбнулся.
– Ну, – продолжал Бисмарк, – мы ничего не жалели: его осыпали всевозможными любезностями, дали большой крест Красного орла.
– Не Черного? – спросил Мантейфель.
– Ба! Надо же было оставить пороху про запас. Он и так был вне себя от счастья, и кроме того, я предложил ему семейный союз, которого Его Величество сам горячо желает и которым весь вопрос может быть решен сразу и самым дружелюбным образом.
– Я слышал об этом случайно, – вставил Мантейфель. – Вы думаете, что этот проект может удаться?
– В самом Ганновере к нему отнеслись благосклонно, – отвечал Бисмарк. – И в Нордернее так же, как в Мариенбурге, но время покажет, что из этого выйдет, для меня же важнее всего политика.
– А что обещал граф Платен в этом отношении?
– Нейтралитет – то же, что он уже сделал относительно принца Изенбургского.
– И союз, стало быть, заключен?
– Граф Платен, конечно, не мог сделать этого один; кроме того, ему хотелось, чтобы дело оставалось в тайне, дабы до времени не возбудить опасения во Франкфурте и Вене. Между тем он дал мне твердые заверения, и одновременно так едко высказывался о Бейсте и венской государственной канцелярии, что я не могу ему не верить.
– Извините, – вставил Мантейфель, – но, придавая некоторое значение этому ганноверскому вопросу, я отношусь к нему скептически. Насколько мне кажется, он ограничивается разговорами без положительного результата – уверениями и обещаниями графа Платена. Не лучше ли было в самом Ганновере сделать серьезные шаги? Георг Пятый – не Людовик Тринадцатый, а граф Платен – не Ришелье.
– Я сам об этом думал, – заметил Бисмарк. – Вы знаете, что аккредитованный здесь от Ганновера Штокгаузен состоит в родстве с Бодиссинами? Один Бодиссин, писатель, фельетонист, которого вам, может быть, называли, свел молодого Штокгаузена, служащего секретарем у своего отца, с Кейделем. Может быть, этим путем удастся добиться непосредственного влияния в Ганновере. Во всяком случае, повторяю, что серьезно желаю прочной и окончательной дружбы с Ганновером и сохранения ганноверского престола, и употреблю все от меня зависящее, чтобы прийти к этому результату, вопреки известному вам предубеждению многих пруссаков. С Ганновером тесно связан Кур-Гессен. Курфюрст, кажется, хочет идти по стопам ганноверского короля. Впрочем, этот вопрос меня мало заботит, он не династический.
– Ну, – продолжал спрашивать Мантейфель, – а считаете ли вы возможным в случае войны с Австрией добиться нейтралитета Баварии и Вюртемберга?
– Нет, – отвечал Бисмарк. – Австрийская партия всемогуща в Мюнхене, и принц Рейс пишет мне, что, с тех пор как там прослышали про Итальянский союз, баварский нейтралитет стал безусловно немыслимым. Единственное, на что можно надеяться, это на вялость столкновения, так как самый серьезный пункт будет в Богемии. Вот вам в существенных чертах положение дела. Если вам угодно разъяснить какой-нибудь отдельный пункт, спрашивайте меня, а теперь прошу вашего мнения en connaissance de cause[11 - Со знанием дела, основательно (фр.).].
Мантейфель несколько минут молча смотрел в пол, затем поднял взгляд на лицо собеседника, в высшей степени напряженное, и начал тем мягким, спокойным голосом и тем легко льющимся внушительным тоном, который – хотя он никогда не был публичным оратором – в личном общении придавал ему такое своеобразно-убедительное красноречие:
– Во всяком случае, я вижу, что вы продумали все моменты, подлежащие обсуждению перед началом серьезной борьбы, и что многое сделано, чтобы обеспечить успех своей стороне, однако только в одном пункте я вижу нечто в самом деле готовое, законченное и надежное. Этот пункт – прусская армия. Все остальное здание непрочно и шатко. Положение Франции далеко нельзя считать ясным и твердым, Германия кажется мне враждебной, затем – говоря откровенно – я не доверяю Ганноверу: политика верности и предусмотрительности не в характере короля, и, повторяю, Ганновер может быть очень опасен. Подумайте, что бригада Калика еще в Гольштейне, подумайте, что Ганновер и Гессен могут выставить довольно значительные силы, а у вас не много остается, чтобы действовать там. Италия? Вы говорите, что союз с ней надежен. Хорошо, допустим, она сдержит слово, но уверены ли вы, что итальянская армия может рассчитывать на успех? Я не думаю. Какими слабыми не были бы силы Австрии на итальянском театре войны, в пределах четырехугольника крепостей Австрия всегда будет бить итальянцев. Этот театр австрийский генеральный штаб знает как шахматную доску, его воспитывают – если хотите – дрессируют одерживать там победы, так что я не предвижу ничего, кроме поражения для Италии.
– Но, – вставил живо Бисмарк, – уже то обстоятельство, что Австрия будет вынуждена действовать на двух театрах войны, довольно значимо. Сколько войск могут нам противопоставить? Австрия уверяет различные немецкие дворы, как мне доносили, что у нее восемьсот тысяч солдат, – а я знаю точно, что у нее нет и половины этого числа.
– Ну, допустим даже, что есть – главное все-таки не количество, а качество армии. Теперь второй, более серьезный вопрос: нужна ли война? Таково ли положение, чтобы было обрекать себя на все несчастья, на все страшные опасности такой тяжелой борьбы? Вы знаете, что я тоже желаю видеть Пруссию во главе Германии – желаю этого как пруссак, как немец, и работал в этом русле как министр, пока был в силах. Но я руководствовался тем, что такие вопросы должны решаться временем и созревать путем органического развития, и всегда находил величайшего врага прусского преобладания в Германии в недоверии немцев. Это недоверие, страх государей за их престолы и за будущее своих династий, страх населения областей за свою автономию, всегда служили отличным орудием в руках Австрии, так как она сама, благодаря слишком большому и сложному своему составу, избавлена от подобных опасений. Я считал задачей Пруссии – и со своей стороны стремился к тому, – приобрести доверие государей и народов Германии. Как только это удастся – первенство за нами и роль Австрии кончена, потому что, не будь этого недоверия, и немецкий дух, дух развития и просвещения, дух идущей вперед народной жизни, – за нас. Кроме того, я имею свои личные воззрения на прусскую войну. Наше могущество велико, но исключительно и своеобразно, потому что в полном своем развитии ставит всю страну на поле битвы, и при неблагоприятном обороте мы окажемся ближе к крайней катастрофе, чем какое-либо другое государство. Пока наше могущество впечатляет, оно очень велико, но умаляется по мере действительного вступления в дело. Пока мы стоим с ружьем у ноги, с нами приходится неизбежно считаться и, – прибавил Мантейфель с выражением спокойного удовольствия, – Парижский мир говорит отчасти в пользу моего утверждения. Зачем же окончательно подрывать доверие, уже отчасти потрясенное новой эрой, в чем необходимость серьезно рисковать могущественным резервным положением Пруссии ради азартной игры в войну? Вы сочтете меня, может быть, – прибавил он с печальной улыбкой, – за малодушного, но так как вы спрашивали моего мнения, спрашивали настойчиво, то я со своей стороны считаю себя вправе адресовать вам эти вопросы.
Пока Мантейфель говорил, на лице Бисмарка отражалось волнение. По нему ходили желваки. Но он, однако, не позволял себе прерывать речь собеседника ни движением, ни словом.
Когда Мантейфель кончил, министр-президент стремительно встал, подошел к своему гостю и, порывисто взяв его за руку, проговорил:
– О, мой высокочтимый друг! Я знаю эти ваши воззрения, я знаю благородные побуждения, двигавшие и руководившие вами, пока вы держали кормило Прусского государства, я знаю вашу добросовестность и предусмотрительность. Поверьте мне, я тоже далек от того, чтобы легкомысленно играть судьбами прусского государства, этого искусного результата вековой заботливости! Поверьте мне, не я вызывал эту войну – я в положении обороняющегося, и если не с такой благоговейной опаской, как король, отступаю перед неизбежностью встать к барьеру с коварной Австрией, то мне все-таки ни в каком случае не хотелось бы доводить до крайности. Но я знаю, что в Вене хотят войны, что там не желают признавать даже положения, принадлежащего нам по праву. Мало того, нас хотят придавить и придушить в механизме союзов, который вам известен и который вам тоже доставлял столько забот и тревог. Саксонец Бейст и его друзья в Вене, сангвиник Мейзенбук, честолюбивый педант Бигелебен и синий Макс Гагрен мечтают о новом немецком государстве, в котором созданный ими парламент возвел бы императора Франца-Иосифа на германский престол, и сам император живет и грезит этими мечтами. Они ему положительно вскружили голову комедией Франкфуртского княжеского сейма[12 - Союзный сейм – центральный орган Германского союза, заседавший во Франкфурте-на-Майне; председательствовала в нем Австрия.]. Эти глупцы не понимают, – вскричал он, сделав несколько размашистых шагов по комнате, – что во Франкфурте не тот был император, кто под ликованье уличной толпы сервировал boeuf historique[13 - Блюдо истории.] и поднимал бедных немецких государей, – прибавил министр с горькой усмешкой, – из постели на рассвете для matinee politique[14 - Утренняя политика.], причем мне предоставлялось наслаждаться подогретой водицей бейстовской премудрости! Нет, конечно, императором был не он, а тот, от чьего холодного «нет», от чьего простого отрицания вся затея разлеталась в прах. И неужели я должен спокойно выжидать, пока представится более благоприятный момент для приведения этих планов в исполнение? И затем, мой высокочтимый друг, – продолжал Бисмарк, снова подходя к Мантейфелю, слушавшему его с невозмутимым спокойствием, – и затем, разве не бывают минуты, в которые необходимы смелая решимость и быстрое исполнение, чтобы достичь великого и устранить грозные опасности? И разве в истории нашей Пруссии такие минуты случались не чаще, нежели в иных странах? Что было бы с Пруссией, если б Фридрих Великий стал выжидать, пока те, совершенно сходные с нынешними, планы Австрии и Саксонии достигли зрелости? Если бы он быстрым, сильным мановением своей смелой руки не разорвал сетей зависти и злобы? Что было бы с Пруссией без смелого шага Йорка? О, мой уважаемый друг! – вскричал с одушевлением Бисмарк, причем его фигура как бы выросла и стала шире. – Чувство говорит мне и разум не противоречит, что дух Фридриха Великого и дух тысяча восемьсот тринадцатого года есть жизненный дух, веющий по всей прусской истории, и что на великих мировых часах показывается час, когда Пруссия должна идти вперед! А не идти вперед в этом случае значит отступать назад на неопределенное расстояние. Неужели я с таким убеждением в сердце должен сидеть неподвижно и позволить прийти беде, выжидать, – прибавил он тише, – пока, быть может, рука менее твердая, чем моя, душа менее мужественная, чем та, которую я в себе чувствую, будут призваны встретить опасность лицом к лицу?
До сих пор Мантейфель, опираясь слегка рукой на письменный стол и опустив взгляд, оставался неподвижен. Теперь он приподнялся и посмотрел прямо в глаза министру-президенту, который в сильном волнении, с каким-то боязливым напряжением ждал его ответа.
– Граф, – сказал он спокойным голосом, в котором, однако, слегка угадывался более теплый оттенок, – вы касаетесь струны, которая, как вы знаете, звучит в каждом пруссаке и тон которой проходит и через мою жизнь. Кто станет отрицать, что есть моменты, в которые спасает только смелое действие, кто станет отрицать, что Пруссия, энергично пользуясь такими моментами, стала тем, что она теперь! Но стоим перед таким моментом сейчас – этого никто из смертных безошибочно решить не может, и я не стану с вами препираться: судить об этом по долгу и совести и действовать сообразно полученным заключениям – дело того, кто в такие моменты стоит у ступеней престола. Вы находитесь на таком месте, и вам, что бы ни случилось, придется отвечать перед историей, отечеством и королем. Вам и решать, что нужно делать, и я ни в коем случае не хотел бы ставить под сомнение ваше решение. Но есть еще вопрос – не пугайтесь, он будет последний, хотя, может быть, самый существенный.
Мантейфель сделал шаг к Бисмарку и спросил, понизив голос на один тон и придав ему этим еще большую выразительность:
– Если в этой азартной игре карта выпадет против вас, если расчет шансов окажется ошибочным – мы все можем ошибаться, – если тогда победоносный противник захватит власть и к давно подготовленным замыслам прибавит высокомерие победы, а на нашей стороне останется горечь неудачи, то какие у вас составлены планы, какие сделаны приготовления, чтобы предохранить тогда Пруссию от крайней опасности, быть может, от совершенной погибели? Вы знаете, я всегда придерживался правила, что хороший генерал прежде всего должен думать об отступлении и обеспечить его, поэтому вы найдете мой вопрос естественным и поймете, какое значение я ему придаю.
Оживленно-напряженное и взволнованное лицо Бисмарка подернулось надменным и холодным спокойствием, губы его нервно дрогнули, глаза сверкнули точно острие меча. Он заговорил тем металлически вибрирующим тоном, который в известные моменты способен принимать его голос:
– Если б я считал возможным, если б я думал, что прусскую армию способна разбить Австрия, я не был бы прусским министром!
При этих словах, высказанных тоном глубочайшего убеждения, Мантейфель отступил шаг назад и взглянул с выражением удивления и непонимания в просветлевшее и самоуверенное лицо министра-президента. Затем он медленно отошел в сторону, взялся за шляпу и, со спокойной вежливостью поклонясь Бисмарку, тоном обыкновенного салонного разговора промолвил:
– Кажется, цель нашей беседы достигнута, и я не смею дольше посягать на ваше время, принадлежащее многосложным обязанностям.
Оживление Бисмарка перешло в выражение болезненной скорби, и он отвечал печально:
– Цель не достигнута. Скажите лучше, что не хотите больше высказываться, так как мы стоим на крайних точках, между которыми нет ничего общего.
– Если это так, то не будет ни смысла, ни пользы, если мы продолжим вращаться долее в таких отдаленных сферах. Но я думаю, – прибавил он, слегка улыбаясь, – в одном отношении мы с вами сойдемся: в том, что время слишком дорого, чтобы тратить его на бесполезные слова.
– Так будьте здоровы, – сказал Бисмарк, крепко пожимая Мантейфелю руку, – вы оставляете меня беднее одной надеждой, слабее одной поддержкой.
– Вы не нуждаетесь в посторонней поддержке, – отвечал Мантейфель. – Но что бы ни случилось, будьте убеждены, что мои искренние чаяния устремлены на целость, величие и славу Пруссии.
И с легким поклоном он пошел к двери.
Бисмарк проводил его молча до аванзалы, затем вернулся к письменному столу, за которым просидел несколько минут в глубоком раздумье.
– Все, все! – крикнул он вдруг, вскочив и быстро зашагав по комнате. – Все поют ту же песню, говорят об ответственности, об опасностях, об ужасах войны! Но разве я не сознаю ответственности, не вижу опасностей, остаюсь холоден при мысли о бедствиях войны? Но именно потому, что я вижу опасность, я не могу отступать перед этими ужасами, не могу слагать с себя ответственности. Я знаю, почему большинство старается удержать меня от смелого шага: либеральные парламентаристы боятся пушечного грома, они боятся даже победы, и все слабоумные, которые хотели бы в трусливой косности ухватиться за Сегодня, чтобы не встретить лицом к лицу Завтра, ведь они никогда не хотят ничего честного и твердого, остаются теми же во все времена истории. Но Мантефель – человек дела и мужества, знает опасность и не боится ее, но и он тут отступает. Это серьезнее – одно слово этого человека могло бы поднять на воздух, как перышко, целый мир парламентских говорунов, дипломатов и бюрократов… Он хочет приготовить отступление!
Бисмарк простоял с минуту молча и в раздумье.
– И разве он не прав? – опять заговорил министр-президент глухо и мрачно. – Если последует неудача, враги восторжествуют, Пруссия погнется – сломится, что тогда? Отступить, как легкомысленный игрок, осужденный всеми, всей последующей историей, став посмешищем презренной толпы? Но, с другой стороны, отстраниться с сознанием победы в сердце, упустить момент и вместе с ним то великое, могучее будущее Пруссии, которое я вижу перед собой так ясно…
Минутной утраты
Не вернет никакая вечность…
– Что хочет, – отвечал Бисмарк довольно небрежно. – Так как он ничего не требовал, я не имел основания что-либо ему обещать, а доказывать нелепость и невыполнимость его желаний не входило в мою задачу.
– Понимаю, – кивнул Мантейфель.
– Ганновер нужно будет за уступки вознаградить в Лауэнбурге и Гольштейне.
– Этого требовал император Наполеон? – спросил несколько удивленно Мантейфель.
– Отнюдь нет, – отвечал Бисмарк. – По традициям своего семейства он не любит Вельфов, а вы видите, что базис всего переустройства – прусское преобладание в Северной Германии. Стало быть, ему все равно, что там происходит, но наш всемилостивейший государь придает большое значение тому, чтобы Ганновер в предстоящей борьбе стоял на нашей стороне и старинные семейные связи, существующие между двумя домами, сохранились в будущем.
– А вы сами, – допрашивал Мантейфель, – что думаете о ганноверском вопросе?
– Становясь на чисто объективную политическую точку зрения, – отвечал откровенно Бисмарк, – я должен желать, чтобы Ганновера вовсе не существовало, и должен выразить сожаление, что нашим дипломатам на Венском конгрессе[9 - Венский конгресс 1814–1815 годов завершил войны коалиций европейских государств против наполеоновской Франции. Заключенные договоры, в частности, закрепляли политическую раздробленность Германии и Италии.] не удалось убедить английский дом к уступке этого secundo genitur[10 - Термин, определяющий владение младшей ветви королевского рода.] – что, может быть, могло бы удаться. Ганновер – гвоздь в нашем теле, и при самых лучших обстоятельствах причиняет боль, а если там подчиняются враждебному настроению, – как видно уже давно, – то он становится для нас опасным. Если б я был таким макиавеллистом, каким меня считают, то должен был бы устремить все свое внимание на приобретение Ганновера и, возможно, это не так трудно, как кажется, – продолжал Бисмарк, как бы невольно следуя цепи размышлений. – Ни английская нация, ни английский королевский дом не могут слишком близко принимать к сердцу его судьбу, и… но вы знаете, наш всемилостивейший государь очень консервативен и глубоко чтит ганноверско-прусские традиции, воплощаемые в Софии-Шарлоте и королеве Луизе, а я консервативен не менее – для меня те традиции тоже святы, и я всем сердцем присоединяюсь к желаниям короля хранить их в будущем и обеспечить прочное существование Ганновера. Но дело не может оставаться в теперешнем положении. Нам необходимы гарантии, и чем более жизнь государства в своей самобытности определяется и концентрируется, чем более международные сношения служат проводниками политики и преобразуются в ее плоть и кровь, тем менее Пруссия может терпеть, чтобы в ее теле, так близко к сердцу, существовал чуждый элемент, способный сделаться враждебным при любом кризисе. Поэтому могу вам ответить совершенно серьезно: я честно и откровенно стремлюсь к приобретению Ганновера, и если он, со своей стороны, чтит древние традиции и искренно нам предан, то я ему доставлю надежное и почетное, даже блестящее положение в Северной Германии. Но, конечно, ганноверцы должны перестать давать нам чувствовать, что могут быть препятствием для нас.
– И вы надеетесь добиться соглашения с Ганновером? Серьезного, прочного союза? – спросил Мантейфель.
– Надеюсь, – отвечал Бисмарк после короткой паузы. – Граф Платен был здесь. Вы с ним знакомы?
Мантейфель улыбнулся.
– Ну, – продолжал Бисмарк, – мы ничего не жалели: его осыпали всевозможными любезностями, дали большой крест Красного орла.
– Не Черного? – спросил Мантейфель.
– Ба! Надо же было оставить пороху про запас. Он и так был вне себя от счастья, и кроме того, я предложил ему семейный союз, которого Его Величество сам горячо желает и которым весь вопрос может быть решен сразу и самым дружелюбным образом.
– Я слышал об этом случайно, – вставил Мантейфель. – Вы думаете, что этот проект может удаться?
– В самом Ганновере к нему отнеслись благосклонно, – отвечал Бисмарк. – И в Нордернее так же, как в Мариенбурге, но время покажет, что из этого выйдет, для меня же важнее всего политика.
– А что обещал граф Платен в этом отношении?
– Нейтралитет – то же, что он уже сделал относительно принца Изенбургского.
– И союз, стало быть, заключен?
– Граф Платен, конечно, не мог сделать этого один; кроме того, ему хотелось, чтобы дело оставалось в тайне, дабы до времени не возбудить опасения во Франкфурте и Вене. Между тем он дал мне твердые заверения, и одновременно так едко высказывался о Бейсте и венской государственной канцелярии, что я не могу ему не верить.
– Извините, – вставил Мантейфель, – но, придавая некоторое значение этому ганноверскому вопросу, я отношусь к нему скептически. Насколько мне кажется, он ограничивается разговорами без положительного результата – уверениями и обещаниями графа Платена. Не лучше ли было в самом Ганновере сделать серьезные шаги? Георг Пятый – не Людовик Тринадцатый, а граф Платен – не Ришелье.
– Я сам об этом думал, – заметил Бисмарк. – Вы знаете, что аккредитованный здесь от Ганновера Штокгаузен состоит в родстве с Бодиссинами? Один Бодиссин, писатель, фельетонист, которого вам, может быть, называли, свел молодого Штокгаузена, служащего секретарем у своего отца, с Кейделем. Может быть, этим путем удастся добиться непосредственного влияния в Ганновере. Во всяком случае, повторяю, что серьезно желаю прочной и окончательной дружбы с Ганновером и сохранения ганноверского престола, и употреблю все от меня зависящее, чтобы прийти к этому результату, вопреки известному вам предубеждению многих пруссаков. С Ганновером тесно связан Кур-Гессен. Курфюрст, кажется, хочет идти по стопам ганноверского короля. Впрочем, этот вопрос меня мало заботит, он не династический.
– Ну, – продолжал спрашивать Мантейфель, – а считаете ли вы возможным в случае войны с Австрией добиться нейтралитета Баварии и Вюртемберга?
– Нет, – отвечал Бисмарк. – Австрийская партия всемогуща в Мюнхене, и принц Рейс пишет мне, что, с тех пор как там прослышали про Итальянский союз, баварский нейтралитет стал безусловно немыслимым. Единственное, на что можно надеяться, это на вялость столкновения, так как самый серьезный пункт будет в Богемии. Вот вам в существенных чертах положение дела. Если вам угодно разъяснить какой-нибудь отдельный пункт, спрашивайте меня, а теперь прошу вашего мнения en connaissance de cause[11 - Со знанием дела, основательно (фр.).].
Мантейфель несколько минут молча смотрел в пол, затем поднял взгляд на лицо собеседника, в высшей степени напряженное, и начал тем мягким, спокойным голосом и тем легко льющимся внушительным тоном, который – хотя он никогда не был публичным оратором – в личном общении придавал ему такое своеобразно-убедительное красноречие:
– Во всяком случае, я вижу, что вы продумали все моменты, подлежащие обсуждению перед началом серьезной борьбы, и что многое сделано, чтобы обеспечить успех своей стороне, однако только в одном пункте я вижу нечто в самом деле готовое, законченное и надежное. Этот пункт – прусская армия. Все остальное здание непрочно и шатко. Положение Франции далеко нельзя считать ясным и твердым, Германия кажется мне враждебной, затем – говоря откровенно – я не доверяю Ганноверу: политика верности и предусмотрительности не в характере короля, и, повторяю, Ганновер может быть очень опасен. Подумайте, что бригада Калика еще в Гольштейне, подумайте, что Ганновер и Гессен могут выставить довольно значительные силы, а у вас не много остается, чтобы действовать там. Италия? Вы говорите, что союз с ней надежен. Хорошо, допустим, она сдержит слово, но уверены ли вы, что итальянская армия может рассчитывать на успех? Я не думаю. Какими слабыми не были бы силы Австрии на итальянском театре войны, в пределах четырехугольника крепостей Австрия всегда будет бить итальянцев. Этот театр австрийский генеральный штаб знает как шахматную доску, его воспитывают – если хотите – дрессируют одерживать там победы, так что я не предвижу ничего, кроме поражения для Италии.
– Но, – вставил живо Бисмарк, – уже то обстоятельство, что Австрия будет вынуждена действовать на двух театрах войны, довольно значимо. Сколько войск могут нам противопоставить? Австрия уверяет различные немецкие дворы, как мне доносили, что у нее восемьсот тысяч солдат, – а я знаю точно, что у нее нет и половины этого числа.
– Ну, допустим даже, что есть – главное все-таки не количество, а качество армии. Теперь второй, более серьезный вопрос: нужна ли война? Таково ли положение, чтобы было обрекать себя на все несчастья, на все страшные опасности такой тяжелой борьбы? Вы знаете, что я тоже желаю видеть Пруссию во главе Германии – желаю этого как пруссак, как немец, и работал в этом русле как министр, пока был в силах. Но я руководствовался тем, что такие вопросы должны решаться временем и созревать путем органического развития, и всегда находил величайшего врага прусского преобладания в Германии в недоверии немцев. Это недоверие, страх государей за их престолы и за будущее своих династий, страх населения областей за свою автономию, всегда служили отличным орудием в руках Австрии, так как она сама, благодаря слишком большому и сложному своему составу, избавлена от подобных опасений. Я считал задачей Пруссии – и со своей стороны стремился к тому, – приобрести доверие государей и народов Германии. Как только это удастся – первенство за нами и роль Австрии кончена, потому что, не будь этого недоверия, и немецкий дух, дух развития и просвещения, дух идущей вперед народной жизни, – за нас. Кроме того, я имею свои личные воззрения на прусскую войну. Наше могущество велико, но исключительно и своеобразно, потому что в полном своем развитии ставит всю страну на поле битвы, и при неблагоприятном обороте мы окажемся ближе к крайней катастрофе, чем какое-либо другое государство. Пока наше могущество впечатляет, оно очень велико, но умаляется по мере действительного вступления в дело. Пока мы стоим с ружьем у ноги, с нами приходится неизбежно считаться и, – прибавил Мантейфель с выражением спокойного удовольствия, – Парижский мир говорит отчасти в пользу моего утверждения. Зачем же окончательно подрывать доверие, уже отчасти потрясенное новой эрой, в чем необходимость серьезно рисковать могущественным резервным положением Пруссии ради азартной игры в войну? Вы сочтете меня, может быть, – прибавил он с печальной улыбкой, – за малодушного, но так как вы спрашивали моего мнения, спрашивали настойчиво, то я со своей стороны считаю себя вправе адресовать вам эти вопросы.
Пока Мантейфель говорил, на лице Бисмарка отражалось волнение. По нему ходили желваки. Но он, однако, не позволял себе прерывать речь собеседника ни движением, ни словом.
Когда Мантейфель кончил, министр-президент стремительно встал, подошел к своему гостю и, порывисто взяв его за руку, проговорил:
– О, мой высокочтимый друг! Я знаю эти ваши воззрения, я знаю благородные побуждения, двигавшие и руководившие вами, пока вы держали кормило Прусского государства, я знаю вашу добросовестность и предусмотрительность. Поверьте мне, я тоже далек от того, чтобы легкомысленно играть судьбами прусского государства, этого искусного результата вековой заботливости! Поверьте мне, не я вызывал эту войну – я в положении обороняющегося, и если не с такой благоговейной опаской, как король, отступаю перед неизбежностью встать к барьеру с коварной Австрией, то мне все-таки ни в каком случае не хотелось бы доводить до крайности. Но я знаю, что в Вене хотят войны, что там не желают признавать даже положения, принадлежащего нам по праву. Мало того, нас хотят придавить и придушить в механизме союзов, который вам известен и который вам тоже доставлял столько забот и тревог. Саксонец Бейст и его друзья в Вене, сангвиник Мейзенбук, честолюбивый педант Бигелебен и синий Макс Гагрен мечтают о новом немецком государстве, в котором созданный ими парламент возвел бы императора Франца-Иосифа на германский престол, и сам император живет и грезит этими мечтами. Они ему положительно вскружили голову комедией Франкфуртского княжеского сейма[12 - Союзный сейм – центральный орган Германского союза, заседавший во Франкфурте-на-Майне; председательствовала в нем Австрия.]. Эти глупцы не понимают, – вскричал он, сделав несколько размашистых шагов по комнате, – что во Франкфурте не тот был император, кто под ликованье уличной толпы сервировал boeuf historique[13 - Блюдо истории.] и поднимал бедных немецких государей, – прибавил министр с горькой усмешкой, – из постели на рассвете для matinee politique[14 - Утренняя политика.], причем мне предоставлялось наслаждаться подогретой водицей бейстовской премудрости! Нет, конечно, императором был не он, а тот, от чьего холодного «нет», от чьего простого отрицания вся затея разлеталась в прах. И неужели я должен спокойно выжидать, пока представится более благоприятный момент для приведения этих планов в исполнение? И затем, мой высокочтимый друг, – продолжал Бисмарк, снова подходя к Мантейфелю, слушавшему его с невозмутимым спокойствием, – и затем, разве не бывают минуты, в которые необходимы смелая решимость и быстрое исполнение, чтобы достичь великого и устранить грозные опасности? И разве в истории нашей Пруссии такие минуты случались не чаще, нежели в иных странах? Что было бы с Пруссией, если б Фридрих Великий стал выжидать, пока те, совершенно сходные с нынешними, планы Австрии и Саксонии достигли зрелости? Если бы он быстрым, сильным мановением своей смелой руки не разорвал сетей зависти и злобы? Что было бы с Пруссией без смелого шага Йорка? О, мой уважаемый друг! – вскричал с одушевлением Бисмарк, причем его фигура как бы выросла и стала шире. – Чувство говорит мне и разум не противоречит, что дух Фридриха Великого и дух тысяча восемьсот тринадцатого года есть жизненный дух, веющий по всей прусской истории, и что на великих мировых часах показывается час, когда Пруссия должна идти вперед! А не идти вперед в этом случае значит отступать назад на неопределенное расстояние. Неужели я с таким убеждением в сердце должен сидеть неподвижно и позволить прийти беде, выжидать, – прибавил он тише, – пока, быть может, рука менее твердая, чем моя, душа менее мужественная, чем та, которую я в себе чувствую, будут призваны встретить опасность лицом к лицу?
До сих пор Мантейфель, опираясь слегка рукой на письменный стол и опустив взгляд, оставался неподвижен. Теперь он приподнялся и посмотрел прямо в глаза министру-президенту, который в сильном волнении, с каким-то боязливым напряжением ждал его ответа.
– Граф, – сказал он спокойным голосом, в котором, однако, слегка угадывался более теплый оттенок, – вы касаетесь струны, которая, как вы знаете, звучит в каждом пруссаке и тон которой проходит и через мою жизнь. Кто станет отрицать, что есть моменты, в которые спасает только смелое действие, кто станет отрицать, что Пруссия, энергично пользуясь такими моментами, стала тем, что она теперь! Но стоим перед таким моментом сейчас – этого никто из смертных безошибочно решить не может, и я не стану с вами препираться: судить об этом по долгу и совести и действовать сообразно полученным заключениям – дело того, кто в такие моменты стоит у ступеней престола. Вы находитесь на таком месте, и вам, что бы ни случилось, придется отвечать перед историей, отечеством и королем. Вам и решать, что нужно делать, и я ни в коем случае не хотел бы ставить под сомнение ваше решение. Но есть еще вопрос – не пугайтесь, он будет последний, хотя, может быть, самый существенный.
Мантейфель сделал шаг к Бисмарку и спросил, понизив голос на один тон и придав ему этим еще большую выразительность:
– Если в этой азартной игре карта выпадет против вас, если расчет шансов окажется ошибочным – мы все можем ошибаться, – если тогда победоносный противник захватит власть и к давно подготовленным замыслам прибавит высокомерие победы, а на нашей стороне останется горечь неудачи, то какие у вас составлены планы, какие сделаны приготовления, чтобы предохранить тогда Пруссию от крайней опасности, быть может, от совершенной погибели? Вы знаете, я всегда придерживался правила, что хороший генерал прежде всего должен думать об отступлении и обеспечить его, поэтому вы найдете мой вопрос естественным и поймете, какое значение я ему придаю.
Оживленно-напряженное и взволнованное лицо Бисмарка подернулось надменным и холодным спокойствием, губы его нервно дрогнули, глаза сверкнули точно острие меча. Он заговорил тем металлически вибрирующим тоном, который в известные моменты способен принимать его голос:
– Если б я считал возможным, если б я думал, что прусскую армию способна разбить Австрия, я не был бы прусским министром!
При этих словах, высказанных тоном глубочайшего убеждения, Мантейфель отступил шаг назад и взглянул с выражением удивления и непонимания в просветлевшее и самоуверенное лицо министра-президента. Затем он медленно отошел в сторону, взялся за шляпу и, со спокойной вежливостью поклонясь Бисмарку, тоном обыкновенного салонного разговора промолвил:
– Кажется, цель нашей беседы достигнута, и я не смею дольше посягать на ваше время, принадлежащее многосложным обязанностям.
Оживление Бисмарка перешло в выражение болезненной скорби, и он отвечал печально:
– Цель не достигнута. Скажите лучше, что не хотите больше высказываться, так как мы стоим на крайних точках, между которыми нет ничего общего.
– Если это так, то не будет ни смысла, ни пользы, если мы продолжим вращаться долее в таких отдаленных сферах. Но я думаю, – прибавил он, слегка улыбаясь, – в одном отношении мы с вами сойдемся: в том, что время слишком дорого, чтобы тратить его на бесполезные слова.
– Так будьте здоровы, – сказал Бисмарк, крепко пожимая Мантейфелю руку, – вы оставляете меня беднее одной надеждой, слабее одной поддержкой.
– Вы не нуждаетесь в посторонней поддержке, – отвечал Мантейфель. – Но что бы ни случилось, будьте убеждены, что мои искренние чаяния устремлены на целость, величие и славу Пруссии.
И с легким поклоном он пошел к двери.
Бисмарк проводил его молча до аванзалы, затем вернулся к письменному столу, за которым просидел несколько минут в глубоком раздумье.
– Все, все! – крикнул он вдруг, вскочив и быстро зашагав по комнате. – Все поют ту же песню, говорят об ответственности, об опасностях, об ужасах войны! Но разве я не сознаю ответственности, не вижу опасностей, остаюсь холоден при мысли о бедствиях войны? Но именно потому, что я вижу опасность, я не могу отступать перед этими ужасами, не могу слагать с себя ответственности. Я знаю, почему большинство старается удержать меня от смелого шага: либеральные парламентаристы боятся пушечного грома, они боятся даже победы, и все слабоумные, которые хотели бы в трусливой косности ухватиться за Сегодня, чтобы не встретить лицом к лицу Завтра, ведь они никогда не хотят ничего честного и твердого, остаются теми же во все времена истории. Но Мантефель – человек дела и мужества, знает опасность и не боится ее, но и он тут отступает. Это серьезнее – одно слово этого человека могло бы поднять на воздух, как перышко, целый мир парламентских говорунов, дипломатов и бюрократов… Он хочет приготовить отступление!
Бисмарк простоял с минуту молча и в раздумье.
– И разве он не прав? – опять заговорил министр-президент глухо и мрачно. – Если последует неудача, враги восторжествуют, Пруссия погнется – сломится, что тогда? Отступить, как легкомысленный игрок, осужденный всеми, всей последующей историей, став посмешищем презренной толпы? Но, с другой стороны, отстраниться с сознанием победы в сердце, упустить момент и вместе с ним то великое, могучее будущее Пруссии, которое я вижу перед собой так ясно…
Минутной утраты
Не вернет никакая вечность…