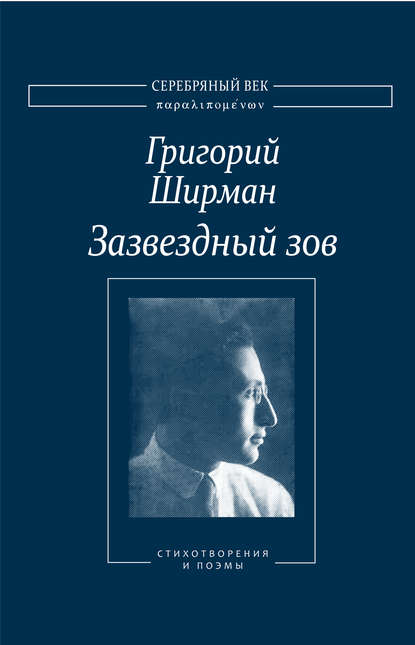По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Зазвездный зов. Стихотворения и поэмы
Жанр
Год написания книги
2013
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Чего, чего я там не делал,
Кого, кого я не ласкал…
И пенилось от женщин тело,
Как вал морской от голых скал.
И бард за то, что шкура барса
Там под плащом, как под фатой,
Струями песни улыбался
Пантере ночи золотой.
Не так давно я ломти грусти
Голодным ивам подавал.
А вот сейчас пропеллер спустит
Меня на Марса странный вал.
Не знаю, в камеру какую
Зашел я в этот вечер свой…
Какой там век идет?.. Тоскуют.
Двадцатый? – Нет. Сороковой.
«Жена, твои несчастны уши…»
Жена, твои несчастны уши.
В дырявые сосуды их
Вливаю только что блеснувший,
Еще не остуженный стих.
Я знаю, знаю, знаю трижды,
Что ловишь ты прекрасных мух.
Когда читаю, не горишь ты,
И где-то в тряпочках твой слух.
И слышу смех твой полудетский…
То звон строки, словечек бой
Сквозь тень, уснувшую мертвецки,
Твоей ресницы голубой.
Но, друг ближайший мой, пойми ты,
Что никогда так одинок,
Как в этот век, тоской облитый,
Поэта не бывал венок.
И снежную страницы скатерть
Вино тоски облило сплошь.
И в час зеленый на закате
Поэт, как правду, ценит ложь.
«Белый свет безбрежен…»
Белый свет безбрежен,
Белый океан.
Смерть зарею брезжит,
Тушит звезды ран.
Корабли да вьюги
Пашут нашу гладь.
На зеленом юге
Северу пылать.
Быть снегам и пене,
Выть луне и псам.
В сердце песнопенье
Утоплю я сам.
Никому навстречу,
Руку никому.
Тишиной отмечу
Голубую тьму.
«О, ночь, я вновь твою свирель ищу…»
О, ночь, я вновь твою свирель ищу.
Упал как занавес закат.
Конец неконченому зрелищу
И звезды свищут и галдят.
А ты с луною целомудренной.
Под ней земли живой экран.
И парики садов напудрены.
И блеск из окон, глаз и ран.
И бледные гиганты прыгают.
Кто пьян, кто счастлив, кто казнен.
А день встает злаченой книгою
И скупо счет ведет времен.
«Черные строф кружева…»
Черные строф кружева.
Белые плечи страничек.
Пальцами песню жевал,
С адом безумья граничил.
Слушал, как движется ящер
С воем о будущем Канте,
Видел, как Дарвин блестяще
Тянет в лесах канитель.
Пену прибоев оскаля,