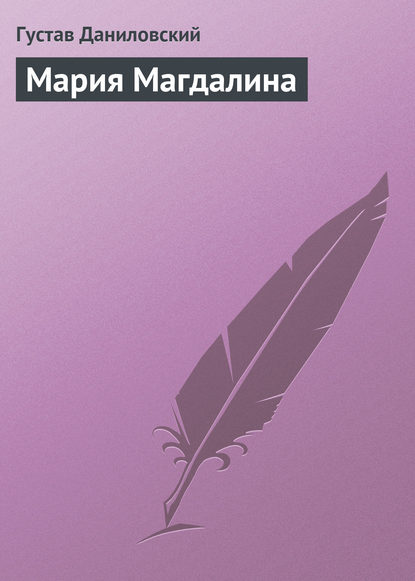По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Мария Магдалина
Автор
Год написания книги
1912
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ее бледное лицо горело неестественным огнем, черты лица обострились, а большие лазурные глаза стали восторженно-безумными.
– Мария! – воскликнул Гермен, пытаясь встать. – Мария! – повторил он и как бы сгорбился, постарел на много лет.
– Скажи им, что я прошу, умоляю, требую, хочу, жажду испытать его муки, боль и страдания, слиться с возлюбленным моим… Скажи им, – она подняла вверх лихорадочно дрожащие руки с пылающими ранами, – что я клянусь этими знаками моего учителя, что если они не согласятся, то я с проклятием разобью свою голову об эти стены. Во мне все кипит, страдает каждая жилка, рыдает каждый нерв, тяготит меня каждый волос и, как игла, впивается в мозг. Глаза мои уже ослепли от слез, что постоянно далеко от меня утешитель мой, который бы осенил, охладил бы мое сожженное тоской сердце… Я уже больше не могу… Не могу ни плакать, ни протягивать руки и ловить ими пустоту в пространстве в объятия, не могу, слышишь, Гермен, не могу… – голос ее перешел в стоны.
– Иди, скажи им это, – добавила она после некоторого молчания раздирающим душу голосом.
– Хорошо, – с трудом произнес Гермен; встал, зашатался, но быстро оправился, вышел из кельи и, представ пред старейшинами, неестественным, как бы официальным тоном объявил им, чего хочет Мария, сделал несколько пояснений относительно мотивов ее требования и покинул собрание.
Желание Марии в первую минуту вызвало огромное замешательство. Оно было так неожиданно и необычно, что сначала все потеряли голову, но вскоре кто-то из диаконов вспомнил жертву старого Авраама в Ветхом завете, другой единственную дочь Иеффая, а также почти добровольную, потому что почти нарочно вызванную и недавно только свершившуюся мученическую смерть Стефана.
Наконец, вспомнили слова Евангелия:
«Если кто хочет идти за мной, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мной».
Слова эти разрешили все сомнения. Умереть ради любви к Христу, принести себя в муку – показалось всем чем-то весьма возвышенным, прямо указанием свыше, в особенности потому, что Мария ради того, чтобы спасти от искушений сатаны бессмертную душу свою, жертвовала грешным, имеющим только временное бытие, телом.
Но зато поднялись вопросы и сомнения, достоин ли человек, хотя бы даже и столь любимая Христом женщина, умереть тою же смертью, что и он. После долгих пререканий решено было, наконец, что коль скоро Мария жаждет этого, то может умереть смертью той же самой, но в то же время несколько иной.
Придя к такому решению, старейшины общины в полном составе торжественно отправились в келью Марии. При виде их она сердито нахмурилась, но когда Максимин серьезно спросил ее, действительно ли решение ее окончательное и действительно ли она желает принять муку, то лицо ее стало кротким, мягким, счастливым, почти сияющим от радости.
– Жажду, хочу от все души, от всего сердца, изо всех сил, умом, душой, телом и сердцем, – решительно ответила Мария звучным чистым голосом.
– Исполнится, согласно твоему желанию, но, так как никто не достоин умереть такой же смертью, как Учитель, то ты будешь распята лицом ко кресту.
– Хорошо, – ответила Мария, смиренно склонила свою прекрасную голову, и из-под ее длинных ресниц скатились по щекам две большие светлые слезы.
Вскоре было экстренно созвано собрание общины. На этом собрании окруженный старейшинами Максимин торжественно заявил:
– Братья и сестры, призвали мы вас, дабы уведомить, что Мария Магдалина, Христова женщина, диакониса, пророчица во Господе, которую вы здесь видели и слышали и подкрепляли своей верой, выдержав все ужасные нападения и искушения демонов, расхворалась от любви ко Христу и принесла себя в жертву кресту. На той самой поляне, где мы раньше тайно собирались, прежде чем построен был этот дом Господень, соберитесь на рассвете, но тайно, дабы никто не знал, ибо там свершится, чему надлежит быть. А теперь падите все на колени и помолимся.
Безмолвно, с тревожным ощущением какого-то ожидающего их испытания собравшиеся упали на колени и начали;
– Радуйся, Мария.
Потом старший диакон запел испуганным стонущим голосом;
– Господи, склонись к нам с небес, коснись сердец наших, наполни их любовью к тебе. Протяни руку свою с высоты и выведи нас из темницы грехов, истреби демонов тела. Ты, вечный, смилуйся над нами, которые подобны пылинке ничтожной и проходим, как тень. Смилуйся, Господи Иисусе Христе, и, пресвятая Мария, молись за нас…
– Смилуйся, Иисусе Христе, и, Мария Магдалина, молись за нас, – ответила глухим стоном толпа.
– О Господь сил, воззри на наши горести, вытяни нас из сети, которую ад растягивает под ногами нашими. Не укрывайся тучами от наших молитв, не закрывай ушей, воззри на открытые сердца наши, обращенные к тебе, сущему на небесах. Из бездны мы взываем к тебе, из пропасти несется крик наших страданий, стеснен дух наш, и как жаждет дождя сожженная земля, так и мы жаждем милости твоей.
– Милости твоей жаждем, – стонала и рыдала толпа.
Старший диакон умолк, но раздался вдохновенный голос флегонта:
– Ты страшный, ты могучий, ты, перед которым дрожит вся земля, когда ты произносишь свой приговор, бледнеют тучи и гаснут молнии, темнеет солнце и волнуется океан, перед лицом твоим стоим мы, ничтожные и малые, но без малейшей тревоги, ибо приносим тебе блестящий дар.
Какой же дар, спрашиваешь ты, но мы не дрожим, ибо несем тебе прекрасную женщину с чудесными ранами, которая кормила нас, как мать кормит грудью своих детей, манной небесной, зажигала верой, огнем любви растопляла застывший жар наших сердец. А любовь ее была мощная, как смерть, вечная, как могила, ревнивая ко Господу, стремительная, как пламя. Как воск, таяли мы перед ней. Она была для нас вратами Господними, через которые проходят только справедливые, ловцом душ, чудесным храмом, в котором зародилась эта моя молитва.
Господи, не накладывай на нее свою грозную руку в годину смерти, но пусть сойдет твой кроткий сын, возьмет ее окровавленное сердце в свои нежные руки, дабы, измученное любовью, оно тихо заснуло в них. Мы отдаем тебе, Боже, самое драгоценное, что у нас есть, унеси ее на белых пушистых крыльях самого лучшего из твоих ангелов, дабы не задел он ни одной из ее ран, не уронил ни единой ее слезы, ибо они самые благородные жемчужины в ожерелье небесной славы.
А когда осветятся звезды заревом ее волос – не пугайтесь, братья, это не символ поражения, но знак милости – светлые вести с высот, что свет, плывущий от нее, вечно будет светить над нами…
Голос его задрожал и умолк.
Еще раз прочли молитвы, и настоятель распустил всех со словами:
– Да пребудет с вами милость Господа нашего Иисуса Христа, аминь.
* * *
Поляна, на которой должны были собраться все, находилась в нескольких стадиях за городом в одном из глухих уголков в огромной, растянувшейся до самых скал морского берега, девственной горной лесной пуще, немой, молчаливой, словно навеки зачарованной неумолчным гулом, меланхолическим говором неустанно шумящего моря.
Ночь была такая, какие часто бывают раннею осенью, мягкая, тихая и звездная. Вершины деревьев уже отмирали; тихо, без малейшего шума скатывались на землю легкие, нежные листья осокорей и берез, тихо шелестели более плотные опадавшие листья дубов, буков и каштанов. А когда налетал с моря внезапно ветер, то весь лес казался охваченным сухой метелью.
По хорошо известным тропинкам уже с вечера пробирались верующие с той же осторожностью и тревогой, как некогда собирались они на молитву, когда у них еще не было покровительства влиятельной Клавдии.
Словно рой светлячков, мигали то здесь, то там огоньки фонариков, раздавался треск хвороста, и шуршали листья под ногами путников.
Не с одной стороны, но с разных сторон, по разным путям собиралась толпа на поляну, окруженную темным, уже увядающим лесом, среди которого выделялись несколько выдвинувшихся вперед стройных сосен, словно передовой пикет этой вечнозеленой пехоты, идущей с севера, дабы истребить более нежные деревья, вытеснить их и овладеть их землей.
Поляну освещали пылавшие вокруг костры, сигналы для верующих, которые подходили отовсюду небольшими группами. Мужчины заглядывали в глубокую тесную могилу, уже выкопанную заранее, склонялись, чтобы осмотреть сбитый из тесаных бревен крест, лежавший рядом с ним молоток, длинные гвозди, копье, терновый венок; женщины не решались подходить близко и лишь издалека бросали боязливые взгляды на все эти старательно приготовленные орудия муки Христовой.
Вскоре собралась вся община, не хватало только старейшин. Большинство собравшихся сидело, некоторые стояли, но все нетерпеливо поглядывали на звезды, дожидаясь, скоро ли наступит рассвет.
По мере того как звезды бледнели, затихали разговоры, воцарялось молчание, и вскоре слышны были только едва уловимый шелест умирающих листьев и далекий вечный шум неугомонного моря.
Неожиданно погасли костры и на минуту стало темно, а затем сразу что-то в природе дрогнуло, зашумели листья, заметны стали вершины деревьев, казалось, все больше и больше освещаемые нежно-зеленоватым светом, Вся толпа невольно встала с мест и, охваченная дрожью, стала прислушиваться к какому-то глухому, мрачному, доносившемуся из глубины леса, неясному не то стону, не то гулу.
Гул этот приближался, усиливался, рос: то был скорбный, мрачный, исполняемый хором гимн. Вскоре можно было даже разобрать слова:
– Господи, ты наградил ее золотистой кожей и прекрасным телом, ты осыпал ее щедро, словно обильный виноградник, многими красотами, наполнил ее жилы пламенной кровью, а она стосковалась по любви твоей, при жизни еще отдает тебе свою душу, а тело темной, как туча, земле, охотно идет во мрак смерти, где нет перемен, а царит одна только вечная, глухая, непроглядная ночь и жестокий холод.
От небесных видений и глубокого раздумья родилось в ней это печальное желание изведать тот глубокий мрак, где нет никакого света.
Ты навеки скрыл от нас, Господи, тайну могилы, куда сходит человек и откуда он не встает и не пробуждается до тех пор, пока ты не призовешь его.
А она из любви к тебе, Христос, превозмогла страх и ужас смерти, преисполнилась жажды муки, и поэтому, хотя наши очи застилаются мраком скорби, мы не плачем и вечно по-прежнему будем гореть к тебе любовью, даже и тогда, когда она, распятая на кресте, сердцем обратится к тебе.
Хор замолк, раздался треск ветвей, и, окруженная старейшинами, выступила из чащи Мария.
Босая, в широком платье, с плащом распущенных волнистых волос, она шла, как лунатик. Лицо ее было спокойное, тихое, глаза экстатически обращены к небу… Она шла прямо и остановилась у подножия креста, слегка улыбаясь восходящему дню.
Настоятель молча поднял с земли терновый венок и окружил им прекрасную голову. Губы Марии на минуту искривились от боли, но потом снова улыбка появилась на них. Когда стали снимать с нее одежду, она на миг вспыхнула от стыда и закрыла глаза длинными ресницами. На один миг заблистало, как чудная статуя, ее обнаженное тело и неожиданно исчезло из глаз.
Мария быстро упала лицом на крест. Из-под ее роскошных густых волос виднелись только розовые ноги и распростертые руки.
Другие электронные книги автора Густав Даниловский
Мария Магдалина




 4.6
4.6
Другие аудиокниги автора Густав Даниловский
Мария Магдалина




 3.5
3.5