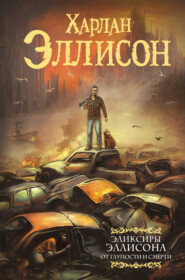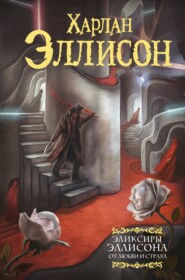По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Бег с черной королевой
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Бег с черной королевой
Харлан Эллисон
В каждом из следующих миров его звали по-разному.
Не существует отдельной человеческой жизни. Есть лишь переход из одной жизни в другую, немногим отличную от предыдущей, а затем – дверь, ведущая в следующую жизнь, и так до бесконечности. Жизнь не имеет конца, но разворачивается в длительной серии жизней, из одной в другую, в соприкасающихся Вселенных. Воспоминания о прошлых жизнях стирались из памяти. У него же произошёл внутренний сбой, и память о том, где и с кем он был раньше, не покидала его…
Харлан Эллисон
Бег с черной королевой
Только за десертом он заговорил о том, что ему пора собираться. Она даже не заметит, как он уйдет, и уйдет гораздо дальше, чем она думает.
Она заплакала.
– Я с тобой. Ну, пожалуйста, возьми меня.
Как объяснить ей, что взять ее туда он не сможет? Ему нельзя брать с собой ничего и никого. Пытаясь успокоить ее, он повторил, что для нее он останется здесь. Рядом с ней.
Она решила, что он говорит о своем присутствии в переносном смысле. Привычка употреблять иной раз поэтические сравнения придавала ему особое очарование в ее глазах.
– Мне не нужна память о тебе, мне нужен ты сам.
– Это я и буду. Просто другой я, следующий.
Последние слова вызвали новый поток слез. Он обошел вокруг полированного столика, который она, готовясь к долгожданному свиданию, так старательно протерла специальным составом с запахом лимона, крепко обнял ее, и горькое чувство утраты пронзило его от этого запаха, от легчайшего аромата ее свежевымытых волос.
– Я люблю тебя, – проговорила она сквозь рыдания.
Он ответил, что знает и что тоже любит ее. Уверял, все обойдется и плакать не стоит. Все это было совершенно справедливо. Еще он сказал, что она даже не поймет, что с нею больше не он. То есть он, конечно, но другой. И это была тоже чистейшая правда, хотя настроение у нее от этого не улучшилось.
Затем он честно сказал, что думает.
– Знаешь, это не любовь. Мы сошлись на перекрестке жизни, твоей и моей.
Смысл его слов не дошел до нее. Она понимала только одно: он разлюбил ее и готов бросить.
Она выбежала из комнаты и заперлась в ванной, а он потихоньку вышел, не желая причинить ей еще большее страдание, потому что, если быть честным до конца, он любил ее сильнее, чем всех женщин, которые были у него в жизни.
В этой жизни он прожил всего одиннадцать месяцев.
Он снял с вешалки куртку, взял шарф, не забыл и маленький подарок, который обнаружил на своем рабочем столе, – стеклянную фигурку панды, красиво перевязанную ленточкой. Вряд ли удастся провести ее с собой, но чем черт не шутит.
Нужно попробовать, и не только потому, что для нее было бы жестоким ударом обнаружить, что подарок, с любовью выбранный ею, забыт на столе. Он хотел попробовать, потому чувствовал: ее он должен запомнить.
Он неизбежно забудет ее, как и многих других, до нее, что были во множестве его прошлых жизней. Но как ребенок в память о чудесном лете хранит какую-нибудь необыкновенную раковину или камень, так и он всякий раз пытался пронести с собой дорогую для него вещицу.
В кабине допотопного, скрипучего лифта он почувствовал, что вот-вот уйдет. Ощущение напомнило ему, как начинается грипп. Он узнал это недомогание еще когда они сидели за столом. Сухость и неприятное пощипывание в горле. Затем состояние, которое ему никогда не удавалось определить: будто в горло проскочил большущий кусок мороженого. Болели суставы, слезились глаза.
Хорошо, что он угадал приближение этого состояния и успел уйти до того, как исчезнет. Она, бедняжка, не пережила бы, произойди замена его двойником на ее глазах.
Он прислонился к стенке кабины, надеясь, что лифт не вызывали снизу и ему посчастливится уйти не замеченным никем, пока лифт не достигнет первого этажа. Он судорожно хватал воздух, словно рыба, выброшенная на берег. Еще мгновение – и его не стало.
Кабина опустела, лишь в воздухе таяло искрящееся облачко, да чувствовался сладковатый запах: так пахнут нагретые солнцем гроздья, которые вот-вот брызнут соком.
А он ушел из этой жизни. Здесь его звали Алан Джастис, и теперь человек с таким именем перестал существовать. Он растворился в сверкающем облаке, когда лифт проходил между четырнадцатым и пятнадцатым этажами высотного здания Шестьдесят третьей Ист-стрит в Нью-Йорке. В то мгновение, когда это произошло, из дверей конторы «Стейнвей и сыновья» на Пятьдесят седьмой Ист-стрит, где размещалась знаменитая фирма, изготовляющая рояли, вышел человек, как две капли похожий на Алана Джастиса, и торопливым шагом направился через Пятую авеню к Шестьдесят третьей улице. Лишь одет он был совершенно по-другому, что и явится причиной минутного замешательства, когда ровно восемнадцать минут спустя он позвонит в дверь квартиры на Шестьдесят третьей Ист-стрит. Дверь откроют, его душевное смятение уляжется, и он скажет красивой девушке с темными волосами и с покрасневшими от слез глазами:
– Кэтрин? Привет. Я – Аллен.
Пройдут недели, прежде чем она осознает, что перед ней именно Аллен, а не Алан. Заметит и другие мелочи, отличающие его от того, прежнего: например, исчезнувшая родинка на левом плече. Теперь, принимая душ, он не будет напевать мелодии шлягеров, как любил это делать раньше. Теперь ему по вкусу брюссельская капуста, а сувенирная монетка в виде головы бизона, которую он хранил как талисман, будет потрачена вместе с прочей мелочью, потому что для Аллена эта пятицентовая монетка не значила ровным счетом ничего.
Ночью, в постели, Кэтрин все-таки обнаружит некоторую перемену к лучшему в человеке, который вышел из ее квартиры и через полчаса возвратился назад.
Нет худа без добра…
Алан задержал дыхание, проходя сквозь мембрану. Так он называл преграду, которую ему приходилось преодолевать и которая на ощупь была, словно мягкая, податливая поверхность надутого резинового шарика. Минута, в течение которой он уходил, длилась вечность. Руку с зажатой в ней стеклянной фигуркой панды он держал в правом кармане. Теперь она была пуста. «Прощай, Кэти», – успел подумать он. Мысль о ней становилась все более расплывчатой, смутной, еще немного – и он навсегда забыл о ней.
– Здесь запрещено спать! Эй, парень, давай отсюда, – произнес чей-то голос над самым его ухом.
Он поднял глаза. Полицейский рассматривал его, сочувственно кивая. Покрасневшие сосуды на одутловатых щеках и носу свидетельствовали о том, что крепких напитков он отнюдь не чурается. «Ты бы сам запил, если бы каждую ночь торчал на улице, да высматривал пьяниц», – сказал себе Алан.
– Я не сплю, командир, – произнес он вслух и поднялся на ноги. – Просто задумался, за луной наблюдаю, размышляю о том, как неумолимо бежит время.
В новой жизни у него, судя по всему, обнаружился дар красноречия. Это ему понравилось.
Он шагнул на тротуар. Осмотрелся: квартал аккуратных, ухоженных особняков; движение на улицах незначительное. Первая машина, которую он заметил за это время, двигалась на воздушной подушке, не оставляя после себя неприятного дыма и запаха.
Полицейский внимательно рассмотрел его и отступил назад, чтобы увеличить дистанцию между ними на случай, если в руке у нарушителя порядка появится оружие. Внезапно выражение его лица изменилось. Он отметил дорогой, хорошего покроя костюм, начищенные туфли, в блеске которых отражались огни уличных фонарей. Произвели на него впечатление тщательно выбритые щеки, аккуратная стрижка и едва уловимый аромат дорогого лосьона после бритья.
– Простите, если потревожил вас, сэр. Я-то думал – забулдыга какой прикорнул.
– Ничего страшного, командир. Все равно сидеть тут становится холодно. Что-то задержался я по дороге домой.
– О… неужели мистер Джастмен?
Теперь лицо Алана было хорошо различимо в электрическом свете. Алан улыбнулся полицейскому.
– Передавайте от меня привет вашей матушке, мистер Джастмен.
Мощной левой ручищей он прикоснулся к черному лаково блестевшему козырьку фуражки – жест столь же традиционный, как и то почтение, с которым мелкие городские служащие относятся к высокопоставленным семьям. Полицейский скрылся за углом, но Алан Джастмен все еще продолжал раздумывать, идти ли ему немедленно домой.
Резкий, пронзительный звук саксофона, вспоровший это пустое мгновение, донесся из освещенного окна. «Идти домой придется, ничего не поделаешь, – решил он, и при мысли об этом ему представился водоворот, затягивающий его в свою зловещую, мутную глубину. – Надо идти. Мать будет волноваться».
Он вошел в полутемный коридор. Единственный источник света здесь, украшенный бусами светильник, стоявший на шкафу, позволял смутно разглядеть часть лестницы, ведущей на верхний этаж. Там, на площадке, он заметил инвалидное кресло матери. Значит, ее уложили в постель, и дневная сестра ушла, предоставив мать суетливым заботам ее шутовской камарильи.
Он помедлил, опершись на перила. Сверху доносился неприятный, резкий смех и отвратительное бренчанье ситара, которое будет преследовать его всю ночь.
Он повернул обратно, но с верхней площадки резко прозвучал женский голос:
– Разве ты не поднимешься, Элвин?
Харлан Эллисон
В каждом из следующих миров его звали по-разному.
Не существует отдельной человеческой жизни. Есть лишь переход из одной жизни в другую, немногим отличную от предыдущей, а затем – дверь, ведущая в следующую жизнь, и так до бесконечности. Жизнь не имеет конца, но разворачивается в длительной серии жизней, из одной в другую, в соприкасающихся Вселенных. Воспоминания о прошлых жизнях стирались из памяти. У него же произошёл внутренний сбой, и память о том, где и с кем он был раньше, не покидала его…
Харлан Эллисон
Бег с черной королевой
Только за десертом он заговорил о том, что ему пора собираться. Она даже не заметит, как он уйдет, и уйдет гораздо дальше, чем она думает.
Она заплакала.
– Я с тобой. Ну, пожалуйста, возьми меня.
Как объяснить ей, что взять ее туда он не сможет? Ему нельзя брать с собой ничего и никого. Пытаясь успокоить ее, он повторил, что для нее он останется здесь. Рядом с ней.
Она решила, что он говорит о своем присутствии в переносном смысле. Привычка употреблять иной раз поэтические сравнения придавала ему особое очарование в ее глазах.
– Мне не нужна память о тебе, мне нужен ты сам.
– Это я и буду. Просто другой я, следующий.
Последние слова вызвали новый поток слез. Он обошел вокруг полированного столика, который она, готовясь к долгожданному свиданию, так старательно протерла специальным составом с запахом лимона, крепко обнял ее, и горькое чувство утраты пронзило его от этого запаха, от легчайшего аромата ее свежевымытых волос.
– Я люблю тебя, – проговорила она сквозь рыдания.
Он ответил, что знает и что тоже любит ее. Уверял, все обойдется и плакать не стоит. Все это было совершенно справедливо. Еще он сказал, что она даже не поймет, что с нею больше не он. То есть он, конечно, но другой. И это была тоже чистейшая правда, хотя настроение у нее от этого не улучшилось.
Затем он честно сказал, что думает.
– Знаешь, это не любовь. Мы сошлись на перекрестке жизни, твоей и моей.
Смысл его слов не дошел до нее. Она понимала только одно: он разлюбил ее и готов бросить.
Она выбежала из комнаты и заперлась в ванной, а он потихоньку вышел, не желая причинить ей еще большее страдание, потому что, если быть честным до конца, он любил ее сильнее, чем всех женщин, которые были у него в жизни.
В этой жизни он прожил всего одиннадцать месяцев.
Он снял с вешалки куртку, взял шарф, не забыл и маленький подарок, который обнаружил на своем рабочем столе, – стеклянную фигурку панды, красиво перевязанную ленточкой. Вряд ли удастся провести ее с собой, но чем черт не шутит.
Нужно попробовать, и не только потому, что для нее было бы жестоким ударом обнаружить, что подарок, с любовью выбранный ею, забыт на столе. Он хотел попробовать, потому чувствовал: ее он должен запомнить.
Он неизбежно забудет ее, как и многих других, до нее, что были во множестве его прошлых жизней. Но как ребенок в память о чудесном лете хранит какую-нибудь необыкновенную раковину или камень, так и он всякий раз пытался пронести с собой дорогую для него вещицу.
В кабине допотопного, скрипучего лифта он почувствовал, что вот-вот уйдет. Ощущение напомнило ему, как начинается грипп. Он узнал это недомогание еще когда они сидели за столом. Сухость и неприятное пощипывание в горле. Затем состояние, которое ему никогда не удавалось определить: будто в горло проскочил большущий кусок мороженого. Болели суставы, слезились глаза.
Хорошо, что он угадал приближение этого состояния и успел уйти до того, как исчезнет. Она, бедняжка, не пережила бы, произойди замена его двойником на ее глазах.
Он прислонился к стенке кабины, надеясь, что лифт не вызывали снизу и ему посчастливится уйти не замеченным никем, пока лифт не достигнет первого этажа. Он судорожно хватал воздух, словно рыба, выброшенная на берег. Еще мгновение – и его не стало.
Кабина опустела, лишь в воздухе таяло искрящееся облачко, да чувствовался сладковатый запах: так пахнут нагретые солнцем гроздья, которые вот-вот брызнут соком.
А он ушел из этой жизни. Здесь его звали Алан Джастис, и теперь человек с таким именем перестал существовать. Он растворился в сверкающем облаке, когда лифт проходил между четырнадцатым и пятнадцатым этажами высотного здания Шестьдесят третьей Ист-стрит в Нью-Йорке. В то мгновение, когда это произошло, из дверей конторы «Стейнвей и сыновья» на Пятьдесят седьмой Ист-стрит, где размещалась знаменитая фирма, изготовляющая рояли, вышел человек, как две капли похожий на Алана Джастиса, и торопливым шагом направился через Пятую авеню к Шестьдесят третьей улице. Лишь одет он был совершенно по-другому, что и явится причиной минутного замешательства, когда ровно восемнадцать минут спустя он позвонит в дверь квартиры на Шестьдесят третьей Ист-стрит. Дверь откроют, его душевное смятение уляжется, и он скажет красивой девушке с темными волосами и с покрасневшими от слез глазами:
– Кэтрин? Привет. Я – Аллен.
Пройдут недели, прежде чем она осознает, что перед ней именно Аллен, а не Алан. Заметит и другие мелочи, отличающие его от того, прежнего: например, исчезнувшая родинка на левом плече. Теперь, принимая душ, он не будет напевать мелодии шлягеров, как любил это делать раньше. Теперь ему по вкусу брюссельская капуста, а сувенирная монетка в виде головы бизона, которую он хранил как талисман, будет потрачена вместе с прочей мелочью, потому что для Аллена эта пятицентовая монетка не значила ровным счетом ничего.
Ночью, в постели, Кэтрин все-таки обнаружит некоторую перемену к лучшему в человеке, который вышел из ее квартиры и через полчаса возвратился назад.
Нет худа без добра…
Алан задержал дыхание, проходя сквозь мембрану. Так он называл преграду, которую ему приходилось преодолевать и которая на ощупь была, словно мягкая, податливая поверхность надутого резинового шарика. Минута, в течение которой он уходил, длилась вечность. Руку с зажатой в ней стеклянной фигуркой панды он держал в правом кармане. Теперь она была пуста. «Прощай, Кэти», – успел подумать он. Мысль о ней становилась все более расплывчатой, смутной, еще немного – и он навсегда забыл о ней.
– Здесь запрещено спать! Эй, парень, давай отсюда, – произнес чей-то голос над самым его ухом.
Он поднял глаза. Полицейский рассматривал его, сочувственно кивая. Покрасневшие сосуды на одутловатых щеках и носу свидетельствовали о том, что крепких напитков он отнюдь не чурается. «Ты бы сам запил, если бы каждую ночь торчал на улице, да высматривал пьяниц», – сказал себе Алан.
– Я не сплю, командир, – произнес он вслух и поднялся на ноги. – Просто задумался, за луной наблюдаю, размышляю о том, как неумолимо бежит время.
В новой жизни у него, судя по всему, обнаружился дар красноречия. Это ему понравилось.
Он шагнул на тротуар. Осмотрелся: квартал аккуратных, ухоженных особняков; движение на улицах незначительное. Первая машина, которую он заметил за это время, двигалась на воздушной подушке, не оставляя после себя неприятного дыма и запаха.
Полицейский внимательно рассмотрел его и отступил назад, чтобы увеличить дистанцию между ними на случай, если в руке у нарушителя порядка появится оружие. Внезапно выражение его лица изменилось. Он отметил дорогой, хорошего покроя костюм, начищенные туфли, в блеске которых отражались огни уличных фонарей. Произвели на него впечатление тщательно выбритые щеки, аккуратная стрижка и едва уловимый аромат дорогого лосьона после бритья.
– Простите, если потревожил вас, сэр. Я-то думал – забулдыга какой прикорнул.
– Ничего страшного, командир. Все равно сидеть тут становится холодно. Что-то задержался я по дороге домой.
– О… неужели мистер Джастмен?
Теперь лицо Алана было хорошо различимо в электрическом свете. Алан улыбнулся полицейскому.
– Передавайте от меня привет вашей матушке, мистер Джастмен.
Мощной левой ручищей он прикоснулся к черному лаково блестевшему козырьку фуражки – жест столь же традиционный, как и то почтение, с которым мелкие городские служащие относятся к высокопоставленным семьям. Полицейский скрылся за углом, но Алан Джастмен все еще продолжал раздумывать, идти ли ему немедленно домой.
Резкий, пронзительный звук саксофона, вспоровший это пустое мгновение, донесся из освещенного окна. «Идти домой придется, ничего не поделаешь, – решил он, и при мысли об этом ему представился водоворот, затягивающий его в свою зловещую, мутную глубину. – Надо идти. Мать будет волноваться».
Он вошел в полутемный коридор. Единственный источник света здесь, украшенный бусами светильник, стоявший на шкафу, позволял смутно разглядеть часть лестницы, ведущей на верхний этаж. Там, на площадке, он заметил инвалидное кресло матери. Значит, ее уложили в постель, и дневная сестра ушла, предоставив мать суетливым заботам ее шутовской камарильи.
Он помедлил, опершись на перила. Сверху доносился неприятный, резкий смех и отвратительное бренчанье ситара, которое будет преследовать его всю ночь.
Он повернул обратно, но с верхней площадки резко прозвучал женский голос:
– Разве ты не поднимешься, Элвин?