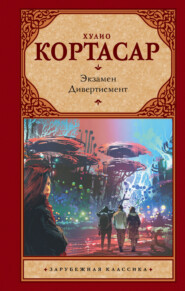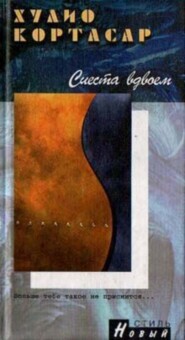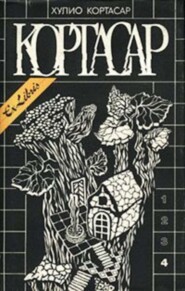По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Игра в классики
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Почему? – сказал Оливейра. – Она не так далеко.
– Недалеко, но там веревки протянули и белье развесили.
– Пролезь под ним, – посоветовал Оливейра. – Или обрежь веревку. Знаешь, как мокрая рубашка шлепается на плиточный пол, потрясающе. Хочешь, брошу тебе перочинный ножик. Спорим, я брошу – и он воткнется прямо в раму. Я мальчишкой попадал ножичком во что угодно с десяти метров.
– Знаешь, что в тебе плохо, – сказал Тревелер, – ты все, что ни возьми, прикидываешь на свое детство. Мне надоело говорить тебе: почитай Юнга, че. Что ты к этому ножичку привязался, это же межпланетное оружие, спроси кого угодно. Слова тебе не скажи, ты сразу за ножичек хватаешься. И какое он имеет отношение к гвоздям и к мате.
– Ты не следишь за нитью моей мысли, – сказал Оливейра обиженно. – Сперва я сказал, что размозжил палец, потом сказал про гвозди. Ты мне возразил, что, мол, веревки мешают тебе попасть на кухню, и совершенно естественно веревки навели меня на мысль о перочинном ножике. Ты наверняка читал Эдгара По. Веревки у тебя есть, а связать мысли ты не умеешь.
Тревелер облокотился на подоконник и оглядел улицу. Скупая тень вжалась в мостовую, и на уровне первого этажа уже свирепствовало солнце, желтое солнечное вещество перло во все стороны и буквально расплющивало лицо Оливейры.
– Да, днем тебе достается от солнца как следует, – сказал Тревелер.
– Это не солнце, – сказал Оливейра. – Мог бы сообразить, что это луна и что жуткий мороз. А палец синий потому, что я его отморозил. Теперь начнется гангрена, и через пару недель ты понесешь мне гладиолусы к приюту Курносой.
– Луна? – сказал Тревелер, поднимая глаза кверху. – Да, как бы мне не пришлось навещать тебя в психушке «Виейтес».
– Там любят платных больных, но не очень хворых, – сказал Оливейра. – Какую ты чепуху городишь, Ману.
– Сто раз говорил: не называй меня Ману.
– Талита называет тебя Ману, – сказал Оливейра, тряся рукой так, словно хотел, чтобы она оторвалась.
– Разница между тобой и Талитой, – сказал Тревелер, – заметна даже на ощупь. Не понимаю, зачем тебе пользоваться ее словечками. Мне противны раки-отшельники, но и симбиоз во всех его формах, мне отвратительны лишаи и прочие паразиты.
– Твоя тонкость просто рвет мне душу на части, – сказал Оливейра.
– Благодарю. Вернемся лучше к гвоздям и заварке. Зачем тебе гвозди?
– Пока не знаю, – смутился Оливейра. – Просто я достал жестянку с гвоздями, открыл и вижу – все они погнутые. Начал их выпрямлять, а тут такой холод, и вот… Мне кажется, как только у меня будут прямые гвозди, я сразу пойму, зачем они мне.
– Интересно, – сказал Тревелер, пристально глядя на него. – Иногда с тобой творится странное. Сперва достать гвозди, а потом понять, зачем они.
– Ты меня всегда понимал, – сказал Оливейра. – А трава, ты, конечно, догадываешься, нужна мне, чтобы заварить мате покрепче.
– Ладно, – сказал Тревелер. – Подожди немного. Если я задержусь, можешь посвистеть, Талите страшно нравится, как ты свистишь.
Тряся рукой, Оливейра пошел в туалет, плеснул себе воды в лицо и на волосы. Облился так, что намокла майка, и вернулся к окну проверить теорию, согласно которой солнечные лучи, падая на мокрую ткань, должны вызывать ощущение холода. «Подумать только, – сказал себе Оливейра, – умереть, не прочитав на первой странице газет новость новостей: „ПИЗАНСКАЯ БАШНЯ УПАЛА! ПИЗАНСКАЯ БАШНЯ! Грустно подумать“.
Он принялся сочинять заголовки, это всегда помогало ему скоротать время. «ШЕРСТЯНАЯ НИТЬ» ОПУТЫВАЕТ ЕЕ, И ОНА УМИРАЕТ, ЗАДУШЕННАЯ «ЗАПАДНОЙ ШЕРСТЬЮ». Он сосчитал до двухсот, но заголовки больше не придумывались.
– Придется съехать отсюда, – пробормотал Оливейра. – Комната ужасно маленькая. Мне бы надо поступить в цирк к Ману и жить с ними. Травы!
Никто не ответил.
– Травы, – тихо сказал Оливейра. – Дай же травы, че. Не надо так, Ману. А ведь мы могли бы поболтать у окна с тобой и с Талитой, глядишь, и сеньора Гутуззо подошла бы или служанка снизу, и мы сыграли бы в «кладбище слов» или еще во что-нибудь.
«В конце концов, – подумал Оливейра, – в „кладбище слов“ я могу сыграть и один».
Он пошел за словарем, выпущенным Королевской академией Испании (слово «Королевская» на обложке было зверски изрезано бритвой), открыл словарь, наугад и приготовил для Ману задание по «кладбищу слов»:
«Устав от клиентов с их клептоманиями, клаустрофобиями и климаксами, он вывел их на клуню, велел обнажить клоаку анального отверстия и всему клиру вкатил огромную, как клиппер, клизму».
– Ну и бардак, – с долей восхищения сказал Оливейра. И подумал, что слово «бардак» тоже могло бы стать отправным для игры, но с разочарованием обнаружил, что в словаре его не было; но зато были «бордель», «бордюр», плохо только, что из-под байдана баканно сочилась байруда, так что никакого блазения, оставалось одно – бузыкать.
«И в самом деле некрополь, – подумал он. – Не понимаю, как эту мерзость обложка выдерживает».
Он принялся за новое задание, но оно не получалось. Тогда он решил составлять типичные диалоги и стал искать тетрадку, куда их записывал после того, как получал заряд вдохновения в подвальчиках, кафе и тавернах. Там уже был почти законченный типичный диалог испанцев, и он подправил его немного, прежде вылив себе на майку еще один кувшин воды.
Типичный диалог испанцев
Лопес. Я целый год прожил в Мадриде. Знаете, это было в 1925 году, и…
Перес. В Мадриде? Я как раз вчера говорил доктору Гарсиа…
Лопес. С 1925 по 1926 я был профессором литературы в университете.
Перес. Вот и я сказал: «Понимаете, старина, каждый, кто жил в Мадриде, знает, что это такое».
Лопес. Специально для меня открыли кафедру, чтобы я мог читать курс литературы.
Перес. Вот именно, вот именно. Как раз вчера я говорил доктору Гарсиа, это мой близкий друг…
Лопес. Ну конечно, когда проживешь там больше года, то начинаешь понимать, что уровень преподавания оставляет желать лучшего.
Перес. Он сын Пако Гарсиа, который был министром торговли и разводил племенных быков.
Лопес. Это просто позор, поверьте, просто позор.
Перес. Ну, конечно, старина, о чем говорить. Так вот, доктор Гарсиа…
Оливейра немного устал от диалога и закрыл тетрадь. «Шива, – подумал он вдруг. – О космический танцор, как бы сверкал ты бесконечною бронзой под этим солнцем. Почему я подумал о Шиве? Буэнос-Айрес. И ты живешь тут. Как странно. Кончится тем, что заведу энциклопедию. Что тебе проку от лета, соловей. Безусловно, учиться еще хуже, пять лет изучать поведение зеленого кузнечика. Ну-ка, что это за список, длинный такой, поглядим, что это…»
Пожелтевший листок, похоже, был вырван из международного издания. Издания ЮНЕСКО или другого в этом же духе, и на нем значились имена членов какого-то Бирманского Совета. Оливейре захотелось получить полное удовольствие от списка, и он не удержался, достал карандаш и вывел следующую хитанафору-абракадабру:
U Nu,
U Tin,
Mya Bu,
Thado Thiri Thudama U Е Maung,
Sithu U Cho,
Wunna Kyaw Htin U Khin Zaw,
Wunna Kyaw Htin U Thein Han,
Wunna Kyaw Htin U Myo Min,
Thiri Pyanchi U Thant,
Thado Maba Thray Sithu U Chan Htoon.
«Три Вунна Киау Хтин подряд – пожалуй, слишком однообразно, – подумал он, глядя на стихи. – Наверное, означает что-нибудь вроде Ваше Высочайшее Превосходительство. Че, а вот это здорово – Тхири Рианчи у Тхант, это звучит лучше. А как произносится Htoon?»
– Привет, – сказал Тревелер.
– Недалеко, но там веревки протянули и белье развесили.
– Пролезь под ним, – посоветовал Оливейра. – Или обрежь веревку. Знаешь, как мокрая рубашка шлепается на плиточный пол, потрясающе. Хочешь, брошу тебе перочинный ножик. Спорим, я брошу – и он воткнется прямо в раму. Я мальчишкой попадал ножичком во что угодно с десяти метров.
– Знаешь, что в тебе плохо, – сказал Тревелер, – ты все, что ни возьми, прикидываешь на свое детство. Мне надоело говорить тебе: почитай Юнга, че. Что ты к этому ножичку привязался, это же межпланетное оружие, спроси кого угодно. Слова тебе не скажи, ты сразу за ножичек хватаешься. И какое он имеет отношение к гвоздям и к мате.
– Ты не следишь за нитью моей мысли, – сказал Оливейра обиженно. – Сперва я сказал, что размозжил палец, потом сказал про гвозди. Ты мне возразил, что, мол, веревки мешают тебе попасть на кухню, и совершенно естественно веревки навели меня на мысль о перочинном ножике. Ты наверняка читал Эдгара По. Веревки у тебя есть, а связать мысли ты не умеешь.
Тревелер облокотился на подоконник и оглядел улицу. Скупая тень вжалась в мостовую, и на уровне первого этажа уже свирепствовало солнце, желтое солнечное вещество перло во все стороны и буквально расплющивало лицо Оливейры.
– Да, днем тебе достается от солнца как следует, – сказал Тревелер.
– Это не солнце, – сказал Оливейра. – Мог бы сообразить, что это луна и что жуткий мороз. А палец синий потому, что я его отморозил. Теперь начнется гангрена, и через пару недель ты понесешь мне гладиолусы к приюту Курносой.
– Луна? – сказал Тревелер, поднимая глаза кверху. – Да, как бы мне не пришлось навещать тебя в психушке «Виейтес».
– Там любят платных больных, но не очень хворых, – сказал Оливейра. – Какую ты чепуху городишь, Ману.
– Сто раз говорил: не называй меня Ману.
– Талита называет тебя Ману, – сказал Оливейра, тряся рукой так, словно хотел, чтобы она оторвалась.
– Разница между тобой и Талитой, – сказал Тревелер, – заметна даже на ощупь. Не понимаю, зачем тебе пользоваться ее словечками. Мне противны раки-отшельники, но и симбиоз во всех его формах, мне отвратительны лишаи и прочие паразиты.
– Твоя тонкость просто рвет мне душу на части, – сказал Оливейра.
– Благодарю. Вернемся лучше к гвоздям и заварке. Зачем тебе гвозди?
– Пока не знаю, – смутился Оливейра. – Просто я достал жестянку с гвоздями, открыл и вижу – все они погнутые. Начал их выпрямлять, а тут такой холод, и вот… Мне кажется, как только у меня будут прямые гвозди, я сразу пойму, зачем они мне.
– Интересно, – сказал Тревелер, пристально глядя на него. – Иногда с тобой творится странное. Сперва достать гвозди, а потом понять, зачем они.
– Ты меня всегда понимал, – сказал Оливейра. – А трава, ты, конечно, догадываешься, нужна мне, чтобы заварить мате покрепче.
– Ладно, – сказал Тревелер. – Подожди немного. Если я задержусь, можешь посвистеть, Талите страшно нравится, как ты свистишь.
Тряся рукой, Оливейра пошел в туалет, плеснул себе воды в лицо и на волосы. Облился так, что намокла майка, и вернулся к окну проверить теорию, согласно которой солнечные лучи, падая на мокрую ткань, должны вызывать ощущение холода. «Подумать только, – сказал себе Оливейра, – умереть, не прочитав на первой странице газет новость новостей: „ПИЗАНСКАЯ БАШНЯ УПАЛА! ПИЗАНСКАЯ БАШНЯ! Грустно подумать“.
Он принялся сочинять заголовки, это всегда помогало ему скоротать время. «ШЕРСТЯНАЯ НИТЬ» ОПУТЫВАЕТ ЕЕ, И ОНА УМИРАЕТ, ЗАДУШЕННАЯ «ЗАПАДНОЙ ШЕРСТЬЮ». Он сосчитал до двухсот, но заголовки больше не придумывались.
– Придется съехать отсюда, – пробормотал Оливейра. – Комната ужасно маленькая. Мне бы надо поступить в цирк к Ману и жить с ними. Травы!
Никто не ответил.
– Травы, – тихо сказал Оливейра. – Дай же травы, че. Не надо так, Ману. А ведь мы могли бы поболтать у окна с тобой и с Талитой, глядишь, и сеньора Гутуззо подошла бы или служанка снизу, и мы сыграли бы в «кладбище слов» или еще во что-нибудь.
«В конце концов, – подумал Оливейра, – в „кладбище слов“ я могу сыграть и один».
Он пошел за словарем, выпущенным Королевской академией Испании (слово «Королевская» на обложке было зверски изрезано бритвой), открыл словарь, наугад и приготовил для Ману задание по «кладбищу слов»:
«Устав от клиентов с их клептоманиями, клаустрофобиями и климаксами, он вывел их на клуню, велел обнажить клоаку анального отверстия и всему клиру вкатил огромную, как клиппер, клизму».
– Ну и бардак, – с долей восхищения сказал Оливейра. И подумал, что слово «бардак» тоже могло бы стать отправным для игры, но с разочарованием обнаружил, что в словаре его не было; но зато были «бордель», «бордюр», плохо только, что из-под байдана баканно сочилась байруда, так что никакого блазения, оставалось одно – бузыкать.
«И в самом деле некрополь, – подумал он. – Не понимаю, как эту мерзость обложка выдерживает».
Он принялся за новое задание, но оно не получалось. Тогда он решил составлять типичные диалоги и стал искать тетрадку, куда их записывал после того, как получал заряд вдохновения в подвальчиках, кафе и тавернах. Там уже был почти законченный типичный диалог испанцев, и он подправил его немного, прежде вылив себе на майку еще один кувшин воды.
Типичный диалог испанцев
Лопес. Я целый год прожил в Мадриде. Знаете, это было в 1925 году, и…
Перес. В Мадриде? Я как раз вчера говорил доктору Гарсиа…
Лопес. С 1925 по 1926 я был профессором литературы в университете.
Перес. Вот и я сказал: «Понимаете, старина, каждый, кто жил в Мадриде, знает, что это такое».
Лопес. Специально для меня открыли кафедру, чтобы я мог читать курс литературы.
Перес. Вот именно, вот именно. Как раз вчера я говорил доктору Гарсиа, это мой близкий друг…
Лопес. Ну конечно, когда проживешь там больше года, то начинаешь понимать, что уровень преподавания оставляет желать лучшего.
Перес. Он сын Пако Гарсиа, который был министром торговли и разводил племенных быков.
Лопес. Это просто позор, поверьте, просто позор.
Перес. Ну, конечно, старина, о чем говорить. Так вот, доктор Гарсиа…
Оливейра немного устал от диалога и закрыл тетрадь. «Шива, – подумал он вдруг. – О космический танцор, как бы сверкал ты бесконечною бронзой под этим солнцем. Почему я подумал о Шиве? Буэнос-Айрес. И ты живешь тут. Как странно. Кончится тем, что заведу энциклопедию. Что тебе проку от лета, соловей. Безусловно, учиться еще хуже, пять лет изучать поведение зеленого кузнечика. Ну-ка, что это за список, длинный такой, поглядим, что это…»
Пожелтевший листок, похоже, был вырван из международного издания. Издания ЮНЕСКО или другого в этом же духе, и на нем значились имена членов какого-то Бирманского Совета. Оливейре захотелось получить полное удовольствие от списка, и он не удержался, достал карандаш и вывел следующую хитанафору-абракадабру:
U Nu,
U Tin,
Mya Bu,
Thado Thiri Thudama U Е Maung,
Sithu U Cho,
Wunna Kyaw Htin U Khin Zaw,
Wunna Kyaw Htin U Thein Han,
Wunna Kyaw Htin U Myo Min,
Thiri Pyanchi U Thant,
Thado Maba Thray Sithu U Chan Htoon.
«Три Вунна Киау Хтин подряд – пожалуй, слишком однообразно, – подумал он, глядя на стихи. – Наверное, означает что-нибудь вроде Ваше Высочайшее Превосходительство. Че, а вот это здорово – Тхири Рианчи у Тхант, это звучит лучше. А как произносится Htoon?»
– Привет, – сказал Тревелер.