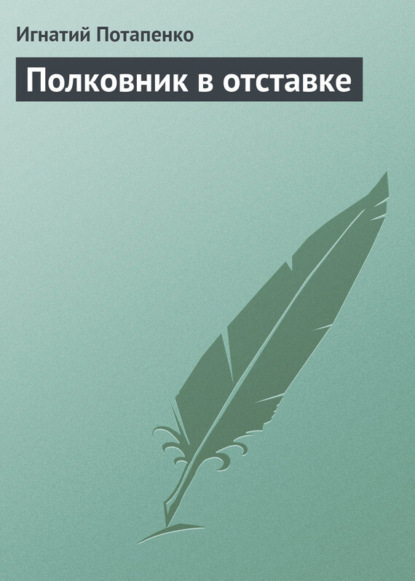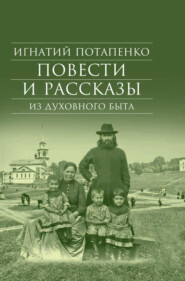По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Полковник в отставке
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да, я всего первый год, – ответил я.
– Вам не надоедает столица?
– Право, я не знаю. Я как-то не успел осмотреться.
– А мне скучно даже в таком небольшом городе, как Ярославль! – сказала она. – Я предпочитаю деревню. У нас так хорошо в деревне, это недалеко от Ярославля, в двадцати верстах. Но мне пришлось устроиться в городе из-за Липы. Она там училась. Летом мы живём там, в деревне. Приезжайте к нам когда-нибудь. А то, право, я боюсь, что Липа умрёт от скуки. Вы видите, какое она ещё дитя. Да и вы, кажется, недалеко ушли…
Я смутился. Мне это не особенно понравилось, но когда вспоминаю то время, то вижу, что Дарья Николаевна была права, – я тогда был ещё совсем мальчишкой.
На другой день утром я опять пошёл к ним. Перед воротами стоял извозчик, а когда я вошёл во двор, то встретил полковника с Липой, одетых и готовых к выезду.
– Вы куда-нибудь уезжаете? – спросил я.
– Да, в пассаж. Вот хочу Липе накупить кукол.
– О, что вы, я уже не играю в куклы! – со смехом возразила Липа.
– Ну, всё равно! Ну, тряпок каких-нибудь. Ведь это та же игра, всё равно, что в куклы! Поедем с нами! – пригласил меня полковник.
Я согласился, и мы поехали в пассаж. Полковник действительно накупил своей дочери множество тряпок; он предлагал ей решительно всё, что попадалось ему на глаза, а Липа смотрела на всё это с детским восторгом и ни от чего не могла отказаться.
– Ну, что, славная у меня дочка, а? – говорил полковник, обращаясь ко мне тут же при Липе, и я, конечно, должен был с смущением смотреть на неё и воздерживаться от похвалы. Между тем, я охотно похвалил бы её, – она действительно производила на меня приятное впечатление.
Ещё дня через два Дарья Николаевна с Липой уехали. Опять калитка отворилась, и в доме полковника всё пошло по-старому.
Мы возобновили наши шахматные турниры. Но в первые дни после отъезда дам полковник никак не мог придти в своё обычное настроение. Он казался меланхоличным, говорил мало, тянул слова, реже, чем прежде, подымался и уходил в спальню. Он так искренно входил в свою роль, когда приезжала Дарья Николаевна, что все старые привычки совершенно отпадали от него.
– Да, – говорил он, – славная у меня дочка. Да лучше бы она не приезжала. Не видал я её, ну и жил кое-как, а теперь вот скучно… И заметь, всякий раз, когда они приедут, со мной вот такое делается. Теряюсь, сбиваюсь с дороги…
Я без всякой задней мысли, как-то невольно, начал зондировать его, может быть, неосторожными вопросами.
– Зачем же они уезжают? – спросил я.
– Как зачем? Они там живут…
– Значит, здесь они не могут жить? Им нельзя?
– Нельзя… Конечно, нельзя. Если б можно было, – жили бы.
– А вы отчего там не живёте?
– Я? Отчего? Гм! Ты хочешь знать, отчего? Ну, этого, брат, я тебе рассказать не могу.
– Простите, я ведь не знал…
– Ну, что сам… пустяки!..
И он как-то особенно сосредоточенно начал ловить своей королевой моего коня. С каким-то ожесточением он преследовал мою фигуру и затем, уничтожив её, вдруг совершенно неожиданно для меня промолвил:
– Гм… так ты хочешь знать… Да, жаль, что это так случилось. Лучше бы этого никогда не бывало.
– Я не знаю, о чём вы говорите…
– То-то и есть, что не знаешь.
По всему было видно, что полковнику очень хотелось рассказать мне какую-то историю, и вот он, наконец, на это решился.
– Эх, – сказал он, – полюбил я тебя, так уж что ж. Оно бы не следовало, да, знаешь, давно я вслух не говорил об этом, а хочется… Знаешь, бывает так, что когда носишь что-нибудь в душе, так тяжело, а когда кому-нибудь покажешь, так легче становится… Видишь, тут вот какая история была… история прескверная с моей стороны. Было это давно, очень давно, совсем я тогда был ещё молодым человеком, знаешь, этак глупым офицериком. И влюблялся я, и объяснялся, словом, как все. Скажу тебе по совести, что ничего во мне особенно хорошего не было. Так жил, как другие живут, и больше ничего. А случилось однажды, что встретил я женщину удивительную. Не говорю. я о красоте… Сам видел Дарью Николаевну, и до сих пор ведь ещё красавица, а ей уж тридцать восемь лет, и много горя она вынесла. Да, так я об этом не говорю. Замечательная она женщина по другим причинам. Характера необыкновенного, и душа у неё большая… Как только я с нею познакомился, так сейчас и сам лучше стал… Знаешь, как святыня, когда человек к ней с верой прикоснётся, так сейчас душа его и очистится… Ну, познакомился я и, разумеется, сейчас же влюбился. Во-первых, я тогда влюблялся во всякую женщину, какую встречал, а во-вторых – в Дарью Николаевну и нельзя было не влюбиться, в ней было какое-то обаяние, братец ты мой, да, обаяние. Сама она была из бедного семейства, но жили они не то чтоб очень скудно, а так, было у них всё необходимое и ничего лишнего. Стал я ухаживать, был принят в доме и встретил благосклонность… Одним словом, завязался у нас роман, как следует, по всем правилам. Я тебе скажу, что тут только я понял, что такое настоящая любовь, и понял я, что все прежние мои романчики и плевка не стоили… Так она мною овладела, что я сделался её рабом. Ну, сделал предложение, получил согласие и женился. Словом, вообще, как водится. И стали мы жить да поживать. Жили мы отлично. Бог дал нам дочку, слабенькая такая родилась, думали, что и не выживет, раньше сроку на свет появилась; но ничего, выходилась, вот ты её видел. Это и есть Липа… Жили мы не расставаясь лет восемь, и никогда между нами даже размолвки не было. Оно и понятно, Дарья Николаевна была выше меня на целую голову, нравственно, я говорю, нравственно. Я всегда был ничтожным человечком, а потому и подчинялся ей беспрекословно и всё делал так, как она желала; я даже мыслить стал так, как будто у меня на плечах была не моя голова, а её, и чувствовал, как и она: к кому она хорошо относится, к тому и моё сердце лежит. К кому она немилостива, от того и я отворачиваюсь. И это не сознательно, а так как-то само собой выходило. Одним словом, нравственно я был её эхом, откликом, подражанием… Ну, хорошо. Вот так мы и жили. Дочка подрастала, счастье было у нас в доме, все нам завидовали. Но вышел один случай, чрезвычайно глупый случай… Глупый, говорю, а меж тем какие последствия. Пришлось мне уехать по делам в самый, братец ты мой, Петербург. И удивительное дело. Ехал я через Москву по железной дороге. Как только сел я в поезд, так сейчас мною овладело какое-то странное, непонятное чувство. Я вдруг почувствовал, что с меня как будто разом спали какие-то путы. Понял я в эту минуту, что все эти восемь лет я не был самим собой, а был откликом Дарьи Николаевны. Не понял я только одного, что это было хорошо. А душа моя вдруг возмутилась. Мужчина, значит, заговорил во мне, самолюбие проснулось. Гордость! Показалось мне вдруг обидно, что я перед Дарьей Николаевной такую безличность изображаю, и в эту минуту, можешь себе вообразить, какие я чувства испытывал! Я её возненавидел. Ну, вот, прямо говорю тебе, возненавидел. Самая пылкая любовь вдруг перешла в самую ожесточённую ненависть. Это бывает. Ну, так вот поехал я в Петербург. Всю дорогу я испытывал такое ощущение, как будто голова моя была в хмелю, будто я пьян немножко. Как-то странно мне было чувствовать себя самостоятельным человеком. Вот, думаю, там сидит господин, я с ним, положим, поговорю, он мне, может быть, понравится и я почувствую к нему расположение; но если б была здесь она, и он ей не пришёлся бы по вкусу, уже я бы от него отвернулся; у меня, значит, не было бы ни своей воли, ни своего вкуса… Вот, например, рядом со мной сидит дама… у неё приятное лицо, мне приятно с ней сидеть рядом и разговаривать, а будь здесь Дарья Николаевна… Ну, и вот всё в таком роде. И я только и делал, что всю дорогу заговаривал то с тем, то с другим, знакомился, говорил очень много, возбуждённо, и все люди мне ужасно нравились, ко всем я чувствовал чуть что не любовь, – одним словом, просто я опьянел от воли… Приехал в Петербург; я не в первый раз был в этом городе и немного знал его. И встретился я здесь со старыми товарищами. Как водится, мы кутнули, и я при этом, разумеется, и пил, и шумел, и безобразничал больше всех, потому что чувствовал себя как бы выпущенным из тюрьмы, и всё это время, говорю тебе откровенно, ненависть к Дарье Николаевне не покидала меня. Чудеса, брат, бывают в природе. Удивительная штука человеческая душа! Как бы ты думал, чем это кончилось?.. Явилась у меня жажда чем-нибудь отомстить ей за то, что в течение восьми лет я лишён был свободы, что моя личность подавлялась её личностью, и что же придумал? Ну, конечно, я не много думал об этом, оно как-то само собой вышло; ну, одним словом, пришлось мне познакомиться с одной особой… швейка она была простая, так, ничего, лицо красивое, хотя, конечно, далеко ей было до Дарьи Николаевны, даже и сравнения не могло быть… Но я тогда всё делал скоропалительно… Раз повидался, другой, уж и влюбился, и объяснился, и страстные объятия были, ну и кончилось это тем, чем обыкновенно кончается… Изменил я, братец ты мой, моей Дарье Николаевне, изменил с ожесточением, с чувством мести, со злобой. Может быть, все эти чувства и долго бы оставались при мне, то есть, ровно столько, сколько я находился бы вдали от Дарьи Николаевны, но дело в том, что ездил-то я по службе, и отпуск был у меня короткий, и должен был я вернуться. Вот тут-то и произошла история. Как только я вернулся, прибыл домой, увидел её, так сейчас и впал в отчаяние. Опять я в её власти, опять я чувствую, что она высока, а я низок, что она совершенство, что я её преданный раб; опять овладели мной прежние чувства, и ходил я, как. убитый, и не знал, куда мне деваться… А Дарья Николаевна всё это видела и проникала взглядом своим в мою душу. Видела она, что во мне происходит нечто небывалое, и прямо ко мне: "ты, – говорит, – скажи, нечего таить! таить ничего не следует, надо, – говорит, – принимать всё, как, есть, и хорошее, и. дурное…" Ну, я ей и сказал: "подлость, – говорю, – сделал, – так прямо и сказал – подлость сделал, такую-то и такую-то…" Даже больше, – рассказал ей про все свои чувства, которые овладели мной, когда я сел в вагон, не скрыл ничего, – я перед ней ничего не мог скрывать. Поднял я голову и смотрю на неё; вижу, она окаменела совсем, братец ты мой, стоит передо мной, как мраморная, и холодом от неё таким веет, как от надгробного памятника: и говорит она мне: "нет, – говорит, – вы сделали две подлости: одну со мной, а другую с нею, с той женщиной…" А я чувствую, что это правда; конечно, так это и было: я сделал две подлости. Ну, с этого пошло. Я и молил, и рыдал, – ничего не помогло; как стала она в тот момент каменная, так и осталась. "Я, – говорит, – против вас – заметь, против вас; уж она начала мне говорить «вы», – так сразу и начала, с того момента, – я, говорит, против вас лично ничего не имею, а только не могу… Любовь исчезла из моего сердца, а если нет любви, то, значит, всё порвалось между людьми, нет связи… А насильно нельзя. Душу нельзя насиловать…" Так ничего я и не добился. Тысячу раз я возобновлял свои просьбы, свои мольбы и рыдания: «что ж я, – говорит, – сделаю, если я не могу?» И при этом вот тебе ещё черта: после того мы прожили с нею в одном доме целый год, и каждый месяц она напоминала мне про ту женщину, про швею, напоминала, чтоб не забыл я ей послать деньги, «потому что, – говорит, – ей нужно; может быть, она теперь в нужде, вы обязаны это делать». Я исполнял. Но тосковал же я тогда, страшно тосковал, она смотрела на меня, и, должно быть, жаль ей было… Видел я, как она тихонько плакала, но мне своих слёз никогда не показывала; на меня она смотрела холодно, немилостиво, даже, скажу тебе, жестоко, и однажды говорит: «тяжело жить нам, и вам тяжело и мне, не лучше ли нам расстаться?» – «Расстаться? – говорю я, – а как же Липа? Ведь я не могу без неё». – «Липа будет учиться. Я буду смотреть за нею. Мы будем приезжать к вам…» Я долго думал над этим, но потом пришёл к той же мысли: действительно, очень уж тяжело было нам жить вместе, а мне в особенности. И вот я переехал в Москву, купил себе здесь домик и поселился в нём. Но нет, уж того чувства, которое испытал я в вагоне, я больше не дождался. Это могло быть только один раз, а потом, когда произошло такое страшное событие в моей жизни, я уже навеки остался в нравственном подчинении у Дарьи Николаевны. Правда, натура у меня была бурная, она стала проявляться; начал, было, я беситься, рваться во все стороны, делать глупости, но как-то скоро увидел, что всё это мне не к лицу; в моём положении, понимаешь, где уж, и стал я над собой работать. Вот тогда я бросил мясо есть и, вообще, смирился. Жизнь моя текла скучно, так, знаешь, как тяжёлое ядро, когда оно катится по равнине… Ну, вот от такой жизни и к шкафику стал прикладываться… Ещё слава Богу, что с молодёжью познакомился, всё-таки они хоть шумят, движутся, и мне не так скучно. Так-то, брат!
– Вам тяжело, должно быть? – спросил я.
– Тяжело, страшно тяжело! По натуре я семейник, а вот приходится жизнь коротать одному. И всякий раз, когда приезжает сюда Дарья Николаевна, я всё-таки начинаю умолять её, да ничего не помогает. Только спросит: зачем? И больше ничего.
С этого времени я стал ещё ближе к полковнику. И мне пришлось оказаться для него необходимым. Однажды с ним случилась какая-то болезнь: он вдруг почувствовал головокружение, схватился за сердце и упал в кресло. Я позвал врача; это не был удар, но оказалось, что у него сердце в сильном расстройстве. Я распорядился, как хозяин: запер калитку, и затем, когда товарищи встретились со мной в университете, все, знавшие о моей близости с полковником, спрашивали:
– Она приехала? Так скоро?
– Нет, – объяснил я, – она не приехала, но полковник болен, у него что-то с сердцем неладно.
Все поняли это, и никто больше не пытался стучаться в калитку. Я телеграфировал Дарье Николаевне, и на другой же день к вечеру она приехала, но одна – Липа осталась у тётки. Полковник не знал о моей телеграмме и, должно быть, не ждал её приезда. Мы с Дарьей Николаевной были в третьей комнате от его спальни и вели тихий разговор.
– Вы зайдёте к нему? – спросил я. – Конечно, зайдёте, раз вы приехали.
У неё было странное лицо. Какая-то нерешительность выражалась в её глазах; может быть, ей было очень тяжело исполнить этот долг, но я уже успел полюбить полковника и потому на этот раз увлёкся и обратился к ней с некоторой горячностью.
– Слушайте, Дарья Николаевна, простите меня! Я знаю всё. Полковник рассказал мне… Ему очень тяжело теперь…
Лицо её выразило страдание.
– Что я могу поделать? – воскликнула она. – Ведь он сам разорвал нить, связывавшую нас! И какая это была нить… Какая это была жизнь!
Это у неё вырвалось. Затем она овладела собой и сказала с обычной сдержанностью, почти холодно:
– Войдёмте вместе, прошу вас.
Я пошёл вслед за нею.
Когда отворилась дверь, и Дарья Николаевна появилась на пороге, полковник с величайшим волнением сделал усилие, чтобы приподняться.
– Вам вредно это, – сказала Дарья Николаевна, – лежите.
– Ах, спасибо, спасибо! – говорил полковник.
Глаза его были полны слёз; в это время он протянул мне руку и крепко пожал её.
– Видите, не выдержал, свалился… Сердце-то, сердце!.. А Липа?
– Липа осталась у моей сестры.
– Вам не надоедает столица?
– Право, я не знаю. Я как-то не успел осмотреться.
– А мне скучно даже в таком небольшом городе, как Ярославль! – сказала она. – Я предпочитаю деревню. У нас так хорошо в деревне, это недалеко от Ярославля, в двадцати верстах. Но мне пришлось устроиться в городе из-за Липы. Она там училась. Летом мы живём там, в деревне. Приезжайте к нам когда-нибудь. А то, право, я боюсь, что Липа умрёт от скуки. Вы видите, какое она ещё дитя. Да и вы, кажется, недалеко ушли…
Я смутился. Мне это не особенно понравилось, но когда вспоминаю то время, то вижу, что Дарья Николаевна была права, – я тогда был ещё совсем мальчишкой.
На другой день утром я опять пошёл к ним. Перед воротами стоял извозчик, а когда я вошёл во двор, то встретил полковника с Липой, одетых и готовых к выезду.
– Вы куда-нибудь уезжаете? – спросил я.
– Да, в пассаж. Вот хочу Липе накупить кукол.
– О, что вы, я уже не играю в куклы! – со смехом возразила Липа.
– Ну, всё равно! Ну, тряпок каких-нибудь. Ведь это та же игра, всё равно, что в куклы! Поедем с нами! – пригласил меня полковник.
Я согласился, и мы поехали в пассаж. Полковник действительно накупил своей дочери множество тряпок; он предлагал ей решительно всё, что попадалось ему на глаза, а Липа смотрела на всё это с детским восторгом и ни от чего не могла отказаться.
– Ну, что, славная у меня дочка, а? – говорил полковник, обращаясь ко мне тут же при Липе, и я, конечно, должен был с смущением смотреть на неё и воздерживаться от похвалы. Между тем, я охотно похвалил бы её, – она действительно производила на меня приятное впечатление.
Ещё дня через два Дарья Николаевна с Липой уехали. Опять калитка отворилась, и в доме полковника всё пошло по-старому.
Мы возобновили наши шахматные турниры. Но в первые дни после отъезда дам полковник никак не мог придти в своё обычное настроение. Он казался меланхоличным, говорил мало, тянул слова, реже, чем прежде, подымался и уходил в спальню. Он так искренно входил в свою роль, когда приезжала Дарья Николаевна, что все старые привычки совершенно отпадали от него.
– Да, – говорил он, – славная у меня дочка. Да лучше бы она не приезжала. Не видал я её, ну и жил кое-как, а теперь вот скучно… И заметь, всякий раз, когда они приедут, со мной вот такое делается. Теряюсь, сбиваюсь с дороги…
Я без всякой задней мысли, как-то невольно, начал зондировать его, может быть, неосторожными вопросами.
– Зачем же они уезжают? – спросил я.
– Как зачем? Они там живут…
– Значит, здесь они не могут жить? Им нельзя?
– Нельзя… Конечно, нельзя. Если б можно было, – жили бы.
– А вы отчего там не живёте?
– Я? Отчего? Гм! Ты хочешь знать, отчего? Ну, этого, брат, я тебе рассказать не могу.
– Простите, я ведь не знал…
– Ну, что сам… пустяки!..
И он как-то особенно сосредоточенно начал ловить своей королевой моего коня. С каким-то ожесточением он преследовал мою фигуру и затем, уничтожив её, вдруг совершенно неожиданно для меня промолвил:
– Гм… так ты хочешь знать… Да, жаль, что это так случилось. Лучше бы этого никогда не бывало.
– Я не знаю, о чём вы говорите…
– То-то и есть, что не знаешь.
По всему было видно, что полковнику очень хотелось рассказать мне какую-то историю, и вот он, наконец, на это решился.
– Эх, – сказал он, – полюбил я тебя, так уж что ж. Оно бы не следовало, да, знаешь, давно я вслух не говорил об этом, а хочется… Знаешь, бывает так, что когда носишь что-нибудь в душе, так тяжело, а когда кому-нибудь покажешь, так легче становится… Видишь, тут вот какая история была… история прескверная с моей стороны. Было это давно, очень давно, совсем я тогда был ещё молодым человеком, знаешь, этак глупым офицериком. И влюблялся я, и объяснялся, словом, как все. Скажу тебе по совести, что ничего во мне особенно хорошего не было. Так жил, как другие живут, и больше ничего. А случилось однажды, что встретил я женщину удивительную. Не говорю. я о красоте… Сам видел Дарью Николаевну, и до сих пор ведь ещё красавица, а ей уж тридцать восемь лет, и много горя она вынесла. Да, так я об этом не говорю. Замечательная она женщина по другим причинам. Характера необыкновенного, и душа у неё большая… Как только я с нею познакомился, так сейчас и сам лучше стал… Знаешь, как святыня, когда человек к ней с верой прикоснётся, так сейчас душа его и очистится… Ну, познакомился я и, разумеется, сейчас же влюбился. Во-первых, я тогда влюблялся во всякую женщину, какую встречал, а во-вторых – в Дарью Николаевну и нельзя было не влюбиться, в ней было какое-то обаяние, братец ты мой, да, обаяние. Сама она была из бедного семейства, но жили они не то чтоб очень скудно, а так, было у них всё необходимое и ничего лишнего. Стал я ухаживать, был принят в доме и встретил благосклонность… Одним словом, завязался у нас роман, как следует, по всем правилам. Я тебе скажу, что тут только я понял, что такое настоящая любовь, и понял я, что все прежние мои романчики и плевка не стоили… Так она мною овладела, что я сделался её рабом. Ну, сделал предложение, получил согласие и женился. Словом, вообще, как водится. И стали мы жить да поживать. Жили мы отлично. Бог дал нам дочку, слабенькая такая родилась, думали, что и не выживет, раньше сроку на свет появилась; но ничего, выходилась, вот ты её видел. Это и есть Липа… Жили мы не расставаясь лет восемь, и никогда между нами даже размолвки не было. Оно и понятно, Дарья Николаевна была выше меня на целую голову, нравственно, я говорю, нравственно. Я всегда был ничтожным человечком, а потому и подчинялся ей беспрекословно и всё делал так, как она желала; я даже мыслить стал так, как будто у меня на плечах была не моя голова, а её, и чувствовал, как и она: к кому она хорошо относится, к тому и моё сердце лежит. К кому она немилостива, от того и я отворачиваюсь. И это не сознательно, а так как-то само собой выходило. Одним словом, нравственно я был её эхом, откликом, подражанием… Ну, хорошо. Вот так мы и жили. Дочка подрастала, счастье было у нас в доме, все нам завидовали. Но вышел один случай, чрезвычайно глупый случай… Глупый, говорю, а меж тем какие последствия. Пришлось мне уехать по делам в самый, братец ты мой, Петербург. И удивительное дело. Ехал я через Москву по железной дороге. Как только сел я в поезд, так сейчас мною овладело какое-то странное, непонятное чувство. Я вдруг почувствовал, что с меня как будто разом спали какие-то путы. Понял я в эту минуту, что все эти восемь лет я не был самим собой, а был откликом Дарьи Николаевны. Не понял я только одного, что это было хорошо. А душа моя вдруг возмутилась. Мужчина, значит, заговорил во мне, самолюбие проснулось. Гордость! Показалось мне вдруг обидно, что я перед Дарьей Николаевной такую безличность изображаю, и в эту минуту, можешь себе вообразить, какие я чувства испытывал! Я её возненавидел. Ну, вот, прямо говорю тебе, возненавидел. Самая пылкая любовь вдруг перешла в самую ожесточённую ненависть. Это бывает. Ну, так вот поехал я в Петербург. Всю дорогу я испытывал такое ощущение, как будто голова моя была в хмелю, будто я пьян немножко. Как-то странно мне было чувствовать себя самостоятельным человеком. Вот, думаю, там сидит господин, я с ним, положим, поговорю, он мне, может быть, понравится и я почувствую к нему расположение; но если б была здесь она, и он ей не пришёлся бы по вкусу, уже я бы от него отвернулся; у меня, значит, не было бы ни своей воли, ни своего вкуса… Вот, например, рядом со мной сидит дама… у неё приятное лицо, мне приятно с ней сидеть рядом и разговаривать, а будь здесь Дарья Николаевна… Ну, и вот всё в таком роде. И я только и делал, что всю дорогу заговаривал то с тем, то с другим, знакомился, говорил очень много, возбуждённо, и все люди мне ужасно нравились, ко всем я чувствовал чуть что не любовь, – одним словом, просто я опьянел от воли… Приехал в Петербург; я не в первый раз был в этом городе и немного знал его. И встретился я здесь со старыми товарищами. Как водится, мы кутнули, и я при этом, разумеется, и пил, и шумел, и безобразничал больше всех, потому что чувствовал себя как бы выпущенным из тюрьмы, и всё это время, говорю тебе откровенно, ненависть к Дарье Николаевне не покидала меня. Чудеса, брат, бывают в природе. Удивительная штука человеческая душа! Как бы ты думал, чем это кончилось?.. Явилась у меня жажда чем-нибудь отомстить ей за то, что в течение восьми лет я лишён был свободы, что моя личность подавлялась её личностью, и что же придумал? Ну, конечно, я не много думал об этом, оно как-то само собой вышло; ну, одним словом, пришлось мне познакомиться с одной особой… швейка она была простая, так, ничего, лицо красивое, хотя, конечно, далеко ей было до Дарьи Николаевны, даже и сравнения не могло быть… Но я тогда всё делал скоропалительно… Раз повидался, другой, уж и влюбился, и объяснился, и страстные объятия были, ну и кончилось это тем, чем обыкновенно кончается… Изменил я, братец ты мой, моей Дарье Николаевне, изменил с ожесточением, с чувством мести, со злобой. Может быть, все эти чувства и долго бы оставались при мне, то есть, ровно столько, сколько я находился бы вдали от Дарьи Николаевны, но дело в том, что ездил-то я по службе, и отпуск был у меня короткий, и должен был я вернуться. Вот тут-то и произошла история. Как только я вернулся, прибыл домой, увидел её, так сейчас и впал в отчаяние. Опять я в её власти, опять я чувствую, что она высока, а я низок, что она совершенство, что я её преданный раб; опять овладели мной прежние чувства, и ходил я, как. убитый, и не знал, куда мне деваться… А Дарья Николаевна всё это видела и проникала взглядом своим в мою душу. Видела она, что во мне происходит нечто небывалое, и прямо ко мне: "ты, – говорит, – скажи, нечего таить! таить ничего не следует, надо, – говорит, – принимать всё, как, есть, и хорошее, и. дурное…" Ну, я ей и сказал: "подлость, – говорю, – сделал, – так прямо и сказал – подлость сделал, такую-то и такую-то…" Даже больше, – рассказал ей про все свои чувства, которые овладели мной, когда я сел в вагон, не скрыл ничего, – я перед ней ничего не мог скрывать. Поднял я голову и смотрю на неё; вижу, она окаменела совсем, братец ты мой, стоит передо мной, как мраморная, и холодом от неё таким веет, как от надгробного памятника: и говорит она мне: "нет, – говорит, – вы сделали две подлости: одну со мной, а другую с нею, с той женщиной…" А я чувствую, что это правда; конечно, так это и было: я сделал две подлости. Ну, с этого пошло. Я и молил, и рыдал, – ничего не помогло; как стала она в тот момент каменная, так и осталась. "Я, – говорит, – против вас – заметь, против вас; уж она начала мне говорить «вы», – так сразу и начала, с того момента, – я, говорит, против вас лично ничего не имею, а только не могу… Любовь исчезла из моего сердца, а если нет любви, то, значит, всё порвалось между людьми, нет связи… А насильно нельзя. Душу нельзя насиловать…" Так ничего я и не добился. Тысячу раз я возобновлял свои просьбы, свои мольбы и рыдания: «что ж я, – говорит, – сделаю, если я не могу?» И при этом вот тебе ещё черта: после того мы прожили с нею в одном доме целый год, и каждый месяц она напоминала мне про ту женщину, про швею, напоминала, чтоб не забыл я ей послать деньги, «потому что, – говорит, – ей нужно; может быть, она теперь в нужде, вы обязаны это делать». Я исполнял. Но тосковал же я тогда, страшно тосковал, она смотрела на меня, и, должно быть, жаль ей было… Видел я, как она тихонько плакала, но мне своих слёз никогда не показывала; на меня она смотрела холодно, немилостиво, даже, скажу тебе, жестоко, и однажды говорит: «тяжело жить нам, и вам тяжело и мне, не лучше ли нам расстаться?» – «Расстаться? – говорю я, – а как же Липа? Ведь я не могу без неё». – «Липа будет учиться. Я буду смотреть за нею. Мы будем приезжать к вам…» Я долго думал над этим, но потом пришёл к той же мысли: действительно, очень уж тяжело было нам жить вместе, а мне в особенности. И вот я переехал в Москву, купил себе здесь домик и поселился в нём. Но нет, уж того чувства, которое испытал я в вагоне, я больше не дождался. Это могло быть только один раз, а потом, когда произошло такое страшное событие в моей жизни, я уже навеки остался в нравственном подчинении у Дарьи Николаевны. Правда, натура у меня была бурная, она стала проявляться; начал, было, я беситься, рваться во все стороны, делать глупости, но как-то скоро увидел, что всё это мне не к лицу; в моём положении, понимаешь, где уж, и стал я над собой работать. Вот тогда я бросил мясо есть и, вообще, смирился. Жизнь моя текла скучно, так, знаешь, как тяжёлое ядро, когда оно катится по равнине… Ну, вот от такой жизни и к шкафику стал прикладываться… Ещё слава Богу, что с молодёжью познакомился, всё-таки они хоть шумят, движутся, и мне не так скучно. Так-то, брат!
– Вам тяжело, должно быть? – спросил я.
– Тяжело, страшно тяжело! По натуре я семейник, а вот приходится жизнь коротать одному. И всякий раз, когда приезжает сюда Дарья Николаевна, я всё-таки начинаю умолять её, да ничего не помогает. Только спросит: зачем? И больше ничего.
С этого времени я стал ещё ближе к полковнику. И мне пришлось оказаться для него необходимым. Однажды с ним случилась какая-то болезнь: он вдруг почувствовал головокружение, схватился за сердце и упал в кресло. Я позвал врача; это не был удар, но оказалось, что у него сердце в сильном расстройстве. Я распорядился, как хозяин: запер калитку, и затем, когда товарищи встретились со мной в университете, все, знавшие о моей близости с полковником, спрашивали:
– Она приехала? Так скоро?
– Нет, – объяснил я, – она не приехала, но полковник болен, у него что-то с сердцем неладно.
Все поняли это, и никто больше не пытался стучаться в калитку. Я телеграфировал Дарье Николаевне, и на другой же день к вечеру она приехала, но одна – Липа осталась у тётки. Полковник не знал о моей телеграмме и, должно быть, не ждал её приезда. Мы с Дарьей Николаевной были в третьей комнате от его спальни и вели тихий разговор.
– Вы зайдёте к нему? – спросил я. – Конечно, зайдёте, раз вы приехали.
У неё было странное лицо. Какая-то нерешительность выражалась в её глазах; может быть, ей было очень тяжело исполнить этот долг, но я уже успел полюбить полковника и потому на этот раз увлёкся и обратился к ней с некоторой горячностью.
– Слушайте, Дарья Николаевна, простите меня! Я знаю всё. Полковник рассказал мне… Ему очень тяжело теперь…
Лицо её выразило страдание.
– Что я могу поделать? – воскликнула она. – Ведь он сам разорвал нить, связывавшую нас! И какая это была нить… Какая это была жизнь!
Это у неё вырвалось. Затем она овладела собой и сказала с обычной сдержанностью, почти холодно:
– Войдёмте вместе, прошу вас.
Я пошёл вслед за нею.
Когда отворилась дверь, и Дарья Николаевна появилась на пороге, полковник с величайшим волнением сделал усилие, чтобы приподняться.
– Вам вредно это, – сказала Дарья Николаевна, – лежите.
– Ах, спасибо, спасибо! – говорил полковник.
Глаза его были полны слёз; в это время он протянул мне руку и крепко пожал её.
– Видите, не выдержал, свалился… Сердце-то, сердце!.. А Липа?
– Липа осталась у моей сестры.