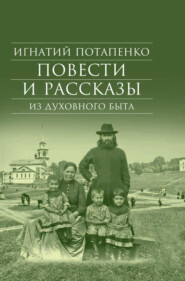По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
На действительной службе (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Едва только кончилась пробная неделя, в воскресенье после обедни Кирилл заторопился с отъездом. Мура была готова. Он всю неделю подгонял ее; она уложила приданое в сундуки. К этому дню приехал из Устимьевки дьякон. Он взялся нанять фуру и сопровождать ее с разным скарбом до самого Лугового; Кирилл же с Мурой поедет на почтовых днем позже, когда там все уже будет приведено в порядок. В понедельник утром дьякон, усердно помолившись Богу, двинулся в путь, а Кирилл пошел к архиерею за обычным напутствием.
Архиерей пришел к нему в темно-зеленой шелковой рясе, в клобуке и с длинными четками. Он собирался выехать со двора. Кирилла удивил несколько строгий вид, с которым он его встретил. Он не улыбался, не шутил и вообще отнесся к нему более начальственно. Кирилл объяснил это тем, что он теперь священник, в рясе, и, следовательно, архиерей является его прямым начальником. Он и раньше заметил, что с людьми, носящими гражданское платье, архиереи обращаются снисходительнее и проще. Архиерей говорил с ним стоя и сам стоял, тогда как прежде всегда он приглашал его садиться и сам садился.
– Ты отправляешься на место своего служения? – спросил он, перебирая четки обеими руками.
– Да, думаю завтра отправиться, – отвечал Кирилл.
– Следовательно, ты не раздумал и стоишь на своем?
– Нет, не раздумал.
– А то я тебе дал бы хорошее место здесь, в купеческой церкви.
– Благодарю вас. Но я хочу в деревню…
Архиерей нахмурил брови и пристально посмотрел ему в глаза.
– Ты хочешь этого непременно? – выразительно спросил он.
– Да, я хочу этого, ваше преосвященство!
– Помни, однако, – строго-наставительно сказал архиерей, – что в твоем новом сане никакие умствования не должны быть допускаемы. Ты должен быть пастырем твоих овец, не более.
– Добрым пастырем, ваше преосвященство.
– Разумеется, добрым, – слегка возвысив тон, перебил его архиерей, – но не думаешь ли ты, что все прочие пастыри не таковы? Нехорошо начинать службу с такими горделивыми мыслями.
Все это было до последней степени странно, и каждое новое слово архиерея приводило Кирилла в изумление. Откуда все это? Кто внушил ему эти подозрения?
– Вот что, сын мой! – прибавил архиерей, как бы несколько смягчившись. – Ты для меня загадка. Одно из двух: или ты добрая и простая душа, или в тебе сидит демон возмущения.
– Возмущения?.. – воскликнул Кирилл. – Вы прежде не думали так, ваше преосвященство.
В лице архиерея можно было заметить легкое смущение. Казалось, ему даже сделалось стыдно за это испытание, которому он подверг ни в чем не повинного человека. Он улыбнулся, поднял руку и потрепал Кирилла по плечу.
– Нет, я знаю, что у тебя невинная душа! – мягко и дружеским тоном сказал он. – Однако же блюди! Мне известно, что, будучи в Академии, ты с умниками знакомства вел. Я уважаю умных людей, хотя бы и светских, но светские идеи неприложимы к иерейскому сану. Служи меньшому брату, единому от малых сих, это хорошая идея, но удаляйся от всякой предвзятости. И осторожен будь, ибо твою добрую идею немногие понимают, а непонимающие во всяком добре могут зло отыскать! Осторожен будь! Это тебе мое отеческое напутствие!
Он с большим чувством благословил Кирилла и даже облобызал его и, отпуская, прибавил:
– Дерзай!
Кирилл вышел от него в большом недоумении. Не было никакого сомнения, что у архиерея с кем-то была про него речь. Этот «кто-то», конечно, человек сведущий про его жизнь в Академии. Кто бы это мог быть?
Он нанял извозчика и поехал в соборный дом. У самых ворот, когда он уже слез с брички, ему попался на глаза молодой Межов, который подлетел к нему и прямо заявил:
– Утвердили, брат, таки утвердили. Разумеется, сперва исправляющим должность, а потом и совсем утвердят.
Кирилл понял, что речь идет об инспекторстве. Межов осмотрел его и продолжал:
– А ты уже в рясу облачился?! Скоро. Вот, признаюсь тебе откровенно, чего я не понимаю, так именно этого!
– Ну что же я с тобой поделаю, коли ты не понимаешь! – поспешил ответить Кирилл.
– То есть как сказать… Я понимаю… Деревня, слияние с народом и прочее… Только это, извини, глупо!
– До свидания… Я спешу! – оборвал его Кирилл, кивнув головой, и быстро скрылся за калитку. Не любил он разговаривать с этим господином. О чем бы они ни начали разговор, всегда оказывалось, что их мнения как раз противоположны. Они как-то органически, безнадежно расходились во взглядах. К тому же Межов был болтлив и любил развивать свои взгляды в многословных тирадах.
«Этот сболтнул дядюшке-ректору, а дядюшка-ректор поведал архиерею с соответствующими случаю комментариями, вот и вся история», – подумал Кирилл, и для него в самом деле стало все ясно.
V
В среду, около двух часов дня, почтовая таратайка, окруженная густым облаком пыли, из глубины которого, как из таинственного облака, раздавался зычный лязг почтового колокольчика, вкатилась в пределы местечка Лугового. С первого взгляда можно было понять, что это поселение лишь по недоразумению сделалось местечком. По какому-то случайному признаку люди вообразили, что это место бойкое, удобное – и давай строить хату к хате. А может быть, в прежнее время здесь пролегала большая торговая дорога, которая собрала сюда народ; а потом, с продолжением новых усовершенствованных путей, пункт этот остался в стороне.
Луговое было без толку разбросано на расстоянии добрых двух верст в длину да на версту в ширину. Хаты были приземистые, крытые старым, давно почерневшим камышом, и это были хаты прежних владельцев, у которых некогда был еще достаток. Они прилегали к главной улице, неподалеку от узенькой речки, поросшей куширем и окаймленной густой стеной зеленого камыша. На этой улице стояла церковь, небольшая и невысокая, с единственным зеленым куполом и без колокольни. Колокола висели под деревянным навесом, укрепленным на двух столбах. Далее в обе стороны шли узкие проулки, заостренные большею частью землянками с низенькими земляными крышами, на которых привольно росли бурьян и лопух, а кое-где – посеянный лук и даже огуречная гудина. Таким образом, было ясно, что позднейшие поколения отличались уже откровенной бедностью и селились прямо в землянках.
При самом въезде в местечко справа расстилался довольно обширный сад, но сильно запущенный, со множеством высохших деревьев, поросший высоким бурьяном и чужеядным кустарником. В самом саду помещался помещичий дом, квадратный, с почерневшей и покоробившейся деревянной крышей, небольшой и, по-видимому, неблагоустроенный.
Почтовая таратайка направилась к церкви и остановилась у крыльца чистенького каменного домика с зеленой крышей, примыкавшего к самой церковной ограде. На крыльце стоял и приветливо улыбался устимьевский дьякон. Он был доволен и благорасположен, потому что квартирка в церковном доме оказалась удобной, приличной и поместительной.
– Только народ здесь все ободранный, голоштанник какой-то!.. Сомнительно, чтобы здесь доход был хороший! – прибавил дьякон, когда молодые хозяева вошли в дом и сняли с себя страшно запыленные верхние платья. Впрочем, он рассказал и кое-что утешительное. Он уже побывал у священника. Отец Родион Манускриптов уже пятнадцать лет сидел в Луговом и, конечно, знал, какие здесь доходы. Сначала он принял дьякона сухо.
– Вы кто такой? Я вас не знаю. Ваш сын молоденек и в настоятели лезет, а я пятнадцать лет здесь корплю.
Но дьякон объяснил, что Кирилл не просился в настоятели, а случилось это потому, что он первый магистрант Академии.
– Магистрант?! Вот как! Ну, тогда конечно, конечно… Тогда другая статья.
Слово «магистрант» в глазах отца Родиона Манускриптова было волшебным. Оно давало человеку все права на первенство во всех отношениях. Сам он достиг священства исподволь, путем долгих просьб, ибо курса семинарии не кончил. Получив столь значительное разъяснение, он открыл свою душу устимьевскому дьякону и поведал ему, что в сущности доходы здесь хороши, ежели действовать умеючи. Народ – голытьба, это правда, но есть дворов десять богатых, а кроме того, наезжают по воскресеньям достаточные хуторяне. Народ это такой, что ежели его пригласить да угостить чаем и водкой, то он тебе на другое воскресенье полную засеку жита привезет.
– Хуторянами и живем по преимуществу! – прибавил отец Родион. – А особенно Луговое, так это, можно сказать, «велика Федора, да дура». Толку с него мало. Народ бедственный и притом грубый. Три кабака здесь есть, так они всегда полны, а церковь пустует. Помещица тоже здесь есть, но странная особа. Церковь не посещает и вообще к духовным лицам не благоволит… Ну, а в общем – жить можно.
Все это дьякон рассказал Кириллу. И прибавил от себя:
– Ты с отцом Родионом сойдись. Да и помещицу посети. Может, она к твоей учености снизойдет. Все-таки подмога.
Тут он заторопился, наскоро выпил чаю и уехал в Устимьевку, сказав, что отец настоятель будет сердиться за его долговременное отсутствие.
Утомленный дорогой, Кирилл решил в этот день не предпринимать ничего. Он деятельно помогал Муре расставлять мебель, вынимать из сундуков платье и белье и все это распределять по комодам и шкапам. День был жаркий, августовский. Они открыли окна в небольшой палисадник, в котором цвели настурции, георгины и анютины глазки, посаженные, должно быть, их предшественниками. Из окон видны были мужицкие хаты с узенькими гумнами, где копошились крестьяне, мелькали в воздухе цепы и раздавался торопливый стук их. Бабы загребали солому и сметали зерно в кучу. Мура глядела на все это с детским любопытством. Первый раз в жизни она видела, как делается хлеб. Этот стук возбудил в ней непонятную тревогу. Мысль, что она здесь хозяйка, в этой чужой для нее местности, с неизвестными ей людьми и обычаями, не уживалась в ее голове. Ей все казалось, что она не более как путница, и все это оригинальный дорожный эпизод.
Уже вечерело. Они сидели в спальне у раскрытого окна и отдыхали после возни. Им показалось, что в передней комнате, которую они называли «прихожей», скрипнула дверь и что-то зашевелилось. Марья Гавриловна вздрогнула, поднялась и заглянула в дверь.
– Добрый вечер, матушка! – сказала вошедшая женщина и низко поклонилась.
Она была невысокого роста, плотная, с выдающимся вперед животом. Лицо ее было красно, точно она перед этим целый день стояла у раскаленной плиты; на этом лице все было крупно и как-то особенно прочно сделано. Густые черные брови, соединенные в одну прямую линию, толстый нос, задранный кверху, с назойливо раскрытыми широкими ноздрями, широкий рот с толстыми губами малинового цвета, массивный четырехугольный подбородок и короткая толстая шея. На голове у нее был платок темно-серый шерстяной, дважды обернутый вокруг шеи, несмотря на то, что было жарко и душно. Белая сорочка была грязновата, а ситцевая юбка сильно подтыкана, что придавало всей этой смешной фигуре деловитый вид.
– А что вам? – с недоумением спросила Марья Гавриловна.
Ей показалось странным, как это можно входить в чужой дом без приглашения и без доклада. Ей было известно, что так делают нищие и подозрительные люди.