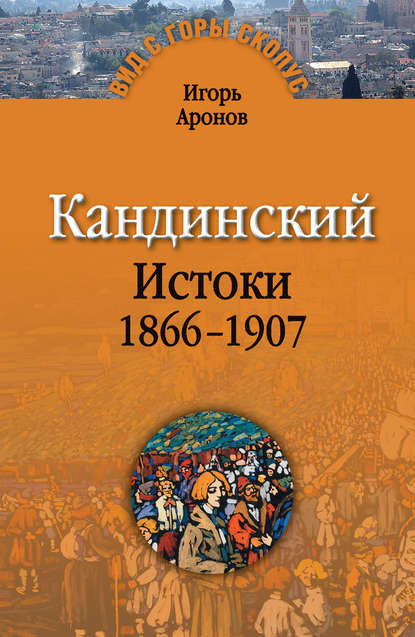По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Кандинский. Истоки. 1866-1907
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Кандинский. Истоки. 1866-1907
Игорь Аронов
Вид с горы Скопус
Книга И. Аронова посвящена до сих пор малоизученному раннему периоду жизни творчества Василия Кандинского (1866–1944). В течение этого периода, верхней границей которого является 1907 г., художник, переработав многие явления русской и западноевропейской культур, сформировал собственный мифотворческий символизм. Жажда духовного привела его к великому перевороту в искусстве – созданию абстрактной живописи. Опираясь на многие архивные материалы, частью еще не опубликованные, и на комплексное изучение историко-культурных и социальных реалий того времени, автор ставит своей целью приблизиться, насколько возможно избегая субъективного или тенденциозного толкования, к пониманию скрытых смыслов образов мастера.
Игорь Аронов, окончивший Петербургскую Академию художеств и защитивший докторскую диссертацию в Еврейском университете в Иерусалиме, преподает в Академии искусств Бецалель в Иерусалиме и в Тель-Авивском университете. Его научные интересы сосредоточены на исследовании русского авангарда.
Игорь Аронов
Кандинский
Истоки
1866 – 1907
Ире, Лиле, Шели
Предисловие
Эта книга имеет свою предысторию. В 2002 г. ее автор защитил в Еврейском университете (Иерусалим) докторскую диссертацию на тему «Ранний символизм Кандинского» («Kandinsky’s Early Symbolism»). В 2006 г. на основе диссертации в издательстве «Peter Lang» (Нью-Йорк) вышла в свет книга «Искания Кандинского: исследование личного символизма художника, 1866–1907» [Aronov 2006]. Отталкиваясь от этого издания, книга «Кандинский. Истоки» предлагает новый подход к ранним образам художника.
Со времени публикации Уиллом Громаном в 1958 г. первой обширной монографии о В.В. Кандинском [Grohmann 1958] в изучении творчества художника были достигнуты успехи благодаря работам ряда западных и русских ученых. Отметим лишь некоторые имена: Н.Б. Автономова [Avtonomova 1989], Джон Боулт [Bowlt 1980; 1982], Вивьен Барнетт [Barnett 1992; 1995], Пег Вайс [Weiss 1979; 1987; 1995], Роз-Кэрол Воштон Лонг [Washton Long 1980a; 1980b; 1983], Кеннет Линдсей [Lindsay 1981], Ханс Ретел [Roethel 1970; Roethel, Benjamin 1982], Сикстен Рингбом [Ringbom 1970], Д.В. Сарабьянов [Сарабьянов 1994; Sarabianov 2000], Б.М. Соколов [Соколов 1995; 1996а; 1996b; 2003], В.С. Турчин [Турчин 1993], Джонатан Файнберг [Fineberg 1994]. Было опубликовано немало архивных материалов, касающихся жизни и творчества Кандинского. Гораздо сложнее продвигались исследования смысла его работ. Это связано с многозначностью образов, созданных художником, а также с тем, что сам он не объяснял их, хотя и говорил об их «скрытых» смыслах. Этим обусловлено появление различных интерпретаций его произведений.
К настоящему времени сформировались три концепции, стремящиеся объяснить основную линию развития творчества Кандинского, который в поисках воплощения духовного в искусстве совершил переход от фигуративных образов к абстракции.
Р.-К. Воштон Лонг [Washton Long 1980] и С. Рингбом [Ringbom 1970] разработали «теософскую» концепцию. Она объясняет формирование эстетических принципов и духовных образов в творчестве Кандинского через спиритуалистические доктрины конца XIX – начала ХХ в.: теософию (буквально «божественная мудрость») – синтетическое учение о мистическом богопознании, разработанное Еленой Блаватской, и «духовную науку» антропософию (буквально «человеческая мудрость») Рудольфа Штайнера (Rudolf Steiner). Рингбом рассматривает работы Кандинского 1908–1914 гг., когда в творчестве художника происходил переход от фигуративных образов к абстрактным. Исследователь связывает в теософском контексте мотивы Кандинского с эсхатологическими идеями духовного преображения мира в западноевропейской и частично в русской культуре. Воштон Лонг обращается к теософским источникам картин Кандинского того же периода, одновременно отмечая важность для художника западного и русского символизма и народного искусства. Интерес Кандинского к теософии подтверждается документальными свидетельствами и высказываниями самого художника. Поэтому «теософская» концепция представляется убедительной. Вместе с тем ее нельзя считать исчерпывающей, поскольку надо принимать во внимание то, что теософия для Кандинского была важным, но не единственным путем духовного развития. В книге «О духовном в искусстве» он писал, что теософы «склонны к созданию теории и несколько преждевременно радуются, что могут получать скорые ответы вместо того, чтобы стоять перед огромным вопросительным знаком» [Кандинский 1992: 28].
П. Вайс выдвинула «шаманистскую» концепцию [Weiss 1995]. Исследовательница обращает внимание на то, что предки Кандинского по отцовской линии были связаны с монголо-тюркскими племенами Сибири и финно-угорскими шаманистскими племенами Урала; фамилия художника происходит от названия западносибирской реки Конда. В 1889 г. Кандинский предпринял этнографическое путешествие в Вологодскую губернию для изучения древних шаманских верований зырян[1 - Зыряне – историческое название коми (коми-зырян). – Прим. ред.] – финноязычного народа, населявшего в давние времена бассейн Оби. Согласно Вайс, целью этого путешествия были поиски зырянского шаманского наследия, а результатом – развитие шаманской темы в творчестве художника, а также его самоотождествление с шаманом. Исследовательница утверждает, что Кандинский включал в сферу шаманизма древнее дохристианское славяно-русское и финское язычество, а также современные ему русские и зырянские народные верования. Этот подход позволяет увидеть шаманистский смысл в любом «русском» мотиве произведений Кандинского. Шаманистская интерпретация фигуративных «русских» образов, созданных Кандинским до 1908 г., используется Вайс как основание для объяснения его более поздних абстрактных работ.
Вайс открыла новые перспективы в исследовании творчества Кандинского, указав на важность для него этнографии. Однако некорректная интерпретация этнографических и исторических данных ставит под сомнение «шаманистскую» концепцию. Кроме того, Вайс возводит сложные символические образы, созданные Кандинским, к этнографической литературе, приписывая им иллюстративный характер.
«Мессианская» концепция Б.М. Соколова [Соколов 2003] предлагает развитие апокалипсического аспекта «теософской» концепции в русском культурно-историческом контексте. По Соколову, центральное направление развития творчества Кандинского с первых годов ХХ в. по 1920-е гг. определяет русский мессианизм, заявляющий о духовном возрождении через «крушение». Рассмотрение эсхатологического контекста созданных Кандинским образов в связи с русской философией и культурой в целом является серьезным и перспективным. Но попытка заключить многомерные образы в пределы концептуальной схемы неизбежно приводит к однозначным обобщениям. Так, чтобы доказать не всегда очевидное наличие в ранних произведениях Кандинского темы «крушения», Соколов заявляет, что еще в студенческие годы у художника сформировался «пессимистический» взгляд на «современное состояние “народной души”». Поэтому, по мнению Соколова, «искаженные, уродливые и даже гротескные лица оказываются едва ли не типичными для “русских” картин и ксилографий Кандинского 1904–1907 годов» [Соколов 1996b: 219, 222].
Каждая из трех концепций вносит свой вклад в понимание творчества Кандинского. Однако любая из них рассматривает его творчество ограниченно, поскольку выбирает, анализирует и подчеркивает лишь те грани созданных им образов, которые ей соответствуют. Более того, эти обобщающие концепции поверхностно касаются раннего творчества Кандинского, сосредотачиваясь на создании им абстрактного художественного языка после 1907 г.
Книга «Кандинский. Истоки» предлагает иной подход, сосредоточенный на процессе формирования художественных образов Кандинского. Исходной точкой этого подхода является сам художник, его личная жизнь, его внутренний мир. Здесь приобретают особую важность личные письма, дневники, воспоминания Кандинского. В книге широко используются архивные материалы, как опубликованные, так и неопубликованные и до сих пор неизвестные[2 - Для понимания характера Кандинского большое значение имеют его личные письма Н.Н. Харузину, который был его ближайшим другом в юности. 25 писем Кандинского Харузину были обнаружены автором этой книги в феврале 1996 г. в отделе письменных источников Государственного исторического музея (Москва). Автор опирался на эти письма в своей диссертации 2002 г. 12 писем были опубликованы М.М. Керимовой [Керимова 2006]; эта публикация имеет много недостатков в отношении полноты представленного материала и комментариев. В настоящем издании публикуются и комментируются все 25 писем.]. Изучение психологии личности Кандинского позволяет проникнуть в его творческое символистское мироощущение, создающее духовную реальность – многоуровневые образы-символы. В символе преломляются переживания художником всего того, что оказало на него глубокое впечатление: от событий собственной личной жизни до русской революции 1905–1907 гг., от этнографии до природы, искусства, философии и размышлений о жизни, любви, смерти, вере и душе.
Предшествующее английское издание «Искания Кандинского» фокусировалось на вопросах создания художником собственного языка символов посредством переработки иконографии традиционных мотивов. Настоящая книга «Кандинский. Истоки» переносит акцент с иконографических проблем на рассмотрение творчества художника в философском и эстетическом контекстах, которые включают концепции западноевропейского символизма и особенно идеи русского символизма и русской религиозной философии. Так, в этой книге используется идея символистского мифотворчества для объяснения образного языка Кандинского. Кроме того, для данного издания были проанализированы не использованные автором ранее письма из архива Кандинского в Мюнхене, которые позволяют глубже понять характер связи между реалиями жизни художника, его идеалами и творчеством.
В заключение автор выражает свою искреннюю признательность издателю Михаилу Гринбергу, всем сотрудникам издательства «Мосты культуры (Москва) ? Gesharim (Jerusalem)», участвовавшим в подготовке книги к печати, и в особенности редактору Марии Ахметовой за ее многие ценные замечания.
Глава первая
Начало
На обороте: В. Кандинский. Древнерусское. Фрагмент
В 1913 г. в Берлине Василий Кандинский опубликовал на немецком языке книгу «R?ckblicke» («Ретроспекции») – воспоминания-размышления о своем пути, пройденном в жизни и искусстве[3 - Здесь и далее цит. по англ. переводу: [Kandinsky 1982: 355–382]. Все переводы на русский язык выполнены автором книги.]. В 1918 г. в Москве он издал на русском языке переработанный вариант воспоминаний под многозначительным названием «Текст художника. Ступени». В воспоминаниях он подчеркивает свою склонность сосредотачиваться на внутреннем, отвлекаясь от внешнего:
Способность углубления во внутреннюю жизнь искусства (а, стало быть, и моей души) настолько увеличилась в силе, что я проходил подчас мимо внешних явлений, не замечая их <…>. Насколько я могу судить, сам эту способность к углублению я не навязал себе извне – она жила во мне и до того органической, хотя и эмбриональной жизнью [Кандинский 1918: 32; Kandinsky 1982: 371].
Память художника фиксировала впечатления, глубоко затронувшие его внутреннюю жизнь. Воспоминания, написанные Кандинским после того, как он обрел свой художественный язык, рассказывают о его внутреннем развитии, приведшем его к выражению духовного в абстрактной живописной форме. Хотя они имеют вид непоследовательного повествования, описанные в них события образуют внутренне мотивированные звенья причинно-следственной смысловой цепи.
Детские переживания
Воспоминания Кандинского начинаются с описания трех цветовых впечатлений, пережитых им в возрасте трех лет. Первое впечатление было связано с вырезанием «лошадок» из веток дерева:
Срезали с тонких прутиков спиралями кору <…>. Так получались трехцветные лошадки: полоска коричневая (душная, которую я не очень любил <…>), полоска зеленая (которую я особенно любил <…>) и полоска белая, т.е. сама обнаженная и похожая на слоновую кость палочка (в сыром виде необыкновенно пахучая, <…> но <…> в увядании сухая и печальная, что мне с самого начала омрачало радость этого белого) [Кандинский 1918: 9].
Ощущение притягательной силы и печальной изменчивости красоты красок запомнилось ему как главный внутренний момент игры.
В другом отрывке из воспоминаний цветовое переживание описывается в контексте повседневной сцены:
Мне помнится, что до отъезда моих родителей в Италию (куда ехал трехлетним мальчиком и я), родители моей матери переехали на новую квартиру. И помнится, квартира эта была еще совершенно пустая <…>. В комнате средней величины висели только совершенно одни часы на стене. Я стоял тоже совершенно один перед ними и наслаждался белым циферблатом и написанной на нем розой пунцовокрасной глубины [Там же: 9–10].
Здесь любование контрастом белого и красного в настенных часах соединено Кандинским с ощущением своего одиночества в пустой комнате.
Хотя оба цветовых впечатления содержат скрытую напряженную ноту, они отражают счастливые моменты детства Кандинского в Москве, где он родился и жил со своими родителями в течение трех лет.
Напротив, следующее детское цветовое переживание, связанное с путешествием семьи в Италию, окрасилось в памяти художника черным цветом, выразившим его первую встречу с пугающей стороной жизни:
Вся Италия окрашивается двумя черными впечатлениями. Я еду с матерью в черной карете через мост (вода под ним – кажется, черно-желтая): меня везут во Флоренции в детский сад. И опять черное: ступени в черную воду, а на воде страшная черная длинная лодка с черным ящиком посередине: мы садимся ночью в гондолу [Там же: 10].
Художник сохранил в памяти еще один эпизод, который усилил его «черные впечатления» от Италии:
Из всех «камней» Рима я помню только непреодолимый лес толстых колонн, пугающий лес колонн собора св. Петра, откуда, помнится, я и моя няня долго, долго искали выход [Kandinsky 1982: 358].
Вспоминая свои «черные впечатления», которые он не объяснил и которые, возможно, замаскировали его другие страхи, Кандинский впервые упомянул свою мать, но не описал ее образ и не коснулся своего отношения к ней. Более того, не мать, но няня помогла ему найти дорогу из «пугающего леса» колонн собора св. Петра в Риме.
За итальянскими «черными впечатлениями» следуют светлые воспоминания Кандинского о своей тете:
Большое, неизгладимое влияние имела на все мое развитие старшая сестра моей матери, Елизавета Ивановна Тихеева, просветленную душу которой никогда не забудут соприкасавшиеся с нею в ее глубоко альтруистической жизни. Ей я обязан зарождением моей любви к музыке, сказке, позже к русской литературе и к глубокой сущности русского народа [Кандинский 1918: 10].
Он уделил особое внимание игре в лошадок, в которые любил играть с тетей:
Одним из ярких детских, связанных с участием Елизаветы Ивановны, воспоминаний была оловянная буланая лошадка из игрушечных скачек – на теле у нее была охра, а грива и хвост были светло-желтые [Там же].
У меня был пегий жеребец <…> в игрушечных скачках, одной из моих игр, которую моя тетя и я особенно любили. Существовали строгие правила очередности: в одном раунде этот жеребец был среди моих жокеев, в следующем раунде приходила очередь моей тети. По сей день я люблю такие лошадки [Kandinsky 1982: 358].
Воспоминание о любимом игрушечном пегом жеребце, попеременно принадлежавшем то одному из игрушечных жокеев, с которым маленький Кандинский, видимо, отождествлял себя, то одному из жокеев его тети, было дорого ему как свидетельство его близости с ней.
В середине «Ступеней» Кандинский снова обращается к детским воспоминаниям, но матери в них не упоминает. Он рассказывает о своих «фантастических снах», о своем влечении к рисованию, поддержанном отцом и тетей, а затем опять вспоминает образ лошадки, на этот раз в рассказе о том, как раскрашивал «буланку в яблоках»:
Уже в детские годы мне были знакомы мучительно-радостные часы внутреннего напряжения, часы внутренних сотрясений, неясного стремления, требующего повелительно чего-то еще неопределенного, днем сжимающего сердце и делающего дыхание поверхностным, наполняющего душу беспокойством, а ночью вводящего в мир фантастических снов, полных и ужаса и счастья. Помню, что рисование и несколько позже живопись вырывали меня из условий действительности, т. е. ставили меня вне времени и пространства и приводили к самозабвению. Мой отец рано заметил мою любовь к живописи и еще в мое гимназическое время пригласил учителя рисования. <…> Еще совсем маленьким мальчиком я раскрашивал акварелью буланку в яблоках; все уже было готово, кроме копыт. Помогавшая мне и в этом занятии тетя, которой надо было отлучиться из дому, советовала мне не трогать этих копыт без нее, а дождаться ее возвращения. Я остался один со своим незаконченным рисунком и страдал от невозможности положить последние – и такие простые – пятна на бумагу. Мне думалось, что ничего не стоит хорошенько начернить копыта. Я набрал, сколько сумел, черной краски на кисть. Один миг – и я увидел четыре черных, чуждых бумаге, отвратительных пятна на ногах лошади. Позже мне так понятен был страх импрессионистов перед черным, а еще позже мне пришлось серьезно бороться со своим внутренним страхом прежде, чем я решался положить на холст чистую черную краску. Такого рода несчастья ребенка бросают длинную, длинную тень через многие годы на последующую жизнь. И недавно еще я употреблял чистую черную краску со значительно другим чувством, чем чистые белила [Кандинский 1918: 20–21].
Четыре черных конских копыта казались ему уродливыми и чуждыми, так как резкое противопоставление этих черных пятен белому цвету листа бумаги и другим краскам в его рисунке разрушало, как он думал, красоту его картины. В «Ретроспекциях» он писал даже, что из-за этих «безобразных» пятен он «был в отчаянии и чувствовал себя жестоко наказанным» [Kandinsky 1982: 365]. Такая сильная эмоциональная реакция на неудачный рисунок, очевидно, скрывала другие глубокие переживания. Образ пегой или буланой в яблоках лошади был соединен с его чувством тесной близости с тетей, но черные пятна воспринимались им как элементы, эмоционально чуждые его рисунку. Он был в отчаянии, потому что положил эти пятна тогда, когда с ним рядом не было тети, которая могла спасти его от «внутреннего страха» перед черным, подобно тому, как его няня ранее спасла его от «пугающего леса» колонн собора св. Петра в Риме.
В завершающем разделе «Ступеней» Кандинский вновь возвращается к воспоминаниям о своем детстве:
Игорь Аронов
Вид с горы Скопус
Книга И. Аронова посвящена до сих пор малоизученному раннему периоду жизни творчества Василия Кандинского (1866–1944). В течение этого периода, верхней границей которого является 1907 г., художник, переработав многие явления русской и западноевропейской культур, сформировал собственный мифотворческий символизм. Жажда духовного привела его к великому перевороту в искусстве – созданию абстрактной живописи. Опираясь на многие архивные материалы, частью еще не опубликованные, и на комплексное изучение историко-культурных и социальных реалий того времени, автор ставит своей целью приблизиться, насколько возможно избегая субъективного или тенденциозного толкования, к пониманию скрытых смыслов образов мастера.
Игорь Аронов, окончивший Петербургскую Академию художеств и защитивший докторскую диссертацию в Еврейском университете в Иерусалиме, преподает в Академии искусств Бецалель в Иерусалиме и в Тель-Авивском университете. Его научные интересы сосредоточены на исследовании русского авангарда.
Игорь Аронов
Кандинский
Истоки
1866 – 1907
Ире, Лиле, Шели
Предисловие
Эта книга имеет свою предысторию. В 2002 г. ее автор защитил в Еврейском университете (Иерусалим) докторскую диссертацию на тему «Ранний символизм Кандинского» («Kandinsky’s Early Symbolism»). В 2006 г. на основе диссертации в издательстве «Peter Lang» (Нью-Йорк) вышла в свет книга «Искания Кандинского: исследование личного символизма художника, 1866–1907» [Aronov 2006]. Отталкиваясь от этого издания, книга «Кандинский. Истоки» предлагает новый подход к ранним образам художника.
Со времени публикации Уиллом Громаном в 1958 г. первой обширной монографии о В.В. Кандинском [Grohmann 1958] в изучении творчества художника были достигнуты успехи благодаря работам ряда западных и русских ученых. Отметим лишь некоторые имена: Н.Б. Автономова [Avtonomova 1989], Джон Боулт [Bowlt 1980; 1982], Вивьен Барнетт [Barnett 1992; 1995], Пег Вайс [Weiss 1979; 1987; 1995], Роз-Кэрол Воштон Лонг [Washton Long 1980a; 1980b; 1983], Кеннет Линдсей [Lindsay 1981], Ханс Ретел [Roethel 1970; Roethel, Benjamin 1982], Сикстен Рингбом [Ringbom 1970], Д.В. Сарабьянов [Сарабьянов 1994; Sarabianov 2000], Б.М. Соколов [Соколов 1995; 1996а; 1996b; 2003], В.С. Турчин [Турчин 1993], Джонатан Файнберг [Fineberg 1994]. Было опубликовано немало архивных материалов, касающихся жизни и творчества Кандинского. Гораздо сложнее продвигались исследования смысла его работ. Это связано с многозначностью образов, созданных художником, а также с тем, что сам он не объяснял их, хотя и говорил об их «скрытых» смыслах. Этим обусловлено появление различных интерпретаций его произведений.
К настоящему времени сформировались три концепции, стремящиеся объяснить основную линию развития творчества Кандинского, который в поисках воплощения духовного в искусстве совершил переход от фигуративных образов к абстракции.
Р.-К. Воштон Лонг [Washton Long 1980] и С. Рингбом [Ringbom 1970] разработали «теософскую» концепцию. Она объясняет формирование эстетических принципов и духовных образов в творчестве Кандинского через спиритуалистические доктрины конца XIX – начала ХХ в.: теософию (буквально «божественная мудрость») – синтетическое учение о мистическом богопознании, разработанное Еленой Блаватской, и «духовную науку» антропософию (буквально «человеческая мудрость») Рудольфа Штайнера (Rudolf Steiner). Рингбом рассматривает работы Кандинского 1908–1914 гг., когда в творчестве художника происходил переход от фигуративных образов к абстрактным. Исследователь связывает в теософском контексте мотивы Кандинского с эсхатологическими идеями духовного преображения мира в западноевропейской и частично в русской культуре. Воштон Лонг обращается к теософским источникам картин Кандинского того же периода, одновременно отмечая важность для художника западного и русского символизма и народного искусства. Интерес Кандинского к теософии подтверждается документальными свидетельствами и высказываниями самого художника. Поэтому «теософская» концепция представляется убедительной. Вместе с тем ее нельзя считать исчерпывающей, поскольку надо принимать во внимание то, что теософия для Кандинского была важным, но не единственным путем духовного развития. В книге «О духовном в искусстве» он писал, что теософы «склонны к созданию теории и несколько преждевременно радуются, что могут получать скорые ответы вместо того, чтобы стоять перед огромным вопросительным знаком» [Кандинский 1992: 28].
П. Вайс выдвинула «шаманистскую» концепцию [Weiss 1995]. Исследовательница обращает внимание на то, что предки Кандинского по отцовской линии были связаны с монголо-тюркскими племенами Сибири и финно-угорскими шаманистскими племенами Урала; фамилия художника происходит от названия западносибирской реки Конда. В 1889 г. Кандинский предпринял этнографическое путешествие в Вологодскую губернию для изучения древних шаманских верований зырян[1 - Зыряне – историческое название коми (коми-зырян). – Прим. ред.] – финноязычного народа, населявшего в давние времена бассейн Оби. Согласно Вайс, целью этого путешествия были поиски зырянского шаманского наследия, а результатом – развитие шаманской темы в творчестве художника, а также его самоотождествление с шаманом. Исследовательница утверждает, что Кандинский включал в сферу шаманизма древнее дохристианское славяно-русское и финское язычество, а также современные ему русские и зырянские народные верования. Этот подход позволяет увидеть шаманистский смысл в любом «русском» мотиве произведений Кандинского. Шаманистская интерпретация фигуративных «русских» образов, созданных Кандинским до 1908 г., используется Вайс как основание для объяснения его более поздних абстрактных работ.
Вайс открыла новые перспективы в исследовании творчества Кандинского, указав на важность для него этнографии. Однако некорректная интерпретация этнографических и исторических данных ставит под сомнение «шаманистскую» концепцию. Кроме того, Вайс возводит сложные символические образы, созданные Кандинским, к этнографической литературе, приписывая им иллюстративный характер.
«Мессианская» концепция Б.М. Соколова [Соколов 2003] предлагает развитие апокалипсического аспекта «теософской» концепции в русском культурно-историческом контексте. По Соколову, центральное направление развития творчества Кандинского с первых годов ХХ в. по 1920-е гг. определяет русский мессианизм, заявляющий о духовном возрождении через «крушение». Рассмотрение эсхатологического контекста созданных Кандинским образов в связи с русской философией и культурой в целом является серьезным и перспективным. Но попытка заключить многомерные образы в пределы концептуальной схемы неизбежно приводит к однозначным обобщениям. Так, чтобы доказать не всегда очевидное наличие в ранних произведениях Кандинского темы «крушения», Соколов заявляет, что еще в студенческие годы у художника сформировался «пессимистический» взгляд на «современное состояние “народной души”». Поэтому, по мнению Соколова, «искаженные, уродливые и даже гротескные лица оказываются едва ли не типичными для “русских” картин и ксилографий Кандинского 1904–1907 годов» [Соколов 1996b: 219, 222].
Каждая из трех концепций вносит свой вклад в понимание творчества Кандинского. Однако любая из них рассматривает его творчество ограниченно, поскольку выбирает, анализирует и подчеркивает лишь те грани созданных им образов, которые ей соответствуют. Более того, эти обобщающие концепции поверхностно касаются раннего творчества Кандинского, сосредотачиваясь на создании им абстрактного художественного языка после 1907 г.
Книга «Кандинский. Истоки» предлагает иной подход, сосредоточенный на процессе формирования художественных образов Кандинского. Исходной точкой этого подхода является сам художник, его личная жизнь, его внутренний мир. Здесь приобретают особую важность личные письма, дневники, воспоминания Кандинского. В книге широко используются архивные материалы, как опубликованные, так и неопубликованные и до сих пор неизвестные[2 - Для понимания характера Кандинского большое значение имеют его личные письма Н.Н. Харузину, который был его ближайшим другом в юности. 25 писем Кандинского Харузину были обнаружены автором этой книги в феврале 1996 г. в отделе письменных источников Государственного исторического музея (Москва). Автор опирался на эти письма в своей диссертации 2002 г. 12 писем были опубликованы М.М. Керимовой [Керимова 2006]; эта публикация имеет много недостатков в отношении полноты представленного материала и комментариев. В настоящем издании публикуются и комментируются все 25 писем.]. Изучение психологии личности Кандинского позволяет проникнуть в его творческое символистское мироощущение, создающее духовную реальность – многоуровневые образы-символы. В символе преломляются переживания художником всего того, что оказало на него глубокое впечатление: от событий собственной личной жизни до русской революции 1905–1907 гг., от этнографии до природы, искусства, философии и размышлений о жизни, любви, смерти, вере и душе.
Предшествующее английское издание «Искания Кандинского» фокусировалось на вопросах создания художником собственного языка символов посредством переработки иконографии традиционных мотивов. Настоящая книга «Кандинский. Истоки» переносит акцент с иконографических проблем на рассмотрение творчества художника в философском и эстетическом контекстах, которые включают концепции западноевропейского символизма и особенно идеи русского символизма и русской религиозной философии. Так, в этой книге используется идея символистского мифотворчества для объяснения образного языка Кандинского. Кроме того, для данного издания были проанализированы не использованные автором ранее письма из архива Кандинского в Мюнхене, которые позволяют глубже понять характер связи между реалиями жизни художника, его идеалами и творчеством.
В заключение автор выражает свою искреннюю признательность издателю Михаилу Гринбергу, всем сотрудникам издательства «Мосты культуры (Москва) ? Gesharim (Jerusalem)», участвовавшим в подготовке книги к печати, и в особенности редактору Марии Ахметовой за ее многие ценные замечания.
Глава первая
Начало
На обороте: В. Кандинский. Древнерусское. Фрагмент
В 1913 г. в Берлине Василий Кандинский опубликовал на немецком языке книгу «R?ckblicke» («Ретроспекции») – воспоминания-размышления о своем пути, пройденном в жизни и искусстве[3 - Здесь и далее цит. по англ. переводу: [Kandinsky 1982: 355–382]. Все переводы на русский язык выполнены автором книги.]. В 1918 г. в Москве он издал на русском языке переработанный вариант воспоминаний под многозначительным названием «Текст художника. Ступени». В воспоминаниях он подчеркивает свою склонность сосредотачиваться на внутреннем, отвлекаясь от внешнего:
Способность углубления во внутреннюю жизнь искусства (а, стало быть, и моей души) настолько увеличилась в силе, что я проходил подчас мимо внешних явлений, не замечая их <…>. Насколько я могу судить, сам эту способность к углублению я не навязал себе извне – она жила во мне и до того органической, хотя и эмбриональной жизнью [Кандинский 1918: 32; Kandinsky 1982: 371].
Память художника фиксировала впечатления, глубоко затронувшие его внутреннюю жизнь. Воспоминания, написанные Кандинским после того, как он обрел свой художественный язык, рассказывают о его внутреннем развитии, приведшем его к выражению духовного в абстрактной живописной форме. Хотя они имеют вид непоследовательного повествования, описанные в них события образуют внутренне мотивированные звенья причинно-следственной смысловой цепи.
Детские переживания
Воспоминания Кандинского начинаются с описания трех цветовых впечатлений, пережитых им в возрасте трех лет. Первое впечатление было связано с вырезанием «лошадок» из веток дерева:
Срезали с тонких прутиков спиралями кору <…>. Так получались трехцветные лошадки: полоска коричневая (душная, которую я не очень любил <…>), полоска зеленая (которую я особенно любил <…>) и полоска белая, т.е. сама обнаженная и похожая на слоновую кость палочка (в сыром виде необыкновенно пахучая, <…> но <…> в увядании сухая и печальная, что мне с самого начала омрачало радость этого белого) [Кандинский 1918: 9].
Ощущение притягательной силы и печальной изменчивости красоты красок запомнилось ему как главный внутренний момент игры.
В другом отрывке из воспоминаний цветовое переживание описывается в контексте повседневной сцены:
Мне помнится, что до отъезда моих родителей в Италию (куда ехал трехлетним мальчиком и я), родители моей матери переехали на новую квартиру. И помнится, квартира эта была еще совершенно пустая <…>. В комнате средней величины висели только совершенно одни часы на стене. Я стоял тоже совершенно один перед ними и наслаждался белым циферблатом и написанной на нем розой пунцовокрасной глубины [Там же: 9–10].
Здесь любование контрастом белого и красного в настенных часах соединено Кандинским с ощущением своего одиночества в пустой комнате.
Хотя оба цветовых впечатления содержат скрытую напряженную ноту, они отражают счастливые моменты детства Кандинского в Москве, где он родился и жил со своими родителями в течение трех лет.
Напротив, следующее детское цветовое переживание, связанное с путешествием семьи в Италию, окрасилось в памяти художника черным цветом, выразившим его первую встречу с пугающей стороной жизни:
Вся Италия окрашивается двумя черными впечатлениями. Я еду с матерью в черной карете через мост (вода под ним – кажется, черно-желтая): меня везут во Флоренции в детский сад. И опять черное: ступени в черную воду, а на воде страшная черная длинная лодка с черным ящиком посередине: мы садимся ночью в гондолу [Там же: 10].
Художник сохранил в памяти еще один эпизод, который усилил его «черные впечатления» от Италии:
Из всех «камней» Рима я помню только непреодолимый лес толстых колонн, пугающий лес колонн собора св. Петра, откуда, помнится, я и моя няня долго, долго искали выход [Kandinsky 1982: 358].
Вспоминая свои «черные впечатления», которые он не объяснил и которые, возможно, замаскировали его другие страхи, Кандинский впервые упомянул свою мать, но не описал ее образ и не коснулся своего отношения к ней. Более того, не мать, но няня помогла ему найти дорогу из «пугающего леса» колонн собора св. Петра в Риме.
За итальянскими «черными впечатлениями» следуют светлые воспоминания Кандинского о своей тете:
Большое, неизгладимое влияние имела на все мое развитие старшая сестра моей матери, Елизавета Ивановна Тихеева, просветленную душу которой никогда не забудут соприкасавшиеся с нею в ее глубоко альтруистической жизни. Ей я обязан зарождением моей любви к музыке, сказке, позже к русской литературе и к глубокой сущности русского народа [Кандинский 1918: 10].
Он уделил особое внимание игре в лошадок, в которые любил играть с тетей:
Одним из ярких детских, связанных с участием Елизаветы Ивановны, воспоминаний была оловянная буланая лошадка из игрушечных скачек – на теле у нее была охра, а грива и хвост были светло-желтые [Там же].
У меня был пегий жеребец <…> в игрушечных скачках, одной из моих игр, которую моя тетя и я особенно любили. Существовали строгие правила очередности: в одном раунде этот жеребец был среди моих жокеев, в следующем раунде приходила очередь моей тети. По сей день я люблю такие лошадки [Kandinsky 1982: 358].
Воспоминание о любимом игрушечном пегом жеребце, попеременно принадлежавшем то одному из игрушечных жокеев, с которым маленький Кандинский, видимо, отождествлял себя, то одному из жокеев его тети, было дорого ему как свидетельство его близости с ней.
В середине «Ступеней» Кандинский снова обращается к детским воспоминаниям, но матери в них не упоминает. Он рассказывает о своих «фантастических снах», о своем влечении к рисованию, поддержанном отцом и тетей, а затем опять вспоминает образ лошадки, на этот раз в рассказе о том, как раскрашивал «буланку в яблоках»:
Уже в детские годы мне были знакомы мучительно-радостные часы внутреннего напряжения, часы внутренних сотрясений, неясного стремления, требующего повелительно чего-то еще неопределенного, днем сжимающего сердце и делающего дыхание поверхностным, наполняющего душу беспокойством, а ночью вводящего в мир фантастических снов, полных и ужаса и счастья. Помню, что рисование и несколько позже живопись вырывали меня из условий действительности, т. е. ставили меня вне времени и пространства и приводили к самозабвению. Мой отец рано заметил мою любовь к живописи и еще в мое гимназическое время пригласил учителя рисования. <…> Еще совсем маленьким мальчиком я раскрашивал акварелью буланку в яблоках; все уже было готово, кроме копыт. Помогавшая мне и в этом занятии тетя, которой надо было отлучиться из дому, советовала мне не трогать этих копыт без нее, а дождаться ее возвращения. Я остался один со своим незаконченным рисунком и страдал от невозможности положить последние – и такие простые – пятна на бумагу. Мне думалось, что ничего не стоит хорошенько начернить копыта. Я набрал, сколько сумел, черной краски на кисть. Один миг – и я увидел четыре черных, чуждых бумаге, отвратительных пятна на ногах лошади. Позже мне так понятен был страх импрессионистов перед черным, а еще позже мне пришлось серьезно бороться со своим внутренним страхом прежде, чем я решался положить на холст чистую черную краску. Такого рода несчастья ребенка бросают длинную, длинную тень через многие годы на последующую жизнь. И недавно еще я употреблял чистую черную краску со значительно другим чувством, чем чистые белила [Кандинский 1918: 20–21].
Четыре черных конских копыта казались ему уродливыми и чуждыми, так как резкое противопоставление этих черных пятен белому цвету листа бумаги и другим краскам в его рисунке разрушало, как он думал, красоту его картины. В «Ретроспекциях» он писал даже, что из-за этих «безобразных» пятен он «был в отчаянии и чувствовал себя жестоко наказанным» [Kandinsky 1982: 365]. Такая сильная эмоциональная реакция на неудачный рисунок, очевидно, скрывала другие глубокие переживания. Образ пегой или буланой в яблоках лошади был соединен с его чувством тесной близости с тетей, но черные пятна воспринимались им как элементы, эмоционально чуждые его рисунку. Он был в отчаянии, потому что положил эти пятна тогда, когда с ним рядом не было тети, которая могла спасти его от «внутреннего страха» перед черным, подобно тому, как его няня ранее спасла его от «пугающего леса» колонн собора св. Петра в Риме.
В завершающем разделе «Ступеней» Кандинский вновь возвращается к воспоминаниям о своем детстве: