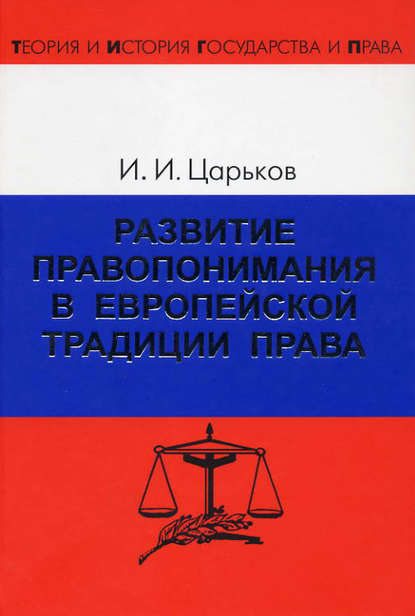По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Развитие правопонимания в европейской традиции права
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Впервые в истории политико-правовой мысли сложилось представление, что в границах одной территории могут существовать две независимые друг от друга юридические инстанции, каждая из которых обладает правом на издание предписаний (законов).
Поэтому ключевым вопросом того времени было примирение двух независимых политий – церковной и светской. Борьба между папой Римским и императором Римской империи за инвеституру (лат. invenstire – облачать; право наделения феодальным саном и введение в должность епископа или аббата) привела в результате к компромиссу, который по своей форме соответствовал договору. Так, по Вермсскому конкордату 1122 г. император гарантировал, что епископы и аббаты будут свободно избираться только лишь церковью, и отказался о «заботе душ человеческих». Со своей стороны, папа отказался от вмешательства в процедуру присвоения императором феодальных регалий, т. е. феодального права на собственность, правосудие и светское управление. Подобного рода соглашение возможно было только при условии одинаковых легитимационных оснований церковной и светской властей – «римская церковь основана одним только Господом» и «король есть король не через узурпацию, а святым соизволением Божьим». Таким образом, спор, то ли папа Римский решает за всех, то ли император, завершился в конце концов примирением сторон, компромиссом – не тот и не другой.
Одни историки XX в. назвали связанные с ограничением юрисдикций события «папской революцией», подчеркивая масштабность происходящих изменений, другие «григорианской реформацией», тем самым принижая их значение.
Думаю, что ошибочно недооценивать влияние происходящих изменений как на формирование правового знания средних веков, так и на политическую и юридическую практику. По мнению Питера Брауна, в данном случае необходимо говорить о «высвобождении двух сфер: сферы священного и сферы профанного», отчего произошел выброс энергии и творчества[65 - Brown P. Society and the Supernatyral: A Medieval Change. – Daedalus, Spring, 1975. – P. 134.]. Подобный характер «революции» отмечают также такие авторы, как историк церкви Г. Телленбах, немецкий историк Ойген Розеншток-Хюсси, великий французский историк общества и экономики Марк Блок и др.[66 - См.: Tellenbach G. Libertas: Kirche und Weltordnung im Zeitalter des Investiturstreifes. – Stuttgart, 1936; Rosenstock-Hussi O. Die europaischen Revolutionen. – Stuttgart, 1960; Блок М. Феодальное общество. – M., 1973. – С. 157–158.], а Гарольд Берман даже замечает, что «папская революция была первым движением в истории Запада, которое охватило несколько поколений и носило программный характер»[67 - Берман Г. Западная традиция права: эпоха формирования. – М., 1998. – С. 112.]. Действительно, партии папы потребовалось целое поколение – с 1050 по 1075 г., чтобы объявить свою программу реальностью, а затем еще 47 лет борьбы, чтобы достичь соглашения с императором по вопросу права инвеституры, и уже после этого, значительно позже, решить вопрос уголовной и гражданской юрисдикции церкви и светской власти.
Начало активного противостояния церкви светской власти принадлежит деятельности монахов Клюнийского монастыря в Бургундии. Клюнийцы первыми выступили с программой борьбы за «чистоту духовенства». До XI в. духовенство мало чем отличалось от мирян[68 - Термин «миряне» стал употребляться папами с 1075 г., чтобы подчеркнуть отличие духовенства от гражданских лиц и то, что светская власть не обладает религиозной функцией.], разве что своим облачением, и представляло из себя достаточно жалкое зрелище. Духовные лица, как и любые другие люди, могли иметь семью, растить детей, приобретать собственность, передавать свою церковную должность по наследству, по уровню образования они ненамного превосходили простых крестьян, «знали латинский язык, на котором совершалось богослужение и на котором писались все сочинения, немного лучше, чем арабский»[69 - Тальберг Н. История христианской церкви. – М., 1991. – С. 337.], и вообще вели образ жизни «развратный и распущенный». При таких условиях интересы церковнослужителей тесно переплетались с интересами королей и императоров, что позволяло средневековым феодалам активно вмешиваться в дела церкви. Феодалы как владельцы земли, на которой были расположены церковные епархии, пользовались не только экономической выгодой – доходами от разных экономических служб, но и назначали на должности епархиальных архиереев и на другие церковные должности угодных им лиц, часто из числа близких родственников. Так религиозная и политическая сферы переплетались по всем основным пунктам: императоры и короли созывали церковные соборы, публиковали церковные законы; в то же время епископы и другие высокопоставленные представители духовенства заседали в правительственных органах: местных, баронских, королевских или имперских; епархиальное управление часто являлось главным органом гражданской администрации, а епископы – важными членами феодальной иерархии; женитьба же священников окончательно связывала их с местными феодалами[70 - Эта система была аналогичной той, что господствовала в Восточной Римской империи и которая позже была на Западе осуждена как «кесаре-папизм».]. Поэтому западное христианское духовенство того времени – епископы, священники и монахи – находилось больше под властью императоров, королей и крупнейших феодалов, чем под властью пап.
Именно клюнийцы провозгласили отречение духовенства от светских интересов и светского образа жизни. Клюнийцы и другие реформаторы стремились повысить уровень религиозной жизни, нападая на практику покупки и продажи церковных должностей (симонии) и на брачное и внебрачное сожительство (николаизм). То и другое вовлекало духовенство в местную и клановую политику, вело к упадку религиозной жизни. Симония была настолько распространена и приобрела такие формы, что Петр Домиани в 1059 г. обнаружил, что в Милане не было ни одного представителя клира, который не был бы повинен в симонии, а папа Силвестр II, описывая епископа, вложил в уста последнего следующие слова: «Я дал золото и получил епископство; и я не боюсь получить свое золото обратно… Я посвящаю в сан священника и получаю золото; я назначаю диакона и получаю кучу серебра. Видишь – то золото, что я дал, я вернул в свой кошелек умноженным»[71 - Cambridge Medieval History. Vol. V. P. 10.].
Реформаторы не могли обратиться за поддержкой своих реформ к папе Римскому, поскольку последний был практически полностью зависим от римской аристократии, которая оказывала весьма слабое почтение папской особе; его могли похитить, посадить в тюрьму, отравить или открыто выступить против него. Поэтому они обратились за помощью к наследникам Карла Великого и такую поддержку получили. Наследники же Карла Великого рассчитывали с помощью клюнийцев вырвать из рук римской знати власть назначать папу. Действительно, последующим императорам Священной Римской империи удалось при помощи союза с реформаторами одержать временную победу в вопросе назначения папы Римского. Императоры Григорий III и Григорий IV с 1046 по 1073 г. единолично назначили шестерых пап и именно тех, кто был сторонником церковной реформы. Но если такой союз привел императоров к тактической победе, то в плане исторической перспективы союз был недальновидным. Раскол начался тогда, когда папа Григорий VII (1073–1085) (бывший монах Клюнийского монастыря Гильдебрант) открыто выступил против императорской привилегии назначать папу.
В 1075 г. он провел на соборе запрещение как на инвеституру, так и на вступление священников в брак. Основные свои идеи он сформулировал в знаменитых Диктатах папы, которые состояли из 27 пунктов. В этих Диктатах он провозгласил, что Римский епископ (папа Римский) «один по праву зовется вселенским»; ему предоставлено право низлагать и восстанавливать епископов; «ему одному позволено создавать новые законы в соответствии с нуждами времени»; «он может низлагать императоров»; «никакой его приговор не может быть никем отменен…»; «он может освобождать подданных несправедливых людей от присяги на верность» и даже папские легаты низшего ранга на соборе «…имеют превосходство над всеми епископами» и могут вынести приговор о их низложении[72 - Ehler S. Z. and Morrall J. B. Church and State through the Centuties. – London, 1954. – P. 43–44.]. С этого началась открытая борьба за инвеституру, победителем которой стал апостольский престол.
Григорий VII не был первым, кто заявил о подобного рода притязаниях. В свое время папа Николай I (858–867) пытался провести в жизнь схожие идеи, но тогда они были несвоевременными, несмотря на то, что при Николае I папский престол достиг пика своего влияния. Заявления Николая I о папской власти не только над архиепископами и епископами, но и над императорами ни в коей мере не изменили реальности императорской, королевской и местной феодальной власти над церковью[73 - В общей сложности за столетие до 1059 г. из 25 пап 21 был прямо назначен императорами, а 5 ими же уволены.]. Как в IX в., так и при Григории VII запрет на симонию «вызвал бурю негодования среди церковных иерархов».
Программа папской партии привела и к ряду последствий в формировании корпуса правового знания средних веков. Во-первых, нужды существования и соревнования двух централизованных политий, которые обладают правом на предписания и интересы которых зачастую не совпадают, потребовали формулирования правовых принципов как наиболее общих и обладающих высшей юридической силой норм и, по сути, автономных от содержания конкретных дел, т. е., чтобы вынести справедливое решение в споре между двумя политиями, необходимо было сформулировать общие для всех юридические максимы. Во-вторых, идея ограниченной юрисдикции привела к мысли о необходимости систематизации юридических норм. Без ограниченной юрисдикции двух правовых инстанций юридические нормы могут создаваться, но вряд ли они будут подвергнуты систематизации, скорее всего, они будут нагромождаться, как снежный ком, одна на другую. Начиная с первых веков новой эры церковь, не обладающая ни политическим, ни юридическим единством, а объединенная только лишь общим учением, накопила великое множество законов – канонов (норм), постановлений церковных соборов и синодов, декретов и решений отдельных епископов, законов христианских императоров, уложений о наказаниях и др. Но, несмотря на такое обилие законов, даже в 1000 г. не существовало книги или нескольких книг, в которых была бы сделана попытка представить весь свод правил или хотя бы систематически изложить какую-либо их часть.
В отличие от римской юриспруденции, которая была наукой, обобщающей юридическую практику, средневековая наука стремилась к формулированию правовых принципов. Римский юрист Павел писал: «Норма – это нечто, кратко излагающее суть дела… Посредством норм передается краткое содержание дела… и если оно неточно, то теряет свою полезность»[74 - Цит. по: Берман Г. Западная традиция права: эпоха формирования. – М., 1998. – С. 141.]. Согласно Дигестам Юстиниана, «когда предложение имеет два значения, следует принять то, которое лучше приспособлено к данному делу» (D. 50.17.67), а в семнадцатом титуле пятидесятой книги Дигест говорится, что «ответчики рассматриваются более благоприятно, чем истцы» (D. 50.17.125). Другими словами, нормы не следует рассматривать вне контекста содержания дел, которые они суммируют. Поэтому ни один римский юрист не относился к юридическим нормам как к отвлеченным принципам. Римское право хоть и составляло сложную систему норм, однако они существовали не как интеллектуальные образования, а скорее как красочная мозаика практических решений конкретных юридических вопросов.
По сути, римская юриспруденция имела казуистический характер, и подход к критериям юридических норм у римлян был соответствующий. Критерий оценки позитивных законов, включая обычай, был совсем иным, нежели впоследствии в средние века и Новое время. Этот критерий нес на себе такую же печать прагматичности, как и сами законы. Ульпиан пишет: «Совершенен такой закон, который запрещает что-либо делать, а если это сделано, считает недействительным… Несовершенен такой закон, который запрещает что-нибудь делать, и если это сделано, не отменяет и не налагает наказание… Менее совершенен закон, который запрещает что-нибудь, а если это сделано, не отменяет, но налагает наказание…»[75 - Ульпиан Д. Фрагменты // Памятники римского права. – М., 1998. – С. 157.] Совершенный закон отличается от несовершенного полнотой элементов структуры нормы: предписанием, наказанием, отменой действия, и если не хватает какого-либо элемента, то закон несовершенен. Следовательно, речь не идет о соответствии закона некоторым высшим принципам, здесь осуществляется чисто прагматический подход.
Перед средневековыми мыслителями стояла иная задача. Сформулировать такие нормы, которые, с одной стороны, представляли бы единое целое, с другой – выполняли бы роль внепозитивных критериев для любых позитивных норм.
Дело заключалось в том, что римская правовая мысль не имела в своем арсенале «священные тексты» (Библию), тогда как средневековая правовая мысль столкнулась с проблемой толкования библейского текста. Библия демонстрировала несколько иной подход в формулировании социальных норм. Библейские нормы были предельно обобщенными (нравственными сентенциями): «не убий», «не укради», «не противодействуй злу насилием», «браки заключаются на небесах, следовательно, нерасторжимы». Подобного рода нормы в форме предельных нравственных сентенций вряд ли могли непосредственно разрешить юридические казусы.
Другое дело, когда формулируется строго определенная норма. Для примера можно привести формулу римского права: Quod quisque juris in alteram statuerit, ut ipse eodem jure utatur (Какие правовые положения кто-либо устанавливает в отношении другого, такие же положения могут быть применены и в отношении его самого). На первый взгляд может показаться, что данная формула отражает общий правовой принцип: «Не делай в отношении другого того, что не желал бы в отношении самого себя», но на самом деле в Дигестах Юстиниана речь идет об обязанности магистрата или должностного лица, облеченного властью, принимать то же правовое положение по требованию ответчика, если это положение уже было применено по иску его противника. «Если кто-либо, – пишется в Дигестах, – достигнет того, что (в его пользу) будет установлено какое-либо новое правовое положение магистратом или лицом, занимающим должность, облеченную властью, то это же правовое положение будет применено против него, когда впоследствии его противник предъявит требование» (D. 2.2.1). Данная норма рассчитана на строго определенный круг случаев, обладает достаточной конкретностью и в силу ее определенности не вызывает сложности при ее применении. Или титул De officio eius, cui mandata est jurisdictio (О должности того, кому поручено осуществлять юрисдикцию) запрещает передавать другому лицу право на осуществление действий в области управления, если это право предоставлено «законом, или сенатконсультом, или конституцией принцепсов» (D. 1. 21. 1). Но и эта формула не является предельно обобщенной нормой права (принципом), поскольку относится только к сфере публичного права, т. е. к должностным лицам. Следовательно, римское право в этой части не формулирует общий принцип: «Никто не имеет права передавать больше прав, нежели сам обладает». Таким образом, римская юриспруденция обладала казуистическим характером, и если ее правовые нормы имели обобщенную форму, то степень обобщения ограничивалась категориями субъектов правоотношений: «Права устанавливаются не для отдельных лиц, а общим образом» (D. 1. 3. 8). Сложности при использовании казуистических норм могли возникать в случае, если существовали две разные нормы в отношении одной категории случаев и если юридическая практика шагнула «вперед», а в отношении новых случаев не была сформулирована новая норма, т. е. юридическая наука шла за практикой.
Так, причиной юстиниановской кодификации римского права было то, что «из множества законов… изучающие воспринимали с голоса учителя только 6 книг, и то спутанных и редко содержащих в себе изложение полезных правил, прочие же вышли из употребления», а Юстиниан, обращаясь к Великому Сенату по поводу утверждения Дигест, повторял: «Нами сделано только то, что если что-либо в их законах (законах древних юристов. – И. Ц.) представлялось излишним или несовершенным, или нецелесообразным, то это получило необходимые дополнения или сокращения и передано в точнейших правилах; во многих случаях, когда имело сходство или противоречие, установлено вместо всего этого то, что казалось более правильным…»[76 - Дигесты Юстиниана. М., 1984. – С. 19–21.] Ко времени Юстиниана юридическая практика существенно изменилась, некоторые правила поведения людей утратили жизненную силу и перестали употребляться, а какие-то были новые и не зафиксированные в законе. Поэтому законодатель должен был очистить право от старых, отживших норм, включить в него новые, а также устранить противоречия. Таким образом, законодательство следовало строго по пятам юридической практики, и сила обычая не подвергалась сомнению.
Казуистический характер норм достаточно точно определяет необходимое поведение для конкретных субъектов правоотношения, не вызывая больших сложностей при ее применении, но что делать, когда в норме есть лишь такой минимум содержания, что возможно различное толкование в силу ее неопределенности (абстрактности)? При применении на практике предельно обобщенной нормы, такой, например, как «арендатор обязан возместить ущерб собственнику в случае утраты или повреждения арендованного имущества», возможны различные решения в каждой из конкретных ситуаций (от обязанности возмещения ущерба до освобождения от ответственности), поскольку норма не определяет конкретное содержание дела.
Именно с такой ситуацией столкнулись средневековые юристы, когда необходимо было применять на практике библейские нравственные сентенции.
Конечно, возможен вариант, при котором предельно обобщенные нормы возводятся в закон и требуется их неукоснительное соблюдение. Возможно, когда говорится: «Не противодействуй злу насилием», никакое сопротивление насилию не может быть рационально оправдано, следовательно, не может и учитываться конкретное содержание дела. Подобное положение можно было возвести на уровень принципа и исходя из него создавать позитивные нормы права, но дело осложнялось тем, что как «священные тексты» Библии, так и авторитетные тексты отцов церкви содержали противоположные суждения в отношении одного и того же.
Поэтому возникла потребность создания метода правового анализа и синтеза, который, с одной стороны, создавал бы отвлеченные и вечные правовые принципы вне контекста юридической практики, а с другой – на их основе «примирял бы противоположные суждения».
В данном случае христианское представление о разуме человека существенно отличалось от античного понимания разума. Если последнее считало, что противоречие-конфликт есть заблуждение разума, связанное с неправильным употреблением терминов и нарушением правил высказывания[77 - Софистическая практика в Древней Греции подвигнула Аристотеля к формулированию правил высказывания (формальной логики).], а сам разум есть способность делать правильные выводы из правильных посылок и способность индивида к самоограничению, то в средние века разум человека стал связываться со способностью разрешать противоречия-конфликты. Противоречия-конфликты приобрели форму необходимых условий самого разума[78 - В Новое время тоже меняется концепция «разума», а следом изменилось и правовое мышление. За разумом стали признавать способность достижения наибольшей выгоды при наименьших затратах (экономичность).].
В этой части средневековая правовая наука совершила серьезный шаг вперед. Отвлеченные правовые принципы, или юридические максимы, были призваны решить задачу систематизации права. Западноевропейские юристы XI–XII вв. пытались систематизировать нормы так, чтобы получилось единое целое, т. е. определить не просто общие для определенного рода прецедентов элементы, но и систематизировать нормы в принципы, а сами принципы – в цельную систему, совокупность права, или corpus juris. Закон стал пониматься как связанное целое, единая система, «организм», который развивается во времени. Поэтому, в отличие от предшествующего обычного права и даже от римского права до и после Юстиниана[79 - Дигесты Юстиниана составлялись из практической целесообразности «включить в один кодекс столько разрозненных томов авторов, освободив их от излишних повторений и исключив те нормы, которые вышли из употребления».], право в это время, да и потом, задумывалось как органично развивающаяся система, растущий организм, свод принципов и процедур, который будет строиться многими поколениями.
Для реализации такой программы в начале 1100-х гг. был создан научный инструмент – схоластический метод правового анализа и синтеза. Одним из пионеров схоластического метода был Пьер Абеляр (1079–1142), годы жизни которого выпали на период папской революции. Конечно, П. Абеляр не сам изобрел этот метод, он уже существовал до него, но только в форме судебного процесса и способа обучения в европейских университетах. П. Абеляр вспоминает в своей книге «История моих бедствий»: «…едва только я узнавал о процветании где-либо искусства диалектики… как я переезжал для участия в диспутах из одной провинции в другую…»[80 - Абеляр П. История моих бедствий. – М., 1992. – С. 260.] Действительно, схоластический метод анализа и синтеза напоминал как судебный процесс (спор истца и ответчика), так и диспут, широко применяемый в европейских университетах того времени. В суде истец и ответчик выстраивали аргументы в защиту своей позиции, и в университетских диспутах стороны выстраивали аргументы противоположных точек зрения по одному и тому же вопросу. Но самое главное заключалось в том, что результатом этого спора-диспута должна была стать не победа той или иной точки зрения, а соглашение, которое устраивало бы обе стороны.
Основной формой обучения в европейских университетах было чтение текстов. Учитель зачитывал авторитетный юридический текст с целью обнаружения в нем противоречий, ставил вопрос, который предполагал два варианта ответа: «Да» или «Нет», выстраивал аргументы, обосновывающие одну из позиций, и требовал от учащихся защитить противоположную точку зрения. Конечно, победные лавры всегда доставались учителю до тех пор, пока принцип согласования противоположных суждений не был введен П. Абеляром в метод научного анализа.
Именно после издания им книги «Sie et Non» («Да и Нет») схоластический метод приобрел завершенные черты[81 - Примечателен тот факт, что год издания книги П. Абеляра «Да и Нет» совпадает с годом заключения Вермсского конкордата (1122 г.)]. В этой работе Абеляр путем последовательных цитат показал, что «авторитеты», включая Писание, расходятся по 158 важным пунктам и поставил задачу (правда, перед своими учениками) согласовать непримиримые позиции так, чтобы высказывания бл. Августина были согласованы с высказываниями св. Амвросия[82 - См.: Abailard P. Sie et Non: A Critical Edition / Ed. Blanche Boyer and Richard McKeon.– Chicago, 1976.].
Таким образом, схоластический метод должен был синтезировать противоположные доктрины, т. е. цель была не в том, чтобы решить вопрос, какое из двух учений верно, а в том, чтобы вывести третье, новое учение из этого конфликта путем формулирования более широкого основания, поглощающего противоположности.
Основные предпосылки схоластического метода заключались в следующем. В первую очередь любые нормы, содержащиеся в юридических текстах: в постановлениях церковных соборов и синодов, в декретах и решениях отдельных епископов, в законах христианских императоров и уложениях о наказаниях считались истинными и имели свои посылки в Священном писании и в произведениях ранних отцов церкви, таких, как бл. Августин, Тертулиан, Ориген и др.
В силу того, что суждения авторитетных источников принимались за истину и между ними обнаруживались противоречия, т. е. противоположные суждения по одному и тому же вопросу, вставала проблема: если каждый источник верен и тем не менее между ними существует противоречие, то где же истина? Схоласты в XII и XIII вв. были единодушны в принятии «авторитетов» и гордились прежде всего не оригинальностью своей мысли, а умением понимать и использовать эти источники. Поэтому они решали данную проблему путем поиска более общего основания, которое бы устранило противоречие, т. е. устроило бы обе концепции.
В данном случае, благодаря схоластическому методу, юристы XI–XII вв. стали более свободно относиться к юридическим текстам. Тексты стали не «буквой закона», а скорее темой для размышления – темой, которая, задавая противоречие, требовала его разрешения.
Конечно, для того чтобы выявить действительное противоречие в «авторитетных» текстах, их необходимо было подвергнуть предварительному анализу, используя три правила, которые рекомендовал П. Абеляр.
Во-первых, необходимо выяснить смысл терминов во всех их историко-лингвистических оттенках. «Понимание текста, – пишет Абеляр, – может быть затруднено непривычным употреблением терминов, а также их вариативностью и полисемией. Анализ должен установить причины этой вариативности в связи с обстоятельствами возникновения текста, а также мотивами, побудившими автора высказать именно данный текст, являющийся его "языковой собственностью"»[83 - Цит. по: Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. В 2 т. СПб., 1994. Т. 2. – С. 111.].
Во-вторых, установить аутентичность текста относительно как автора, так и случайных подстановок и интерполяций.
В-третьих, сверить сомнительные тексты с подлинными текстами в рамках целого корпуса сочинений автора. Главное здесь – не смешивать привнесенные мнения с личной оценкой автора.
Весь этот предварительный анализ текста был направлен только на одно – истинное понимание смысла текста в целях выяснения действительного противоречия. И только после этого формулировался основной вопрос, требующий разрешения.
Вопрос конструировался в форме тезиса – утвердительного ответа и антитезиса – отрицательного ответа. Например: «Всякое ли деяние является благим?», «Зависит ли благо или зло человеческого деяния от его объекта?» (тезис – «Да», антитезис – «Нет») и т. п. Затем излагалось несколько аргументов в защиту позиции, с которой следовало полемизировать. Причем иногда (в зависимости от важности вопроса) количество аргументов могло доходить до 20 и более. Как, например, в «Сумме теологии» Фомы Аквинского 6-й вопрос главы «О зле» насчитывал 24 аргумента. Далее (после слов «sed contra») приводились аргументы противоположной точки зрения, чтобы получилось противоречие. И только после этого, со слов «respondeo» (Я отвечаю), давалось решение вопроса, так называемый «corpus», принадлежащий собственно автору исследования.
Аргументы строились в форме силлогизмов, где «авторитетные мнения» выступали в качестве посылок. Правда, «авторитетные мнения» не были равноценными. Наиболее важными считались аргументы канонических книг Библии. Они были «наиболее существенными и необходимыми»; затем аргументы отцов церкви, которые считались «существенными», но не «необходимыми», а лишь «возможными»; затем следовали философы, представлявшие аргументы «внешние», т. е. только «возможные»[84 - Панофский Э. Готическая архитектура и схоластика // Богословие в культуре средневековья. – Киев, 1992. – С. 75.]. Поэтому на двадцать аргументов философов достаточно было одного противоположного суждения из Библии.
Силлогизмы демонстрировали истинность тезиса и антитезиса. Например, тезис «Никакое человеческое действие не может быть злым» Фома Аквинский в своей работе «Сумма теологии» доказывает, демонстрируя его истинность, следующим образом. Для доказательства он приводит суждение Псевдо-Дионисия: «…зло не только не может быть источником становления всего сущего, но и само есть не сущее и лишь благодаря Благу становится сущим, благим и творящим добро». Данное суждение Фома Аквинский резюмирует в качестве первой посылки силлогизма – зло действует не иначе как силой блага. Затем следует утверждение, что силой блага зло не творится (вторая посылка) и делается вывод – значит, никакое действие не злое[85 - Аквинский Ф. Сумма теологии. Фрагменты // Вопросы философии. 1997. № 9. С. 175.]. Таким образом доказывалась истинность тезиса.
Тезис считался доказанным, если при построении силлогизма были выполнены два условия: соблюдены правила построения силлогизма и правильно использовались значения терминов, поскольку во втором случае при кажущейся правдоподобности посылок вывод может быть ложным, если подставляется одно значение термина, и истинным – если другое.
Поэтому схоластика развивала учение о правилах построения силлогизмов и проводила скрупулезную работу по разделению множества значений одного и того же термина (метод, заимствованный схоластами у Аристотеля). Справедливо замечает В. Ульман, что схоластический метод – это метод, доведенный до совершенства, посредством которого многочисленные противоречия в системе норм разрешались путем мыслительных операций различения и подразделений, доведенных до такой стадии, пока не обнаруживалось общее основание, позволявшее выйти из противоречия[86 - См.: Ullman W. Law and polities in the Middll apess. An introduction to the sources of medival political ideas. – Ithaca, 1975.].
Схоластический метод применялся в трех высших науках средневековья: теологии, философии и юриспруденции.
В юриспруденции схоластический метод использовался глоссаторами при анализе текстов Дигест Юстиниана[87 - Глоссы – комментарии на полях Дигест Юстиниана.]. Работая над текстами правового источника, они пытались добиться терминологического единства, поскольку «ученые часто совершенно по-разному решали одни и те же правовые проблемы… (это происходит)… прежде всего…от неверного толкования примененной в Дигестах терминологии»[88 - Аннерс Э. История европейского права. – М., 1994. – С. 160–161.].
Глоссаторы проводили следующую работу. Они отмечали все те места в Дигестах, где использовался тот или иной термин. Затем, анализируя все многообразные случаи использования термина, пытались дать общую дефиницию, которая соответствовала бы всем ситуациям. Из этого общего (родового) понятия выводились видовые понятия, так как логическое единство закона возможно, если между понятиями будет установлено родо-видовое отношение. В случае же отношения двух родовых понятий логическая связь не устанавливается. Между ними возможно противоречие, если только не будет сформулировано более общее понятие, которое стало бы для них родовым и этим устраняло бы противоречие.
Римские юристы, несмотря на свои до мельчайших тонкостей отшлифованные методы анализа отдельных юридических ситуаций, совершенно не стремились к достижению терминологического единства. Так, например, в Дигестах, под авторским отрывком Ульпиана, пишется: «Теперь рассмотрим, на истребование чего направлен иск о наследстве. И признано, что этим иском объемлется совокупность наследственных вещей, как прав, так и телесных вещей»[89 - Дигесты Юстиниана. – М., 1984. – С. 121.], и далее перечисляются вещи, входящие в «совокупность наследственных вещей", и описываются случаи, в которых определенные вещи не входят в этот состав. Таким образом, Ульпиан не формулирует понятие «наследуемое имущество».
Для глоссаторов же, наоборот, наибольшую важность представляла проблема формулирования юридических понятий, поскольку без терминологического единства возможны не только противоречия в законе, но и неаутентичное толкование закона. Тем самым глоссаторы первыми подняли проблему толкования юридических текстов: то ли нормы необходимо толковать с точки зрения справедливости и законности, то ли «в юридической науке не должно быть места для того или иного толкования законов, ибо закон… всегда и безукоснительно должен использоваться в строгом соответствии с его духом и буквой»[90 - Аннерс Э. История европейского права. – С. 163.].
В юриспруденции схоластические антитезы включали не только общее против особенного, объект против субъекта, аргумент против ответа, но также и строгий закон против отступления от норм в исключительных случаях, предписания против адвоката, абсолютная норма против относительной, правосудие против милосердия, божественное право против человеческого. Эти и аналогичные «оппозиции» использовались не только для логического примирения противоречивых текстов, но и для формулирования правовых институтов как церкви, так и светского государства, чтобы таким образом дать место альтернативным ценностям.
Наиболее показательный пример роли схоластической диалектики в формировании правовой науки того времени – это трактат болонского[91 - Болонский университет в XII–XIII вв. был европейским центром юридического образования. По современным данным, в Болонье в эти века одновременно изучали право до десяти тысяч студентов со всей Европы.] монаха Грациана, написанный около 1140 г., с весьма показательным названием «Согласование разноречивых канонов». Это произведение (в современном издании занимающее более 1400 печатных страниц) было первым всеобъемлющим и систематическим юридическим трактатом на Западе, который использовался католической церковью вплоть до принятия нового свода канонического права в 1918 г.
Труд Грациана состоял из трех частей: первая часть была разделена на 101 дистинкцию (Distinctiones – различение), из которых первые 20 анализировали и систематизировали утверждения авторитетов относительно природы права, различных источников права, взаимоотношений разных видов права; вторая часть представляла собой ряд Causae, т. е. воображаемых судебных дел, которые использовались как основа для каверзных вопросов по проблемам права и снабжались ответами в виде цитат из авторитетных источников, а также комментариями самого Грациана; в третьей – он возвращается к форме дистинкций.
Для иллюстрации метода Грациана приведем один пример из второй части его работы, относящийся к правовым проблемам брака.
Грациан рассматривает случай, когда благородная дама дала согласие на вступление в брак с сыном дворянина, ни разу его не видя. Другой человек, не благородного, а низкого происхождения (раб), выдал себя за этого дворянина и взял ее в жены. После брака первый претендент заявил о своем праве на руку и сердце этой дамы. В свою очередь, дама заявила, что была обманута и желает выйти замуж за того, кто первый добивался ее руки.
В данном случае Грациан формулирует два вопроса: можно ли считать, что она действительно была замужем? Второй вопрос: если она приняла второго за свободного человека, а затем обнаружила, что он раб, могла ли она на этом основании оставить его?
Поэтому ключевым вопросом того времени было примирение двух независимых политий – церковной и светской. Борьба между папой Римским и императором Римской империи за инвеституру (лат. invenstire – облачать; право наделения феодальным саном и введение в должность епископа или аббата) привела в результате к компромиссу, который по своей форме соответствовал договору. Так, по Вермсскому конкордату 1122 г. император гарантировал, что епископы и аббаты будут свободно избираться только лишь церковью, и отказался о «заботе душ человеческих». Со своей стороны, папа отказался от вмешательства в процедуру присвоения императором феодальных регалий, т. е. феодального права на собственность, правосудие и светское управление. Подобного рода соглашение возможно было только при условии одинаковых легитимационных оснований церковной и светской властей – «римская церковь основана одним только Господом» и «король есть король не через узурпацию, а святым соизволением Божьим». Таким образом, спор, то ли папа Римский решает за всех, то ли император, завершился в конце концов примирением сторон, компромиссом – не тот и не другой.
Одни историки XX в. назвали связанные с ограничением юрисдикций события «папской революцией», подчеркивая масштабность происходящих изменений, другие «григорианской реформацией», тем самым принижая их значение.
Думаю, что ошибочно недооценивать влияние происходящих изменений как на формирование правового знания средних веков, так и на политическую и юридическую практику. По мнению Питера Брауна, в данном случае необходимо говорить о «высвобождении двух сфер: сферы священного и сферы профанного», отчего произошел выброс энергии и творчества[65 - Brown P. Society and the Supernatyral: A Medieval Change. – Daedalus, Spring, 1975. – P. 134.]. Подобный характер «революции» отмечают также такие авторы, как историк церкви Г. Телленбах, немецкий историк Ойген Розеншток-Хюсси, великий французский историк общества и экономики Марк Блок и др.[66 - См.: Tellenbach G. Libertas: Kirche und Weltordnung im Zeitalter des Investiturstreifes. – Stuttgart, 1936; Rosenstock-Hussi O. Die europaischen Revolutionen. – Stuttgart, 1960; Блок М. Феодальное общество. – M., 1973. – С. 157–158.], а Гарольд Берман даже замечает, что «папская революция была первым движением в истории Запада, которое охватило несколько поколений и носило программный характер»[67 - Берман Г. Западная традиция права: эпоха формирования. – М., 1998. – С. 112.]. Действительно, партии папы потребовалось целое поколение – с 1050 по 1075 г., чтобы объявить свою программу реальностью, а затем еще 47 лет борьбы, чтобы достичь соглашения с императором по вопросу права инвеституры, и уже после этого, значительно позже, решить вопрос уголовной и гражданской юрисдикции церкви и светской власти.
Начало активного противостояния церкви светской власти принадлежит деятельности монахов Клюнийского монастыря в Бургундии. Клюнийцы первыми выступили с программой борьбы за «чистоту духовенства». До XI в. духовенство мало чем отличалось от мирян[68 - Термин «миряне» стал употребляться папами с 1075 г., чтобы подчеркнуть отличие духовенства от гражданских лиц и то, что светская власть не обладает религиозной функцией.], разве что своим облачением, и представляло из себя достаточно жалкое зрелище. Духовные лица, как и любые другие люди, могли иметь семью, растить детей, приобретать собственность, передавать свою церковную должность по наследству, по уровню образования они ненамного превосходили простых крестьян, «знали латинский язык, на котором совершалось богослужение и на котором писались все сочинения, немного лучше, чем арабский»[69 - Тальберг Н. История христианской церкви. – М., 1991. – С. 337.], и вообще вели образ жизни «развратный и распущенный». При таких условиях интересы церковнослужителей тесно переплетались с интересами королей и императоров, что позволяло средневековым феодалам активно вмешиваться в дела церкви. Феодалы как владельцы земли, на которой были расположены церковные епархии, пользовались не только экономической выгодой – доходами от разных экономических служб, но и назначали на должности епархиальных архиереев и на другие церковные должности угодных им лиц, часто из числа близких родственников. Так религиозная и политическая сферы переплетались по всем основным пунктам: императоры и короли созывали церковные соборы, публиковали церковные законы; в то же время епископы и другие высокопоставленные представители духовенства заседали в правительственных органах: местных, баронских, королевских или имперских; епархиальное управление часто являлось главным органом гражданской администрации, а епископы – важными членами феодальной иерархии; женитьба же священников окончательно связывала их с местными феодалами[70 - Эта система была аналогичной той, что господствовала в Восточной Римской империи и которая позже была на Западе осуждена как «кесаре-папизм».]. Поэтому западное христианское духовенство того времени – епископы, священники и монахи – находилось больше под властью императоров, королей и крупнейших феодалов, чем под властью пап.
Именно клюнийцы провозгласили отречение духовенства от светских интересов и светского образа жизни. Клюнийцы и другие реформаторы стремились повысить уровень религиозной жизни, нападая на практику покупки и продажи церковных должностей (симонии) и на брачное и внебрачное сожительство (николаизм). То и другое вовлекало духовенство в местную и клановую политику, вело к упадку религиозной жизни. Симония была настолько распространена и приобрела такие формы, что Петр Домиани в 1059 г. обнаружил, что в Милане не было ни одного представителя клира, который не был бы повинен в симонии, а папа Силвестр II, описывая епископа, вложил в уста последнего следующие слова: «Я дал золото и получил епископство; и я не боюсь получить свое золото обратно… Я посвящаю в сан священника и получаю золото; я назначаю диакона и получаю кучу серебра. Видишь – то золото, что я дал, я вернул в свой кошелек умноженным»[71 - Cambridge Medieval History. Vol. V. P. 10.].
Реформаторы не могли обратиться за поддержкой своих реформ к папе Римскому, поскольку последний был практически полностью зависим от римской аристократии, которая оказывала весьма слабое почтение папской особе; его могли похитить, посадить в тюрьму, отравить или открыто выступить против него. Поэтому они обратились за помощью к наследникам Карла Великого и такую поддержку получили. Наследники же Карла Великого рассчитывали с помощью клюнийцев вырвать из рук римской знати власть назначать папу. Действительно, последующим императорам Священной Римской империи удалось при помощи союза с реформаторами одержать временную победу в вопросе назначения папы Римского. Императоры Григорий III и Григорий IV с 1046 по 1073 г. единолично назначили шестерых пап и именно тех, кто был сторонником церковной реформы. Но если такой союз привел императоров к тактической победе, то в плане исторической перспективы союз был недальновидным. Раскол начался тогда, когда папа Григорий VII (1073–1085) (бывший монах Клюнийского монастыря Гильдебрант) открыто выступил против императорской привилегии назначать папу.
В 1075 г. он провел на соборе запрещение как на инвеституру, так и на вступление священников в брак. Основные свои идеи он сформулировал в знаменитых Диктатах папы, которые состояли из 27 пунктов. В этих Диктатах он провозгласил, что Римский епископ (папа Римский) «один по праву зовется вселенским»; ему предоставлено право низлагать и восстанавливать епископов; «ему одному позволено создавать новые законы в соответствии с нуждами времени»; «он может низлагать императоров»; «никакой его приговор не может быть никем отменен…»; «он может освобождать подданных несправедливых людей от присяги на верность» и даже папские легаты низшего ранга на соборе «…имеют превосходство над всеми епископами» и могут вынести приговор о их низложении[72 - Ehler S. Z. and Morrall J. B. Church and State through the Centuties. – London, 1954. – P. 43–44.]. С этого началась открытая борьба за инвеституру, победителем которой стал апостольский престол.
Григорий VII не был первым, кто заявил о подобного рода притязаниях. В свое время папа Николай I (858–867) пытался провести в жизнь схожие идеи, но тогда они были несвоевременными, несмотря на то, что при Николае I папский престол достиг пика своего влияния. Заявления Николая I о папской власти не только над архиепископами и епископами, но и над императорами ни в коей мере не изменили реальности императорской, королевской и местной феодальной власти над церковью[73 - В общей сложности за столетие до 1059 г. из 25 пап 21 был прямо назначен императорами, а 5 ими же уволены.]. Как в IX в., так и при Григории VII запрет на симонию «вызвал бурю негодования среди церковных иерархов».
Программа папской партии привела и к ряду последствий в формировании корпуса правового знания средних веков. Во-первых, нужды существования и соревнования двух централизованных политий, которые обладают правом на предписания и интересы которых зачастую не совпадают, потребовали формулирования правовых принципов как наиболее общих и обладающих высшей юридической силой норм и, по сути, автономных от содержания конкретных дел, т. е., чтобы вынести справедливое решение в споре между двумя политиями, необходимо было сформулировать общие для всех юридические максимы. Во-вторых, идея ограниченной юрисдикции привела к мысли о необходимости систематизации юридических норм. Без ограниченной юрисдикции двух правовых инстанций юридические нормы могут создаваться, но вряд ли они будут подвергнуты систематизации, скорее всего, они будут нагромождаться, как снежный ком, одна на другую. Начиная с первых веков новой эры церковь, не обладающая ни политическим, ни юридическим единством, а объединенная только лишь общим учением, накопила великое множество законов – канонов (норм), постановлений церковных соборов и синодов, декретов и решений отдельных епископов, законов христианских императоров, уложений о наказаниях и др. Но, несмотря на такое обилие законов, даже в 1000 г. не существовало книги или нескольких книг, в которых была бы сделана попытка представить весь свод правил или хотя бы систематически изложить какую-либо их часть.
В отличие от римской юриспруденции, которая была наукой, обобщающей юридическую практику, средневековая наука стремилась к формулированию правовых принципов. Римский юрист Павел писал: «Норма – это нечто, кратко излагающее суть дела… Посредством норм передается краткое содержание дела… и если оно неточно, то теряет свою полезность»[74 - Цит. по: Берман Г. Западная традиция права: эпоха формирования. – М., 1998. – С. 141.]. Согласно Дигестам Юстиниана, «когда предложение имеет два значения, следует принять то, которое лучше приспособлено к данному делу» (D. 50.17.67), а в семнадцатом титуле пятидесятой книги Дигест говорится, что «ответчики рассматриваются более благоприятно, чем истцы» (D. 50.17.125). Другими словами, нормы не следует рассматривать вне контекста содержания дел, которые они суммируют. Поэтому ни один римский юрист не относился к юридическим нормам как к отвлеченным принципам. Римское право хоть и составляло сложную систему норм, однако они существовали не как интеллектуальные образования, а скорее как красочная мозаика практических решений конкретных юридических вопросов.
По сути, римская юриспруденция имела казуистический характер, и подход к критериям юридических норм у римлян был соответствующий. Критерий оценки позитивных законов, включая обычай, был совсем иным, нежели впоследствии в средние века и Новое время. Этот критерий нес на себе такую же печать прагматичности, как и сами законы. Ульпиан пишет: «Совершенен такой закон, который запрещает что-либо делать, а если это сделано, считает недействительным… Несовершенен такой закон, который запрещает что-нибудь делать, и если это сделано, не отменяет и не налагает наказание… Менее совершенен закон, который запрещает что-нибудь, а если это сделано, не отменяет, но налагает наказание…»[75 - Ульпиан Д. Фрагменты // Памятники римского права. – М., 1998. – С. 157.] Совершенный закон отличается от несовершенного полнотой элементов структуры нормы: предписанием, наказанием, отменой действия, и если не хватает какого-либо элемента, то закон несовершенен. Следовательно, речь не идет о соответствии закона некоторым высшим принципам, здесь осуществляется чисто прагматический подход.
Перед средневековыми мыслителями стояла иная задача. Сформулировать такие нормы, которые, с одной стороны, представляли бы единое целое, с другой – выполняли бы роль внепозитивных критериев для любых позитивных норм.
Дело заключалось в том, что римская правовая мысль не имела в своем арсенале «священные тексты» (Библию), тогда как средневековая правовая мысль столкнулась с проблемой толкования библейского текста. Библия демонстрировала несколько иной подход в формулировании социальных норм. Библейские нормы были предельно обобщенными (нравственными сентенциями): «не убий», «не укради», «не противодействуй злу насилием», «браки заключаются на небесах, следовательно, нерасторжимы». Подобного рода нормы в форме предельных нравственных сентенций вряд ли могли непосредственно разрешить юридические казусы.
Другое дело, когда формулируется строго определенная норма. Для примера можно привести формулу римского права: Quod quisque juris in alteram statuerit, ut ipse eodem jure utatur (Какие правовые положения кто-либо устанавливает в отношении другого, такие же положения могут быть применены и в отношении его самого). На первый взгляд может показаться, что данная формула отражает общий правовой принцип: «Не делай в отношении другого того, что не желал бы в отношении самого себя», но на самом деле в Дигестах Юстиниана речь идет об обязанности магистрата или должностного лица, облеченного властью, принимать то же правовое положение по требованию ответчика, если это положение уже было применено по иску его противника. «Если кто-либо, – пишется в Дигестах, – достигнет того, что (в его пользу) будет установлено какое-либо новое правовое положение магистратом или лицом, занимающим должность, облеченную властью, то это же правовое положение будет применено против него, когда впоследствии его противник предъявит требование» (D. 2.2.1). Данная норма рассчитана на строго определенный круг случаев, обладает достаточной конкретностью и в силу ее определенности не вызывает сложности при ее применении. Или титул De officio eius, cui mandata est jurisdictio (О должности того, кому поручено осуществлять юрисдикцию) запрещает передавать другому лицу право на осуществление действий в области управления, если это право предоставлено «законом, или сенатконсультом, или конституцией принцепсов» (D. 1. 21. 1). Но и эта формула не является предельно обобщенной нормой права (принципом), поскольку относится только к сфере публичного права, т. е. к должностным лицам. Следовательно, римское право в этой части не формулирует общий принцип: «Никто не имеет права передавать больше прав, нежели сам обладает». Таким образом, римская юриспруденция обладала казуистическим характером, и если ее правовые нормы имели обобщенную форму, то степень обобщения ограничивалась категориями субъектов правоотношений: «Права устанавливаются не для отдельных лиц, а общим образом» (D. 1. 3. 8). Сложности при использовании казуистических норм могли возникать в случае, если существовали две разные нормы в отношении одной категории случаев и если юридическая практика шагнула «вперед», а в отношении новых случаев не была сформулирована новая норма, т. е. юридическая наука шла за практикой.
Так, причиной юстиниановской кодификации римского права было то, что «из множества законов… изучающие воспринимали с голоса учителя только 6 книг, и то спутанных и редко содержащих в себе изложение полезных правил, прочие же вышли из употребления», а Юстиниан, обращаясь к Великому Сенату по поводу утверждения Дигест, повторял: «Нами сделано только то, что если что-либо в их законах (законах древних юристов. – И. Ц.) представлялось излишним или несовершенным, или нецелесообразным, то это получило необходимые дополнения или сокращения и передано в точнейших правилах; во многих случаях, когда имело сходство или противоречие, установлено вместо всего этого то, что казалось более правильным…»[76 - Дигесты Юстиниана. М., 1984. – С. 19–21.] Ко времени Юстиниана юридическая практика существенно изменилась, некоторые правила поведения людей утратили жизненную силу и перестали употребляться, а какие-то были новые и не зафиксированные в законе. Поэтому законодатель должен был очистить право от старых, отживших норм, включить в него новые, а также устранить противоречия. Таким образом, законодательство следовало строго по пятам юридической практики, и сила обычая не подвергалась сомнению.
Казуистический характер норм достаточно точно определяет необходимое поведение для конкретных субъектов правоотношения, не вызывая больших сложностей при ее применении, но что делать, когда в норме есть лишь такой минимум содержания, что возможно различное толкование в силу ее неопределенности (абстрактности)? При применении на практике предельно обобщенной нормы, такой, например, как «арендатор обязан возместить ущерб собственнику в случае утраты или повреждения арендованного имущества», возможны различные решения в каждой из конкретных ситуаций (от обязанности возмещения ущерба до освобождения от ответственности), поскольку норма не определяет конкретное содержание дела.
Именно с такой ситуацией столкнулись средневековые юристы, когда необходимо было применять на практике библейские нравственные сентенции.
Конечно, возможен вариант, при котором предельно обобщенные нормы возводятся в закон и требуется их неукоснительное соблюдение. Возможно, когда говорится: «Не противодействуй злу насилием», никакое сопротивление насилию не может быть рационально оправдано, следовательно, не может и учитываться конкретное содержание дела. Подобное положение можно было возвести на уровень принципа и исходя из него создавать позитивные нормы права, но дело осложнялось тем, что как «священные тексты» Библии, так и авторитетные тексты отцов церкви содержали противоположные суждения в отношении одного и того же.
Поэтому возникла потребность создания метода правового анализа и синтеза, который, с одной стороны, создавал бы отвлеченные и вечные правовые принципы вне контекста юридической практики, а с другой – на их основе «примирял бы противоположные суждения».
В данном случае христианское представление о разуме человека существенно отличалось от античного понимания разума. Если последнее считало, что противоречие-конфликт есть заблуждение разума, связанное с неправильным употреблением терминов и нарушением правил высказывания[77 - Софистическая практика в Древней Греции подвигнула Аристотеля к формулированию правил высказывания (формальной логики).], а сам разум есть способность делать правильные выводы из правильных посылок и способность индивида к самоограничению, то в средние века разум человека стал связываться со способностью разрешать противоречия-конфликты. Противоречия-конфликты приобрели форму необходимых условий самого разума[78 - В Новое время тоже меняется концепция «разума», а следом изменилось и правовое мышление. За разумом стали признавать способность достижения наибольшей выгоды при наименьших затратах (экономичность).].
В этой части средневековая правовая наука совершила серьезный шаг вперед. Отвлеченные правовые принципы, или юридические максимы, были призваны решить задачу систематизации права. Западноевропейские юристы XI–XII вв. пытались систематизировать нормы так, чтобы получилось единое целое, т. е. определить не просто общие для определенного рода прецедентов элементы, но и систематизировать нормы в принципы, а сами принципы – в цельную систему, совокупность права, или corpus juris. Закон стал пониматься как связанное целое, единая система, «организм», который развивается во времени. Поэтому, в отличие от предшествующего обычного права и даже от римского права до и после Юстиниана[79 - Дигесты Юстиниана составлялись из практической целесообразности «включить в один кодекс столько разрозненных томов авторов, освободив их от излишних повторений и исключив те нормы, которые вышли из употребления».], право в это время, да и потом, задумывалось как органично развивающаяся система, растущий организм, свод принципов и процедур, который будет строиться многими поколениями.
Для реализации такой программы в начале 1100-х гг. был создан научный инструмент – схоластический метод правового анализа и синтеза. Одним из пионеров схоластического метода был Пьер Абеляр (1079–1142), годы жизни которого выпали на период папской революции. Конечно, П. Абеляр не сам изобрел этот метод, он уже существовал до него, но только в форме судебного процесса и способа обучения в европейских университетах. П. Абеляр вспоминает в своей книге «История моих бедствий»: «…едва только я узнавал о процветании где-либо искусства диалектики… как я переезжал для участия в диспутах из одной провинции в другую…»[80 - Абеляр П. История моих бедствий. – М., 1992. – С. 260.] Действительно, схоластический метод анализа и синтеза напоминал как судебный процесс (спор истца и ответчика), так и диспут, широко применяемый в европейских университетах того времени. В суде истец и ответчик выстраивали аргументы в защиту своей позиции, и в университетских диспутах стороны выстраивали аргументы противоположных точек зрения по одному и тому же вопросу. Но самое главное заключалось в том, что результатом этого спора-диспута должна была стать не победа той или иной точки зрения, а соглашение, которое устраивало бы обе стороны.
Основной формой обучения в европейских университетах было чтение текстов. Учитель зачитывал авторитетный юридический текст с целью обнаружения в нем противоречий, ставил вопрос, который предполагал два варианта ответа: «Да» или «Нет», выстраивал аргументы, обосновывающие одну из позиций, и требовал от учащихся защитить противоположную точку зрения. Конечно, победные лавры всегда доставались учителю до тех пор, пока принцип согласования противоположных суждений не был введен П. Абеляром в метод научного анализа.
Именно после издания им книги «Sie et Non» («Да и Нет») схоластический метод приобрел завершенные черты[81 - Примечателен тот факт, что год издания книги П. Абеляра «Да и Нет» совпадает с годом заключения Вермсского конкордата (1122 г.)]. В этой работе Абеляр путем последовательных цитат показал, что «авторитеты», включая Писание, расходятся по 158 важным пунктам и поставил задачу (правда, перед своими учениками) согласовать непримиримые позиции так, чтобы высказывания бл. Августина были согласованы с высказываниями св. Амвросия[82 - См.: Abailard P. Sie et Non: A Critical Edition / Ed. Blanche Boyer and Richard McKeon.– Chicago, 1976.].
Таким образом, схоластический метод должен был синтезировать противоположные доктрины, т. е. цель была не в том, чтобы решить вопрос, какое из двух учений верно, а в том, чтобы вывести третье, новое учение из этого конфликта путем формулирования более широкого основания, поглощающего противоположности.
Основные предпосылки схоластического метода заключались в следующем. В первую очередь любые нормы, содержащиеся в юридических текстах: в постановлениях церковных соборов и синодов, в декретах и решениях отдельных епископов, в законах христианских императоров и уложениях о наказаниях считались истинными и имели свои посылки в Священном писании и в произведениях ранних отцов церкви, таких, как бл. Августин, Тертулиан, Ориген и др.
В силу того, что суждения авторитетных источников принимались за истину и между ними обнаруживались противоречия, т. е. противоположные суждения по одному и тому же вопросу, вставала проблема: если каждый источник верен и тем не менее между ними существует противоречие, то где же истина? Схоласты в XII и XIII вв. были единодушны в принятии «авторитетов» и гордились прежде всего не оригинальностью своей мысли, а умением понимать и использовать эти источники. Поэтому они решали данную проблему путем поиска более общего основания, которое бы устранило противоречие, т. е. устроило бы обе концепции.
В данном случае, благодаря схоластическому методу, юристы XI–XII вв. стали более свободно относиться к юридическим текстам. Тексты стали не «буквой закона», а скорее темой для размышления – темой, которая, задавая противоречие, требовала его разрешения.
Конечно, для того чтобы выявить действительное противоречие в «авторитетных» текстах, их необходимо было подвергнуть предварительному анализу, используя три правила, которые рекомендовал П. Абеляр.
Во-первых, необходимо выяснить смысл терминов во всех их историко-лингвистических оттенках. «Понимание текста, – пишет Абеляр, – может быть затруднено непривычным употреблением терминов, а также их вариативностью и полисемией. Анализ должен установить причины этой вариативности в связи с обстоятельствами возникновения текста, а также мотивами, побудившими автора высказать именно данный текст, являющийся его "языковой собственностью"»[83 - Цит. по: Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. В 2 т. СПб., 1994. Т. 2. – С. 111.].
Во-вторых, установить аутентичность текста относительно как автора, так и случайных подстановок и интерполяций.
В-третьих, сверить сомнительные тексты с подлинными текстами в рамках целого корпуса сочинений автора. Главное здесь – не смешивать привнесенные мнения с личной оценкой автора.
Весь этот предварительный анализ текста был направлен только на одно – истинное понимание смысла текста в целях выяснения действительного противоречия. И только после этого формулировался основной вопрос, требующий разрешения.
Вопрос конструировался в форме тезиса – утвердительного ответа и антитезиса – отрицательного ответа. Например: «Всякое ли деяние является благим?», «Зависит ли благо или зло человеческого деяния от его объекта?» (тезис – «Да», антитезис – «Нет») и т. п. Затем излагалось несколько аргументов в защиту позиции, с которой следовало полемизировать. Причем иногда (в зависимости от важности вопроса) количество аргументов могло доходить до 20 и более. Как, например, в «Сумме теологии» Фомы Аквинского 6-й вопрос главы «О зле» насчитывал 24 аргумента. Далее (после слов «sed contra») приводились аргументы противоположной точки зрения, чтобы получилось противоречие. И только после этого, со слов «respondeo» (Я отвечаю), давалось решение вопроса, так называемый «corpus», принадлежащий собственно автору исследования.
Аргументы строились в форме силлогизмов, где «авторитетные мнения» выступали в качестве посылок. Правда, «авторитетные мнения» не были равноценными. Наиболее важными считались аргументы канонических книг Библии. Они были «наиболее существенными и необходимыми»; затем аргументы отцов церкви, которые считались «существенными», но не «необходимыми», а лишь «возможными»; затем следовали философы, представлявшие аргументы «внешние», т. е. только «возможные»[84 - Панофский Э. Готическая архитектура и схоластика // Богословие в культуре средневековья. – Киев, 1992. – С. 75.]. Поэтому на двадцать аргументов философов достаточно было одного противоположного суждения из Библии.
Силлогизмы демонстрировали истинность тезиса и антитезиса. Например, тезис «Никакое человеческое действие не может быть злым» Фома Аквинский в своей работе «Сумма теологии» доказывает, демонстрируя его истинность, следующим образом. Для доказательства он приводит суждение Псевдо-Дионисия: «…зло не только не может быть источником становления всего сущего, но и само есть не сущее и лишь благодаря Благу становится сущим, благим и творящим добро». Данное суждение Фома Аквинский резюмирует в качестве первой посылки силлогизма – зло действует не иначе как силой блага. Затем следует утверждение, что силой блага зло не творится (вторая посылка) и делается вывод – значит, никакое действие не злое[85 - Аквинский Ф. Сумма теологии. Фрагменты // Вопросы философии. 1997. № 9. С. 175.]. Таким образом доказывалась истинность тезиса.
Тезис считался доказанным, если при построении силлогизма были выполнены два условия: соблюдены правила построения силлогизма и правильно использовались значения терминов, поскольку во втором случае при кажущейся правдоподобности посылок вывод может быть ложным, если подставляется одно значение термина, и истинным – если другое.
Поэтому схоластика развивала учение о правилах построения силлогизмов и проводила скрупулезную работу по разделению множества значений одного и того же термина (метод, заимствованный схоластами у Аристотеля). Справедливо замечает В. Ульман, что схоластический метод – это метод, доведенный до совершенства, посредством которого многочисленные противоречия в системе норм разрешались путем мыслительных операций различения и подразделений, доведенных до такой стадии, пока не обнаруживалось общее основание, позволявшее выйти из противоречия[86 - См.: Ullman W. Law and polities in the Middll apess. An introduction to the sources of medival political ideas. – Ithaca, 1975.].
Схоластический метод применялся в трех высших науках средневековья: теологии, философии и юриспруденции.
В юриспруденции схоластический метод использовался глоссаторами при анализе текстов Дигест Юстиниана[87 - Глоссы – комментарии на полях Дигест Юстиниана.]. Работая над текстами правового источника, они пытались добиться терминологического единства, поскольку «ученые часто совершенно по-разному решали одни и те же правовые проблемы… (это происходит)… прежде всего…от неверного толкования примененной в Дигестах терминологии»[88 - Аннерс Э. История европейского права. – М., 1994. – С. 160–161.].
Глоссаторы проводили следующую работу. Они отмечали все те места в Дигестах, где использовался тот или иной термин. Затем, анализируя все многообразные случаи использования термина, пытались дать общую дефиницию, которая соответствовала бы всем ситуациям. Из этого общего (родового) понятия выводились видовые понятия, так как логическое единство закона возможно, если между понятиями будет установлено родо-видовое отношение. В случае же отношения двух родовых понятий логическая связь не устанавливается. Между ними возможно противоречие, если только не будет сформулировано более общее понятие, которое стало бы для них родовым и этим устраняло бы противоречие.
Римские юристы, несмотря на свои до мельчайших тонкостей отшлифованные методы анализа отдельных юридических ситуаций, совершенно не стремились к достижению терминологического единства. Так, например, в Дигестах, под авторским отрывком Ульпиана, пишется: «Теперь рассмотрим, на истребование чего направлен иск о наследстве. И признано, что этим иском объемлется совокупность наследственных вещей, как прав, так и телесных вещей»[89 - Дигесты Юстиниана. – М., 1984. – С. 121.], и далее перечисляются вещи, входящие в «совокупность наследственных вещей", и описываются случаи, в которых определенные вещи не входят в этот состав. Таким образом, Ульпиан не формулирует понятие «наследуемое имущество».
Для глоссаторов же, наоборот, наибольшую важность представляла проблема формулирования юридических понятий, поскольку без терминологического единства возможны не только противоречия в законе, но и неаутентичное толкование закона. Тем самым глоссаторы первыми подняли проблему толкования юридических текстов: то ли нормы необходимо толковать с точки зрения справедливости и законности, то ли «в юридической науке не должно быть места для того или иного толкования законов, ибо закон… всегда и безукоснительно должен использоваться в строгом соответствии с его духом и буквой»[90 - Аннерс Э. История европейского права. – С. 163.].
В юриспруденции схоластические антитезы включали не только общее против особенного, объект против субъекта, аргумент против ответа, но также и строгий закон против отступления от норм в исключительных случаях, предписания против адвоката, абсолютная норма против относительной, правосудие против милосердия, божественное право против человеческого. Эти и аналогичные «оппозиции» использовались не только для логического примирения противоречивых текстов, но и для формулирования правовых институтов как церкви, так и светского государства, чтобы таким образом дать место альтернативным ценностям.
Наиболее показательный пример роли схоластической диалектики в формировании правовой науки того времени – это трактат болонского[91 - Болонский университет в XII–XIII вв. был европейским центром юридического образования. По современным данным, в Болонье в эти века одновременно изучали право до десяти тысяч студентов со всей Европы.] монаха Грациана, написанный около 1140 г., с весьма показательным названием «Согласование разноречивых канонов». Это произведение (в современном издании занимающее более 1400 печатных страниц) было первым всеобъемлющим и систематическим юридическим трактатом на Западе, который использовался католической церковью вплоть до принятия нового свода канонического права в 1918 г.
Труд Грациана состоял из трех частей: первая часть была разделена на 101 дистинкцию (Distinctiones – различение), из которых первые 20 анализировали и систематизировали утверждения авторитетов относительно природы права, различных источников права, взаимоотношений разных видов права; вторая часть представляла собой ряд Causae, т. е. воображаемых судебных дел, которые использовались как основа для каверзных вопросов по проблемам права и снабжались ответами в виде цитат из авторитетных источников, а также комментариями самого Грациана; в третьей – он возвращается к форме дистинкций.
Для иллюстрации метода Грациана приведем один пример из второй части его работы, относящийся к правовым проблемам брака.
Грациан рассматривает случай, когда благородная дама дала согласие на вступление в брак с сыном дворянина, ни разу его не видя. Другой человек, не благородного, а низкого происхождения (раб), выдал себя за этого дворянина и взял ее в жены. После брака первый претендент заявил о своем праве на руку и сердце этой дамы. В свою очередь, дама заявила, что была обманута и желает выйти замуж за того, кто первый добивался ее руки.
В данном случае Грациан формулирует два вопроса: можно ли считать, что она действительно была замужем? Второй вопрос: если она приняла второго за свободного человека, а затем обнаружила, что он раб, могла ли она на этом основании оставить его?