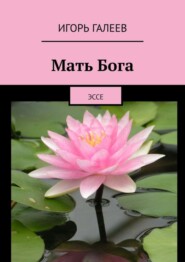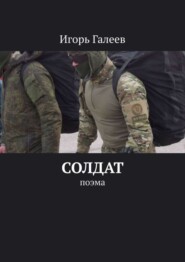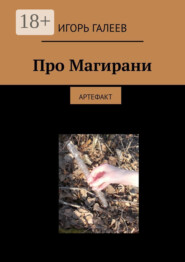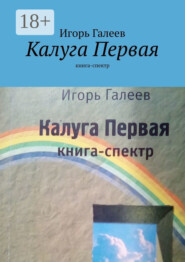По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Душегуб. Психоэма
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Проклиная все на свете, бросился домой. Температура под сорок. Высыпал на ладонь горсть аспирина, добавил, не считая димедрола, и опрокинул таблетки в рот. Через полчаса сон сморил меня.
А Вековой всю эту ночь, как и я, не спал.
Хлопнув на прощанье дверью, он хотел пойти ко мне, но передумал, решив, что в таком ужаснейшем состоянии духа не сможет толком объяснить мне все происшедшее, потому что я в то время до конца не был посвящен в некоторые его суждения по поводу поиска назначения и еще не знал о существовании «теории», а темы эти, как мне потом стало ясно, были основной причиной, толкнувшей Наталью Аркадьевну на отчаянные поступки и высказывания, а если точнее выразиться, темы, от невероятности которых молодой и привыкший к детской определенности разум потерял контроль над воспаленными чувствами.
Сергей Юрьевич винил во всем случившемся себя и никого более. Действительно – разве это оправдание, что он несколько раз заходил к молодой образованной женщине, делился с ней философскими идеями, считая, что ее незатуманенное сознание может безболезненно воспринять дерзновения беспокойного ума, потому что во всем поселке не нашлось подходящего сверстника, который мог бы достойно слушать и достойно понимать?
Нет, Сергей Юрьевич и не думал ни о каком оправдании, он решил немедленно уехать, мысль безумная, потому что уехать зимой ночью не было никакой возможности, а теми праздники.
Вероятно, он ушел бы в город пешком, не столкнись на первом этаже с Иваном Павловичем Рясовым.
В новом мешковатом костюме, испускавшем благоухание жгучего тройного одеколона, Трудовоенчерпий стоял у окна и пребывал в
Наисквернейшем душевном состоянии.
Сегодня он поругался с женой, что случалось крайне редко и обычно перед праздниками, когда Иван Павлович наотрез отказывался идти в гости.
Лидия Викторовна – заведующая детским садом, любила заводить «солидные» знакомства, то есть имела убеждения резко противоположные убеждениям мужа.
В этот раз они должны были пойти к Зайцевым, но Иван Павлович, как и в день седьмого ноября, решительно взбунтовался; он терпеть не мог Зайцевых – директора рыбозавода Анатолия Петровича и его жену – домработницу Анну Сергеевну. Он говорил: «Директора приходят и уходят, как кета, а море остается, как совесть. Зайцев икру отмечет и гнить начнет» (в чем, кстати, оказался прав).
Долгие уговоры заканчивались классически – жена со слезами на глазах и обидой в душе сетовала на свою незадачливую судьбу, обзывала Трудовоенчерпия «придурковатым мичманюгой», и он, багровый от незаслуженного оскорбления, тяжело дыша и проклиная день женитьбы, облачался в свой праздничный костюм, обильно опрыскивался одеколоном и отправлялся ко мне на ночлег или в школьный подвал, в мастерскую, где уединялся до утра, ожесточенно орудуя плотницкими инструментами и собирая костюмом свежие стружки. Ссора с женой зажигала в нем желание поговорить, что он и делал, даже когда оставался в полном одиночестве.
Чего еще не любил Иван Павлович – так это обязательных дежурств на школьных вечерах, и старался под любым предлогом отказаться от них.
Но в этот вечер он, по просьбе Векового, долго стоял в зале, созерцал танцующих и следил за порядком, а теперь вышел покурить и отдышаться.
– Сергей Юрьевич, – бросился Рясов к Вековому, – я больше там не могу торчать. Скучно! Да и что может случиться с этими плясунами, ноги они, что ли, потеряют… Что с вами, Сергей Юрьевич? С чего ради у вас на подбородке кровь?!
Глаза у Векового отрешенно сверкали, и, действительно, на подбородке запеклась полоска крови.
– Э, да это я губу прикусил. Пустяки!
Вековой торопливо обтер подбородок ладонью, оглянулся по сторонам и спросил Рясова:
– У вас найдется выпить?
– Найдется! – мгновенно воскликнул Иван Павлович и осекся: по коридору шли старшеклассники.
– Есть, конечно есть, – зашептал он. – Идёмте. В такой день и чтобы не было! С чего ради!
И он повёл Векового в мастерскую.
Из ящика для инструментов человек-универсал извлек бутылку коньяка и торжественно водрузил на верстак.
– Вот чем располагаем! Специально для праздника припас, еще не прикасался.
– У вас одна? – спросил Вековой.
– Что – одна?
– Ну, бутылка?
– А-а! С чего ради одна? – возмутился Рясов. – Есть и другая, но не темненькая, а беленькая, на крайний случай. Я хотел с коньяком двинуть к Аркадию Александровичу, да ладно уж, он болеет, а мы с вами, Сергей Юрьевич, отметим. Вы что, еще ни-ни? С чего ради? Новый год! Хоть я и не люблю этих танцев и не понимаю их разумности, но пусть люди веселятся. Вы не поверите, я никогда в жизни не танцевал. С чего ради? Лучше спортом заниматься, чем голову на пустяки растрачивать. Ну да это у них по молодости, куда от ее изгибов, денешься? Хуже, когда отвыкнуть от этих танцев не могут, всю жизнь танцуют. У меня сын тоже не любит танцы посещать, может поэтому семью не завел, а ему за тридцать перевалило, он у меня спокойный – исполнитель. Деньги копит, уезжать хочет. В мать весь, зараза… Ну, давайте, Сергей Юрьевич! У меня тут вот и кулечек припасен. С чего ради без закуски пить? Ну, за старый год!
Они выпили, потом еще, по настоянию Сергея Юрьевича, на которого с нескрываемым недоумением поглядывал Трудовоенчерпий: очень уж странными ему казались выражение лица и поведение молодого учителя.
– Вы знаете, с чего ради люди так буйно радуются Новому году? – устроившись на верстаке, говорил Иван Павлович. – Не потому же, что дожили до него? Потребность у людей в веселье, потому и надежда появляется – жить еще целый год будут, авось, в Новом году
порадоваться придется вдоволь. Год – эта ведь о-го-го! Это ведь как гора, на которую нужно влезть и с которой, быть может, придется скатиться. Точно так. И не ведаешь, скатишься ли, влезешь ли? Но есть такие, что и знать заранее могут, рассчитать все и случайности,
по возможности, учесть. У них Шансов больше – и смелостью они
обладают, и чувством. Вот таким вести бы нас, любую бы гору взяли, а старики бы при этом советом помогали, но желательно снизу, а не сверху. Конечно, понятие о горе у каждого разное. Я вот в своей жизни и в одиночку лазил, но больше скатывался, а все равно надеялся, что в Новом году счастье с радостью будут. А зря. Счастье-то искать и не нужно было…
– Как это?
– А очень просто! – обрадовался Иван Павлович вопросу. – Счастье внутри тебя, это понять нужно. Если бы в человеке не было заложено желание радоваться, он бы волком смотрел на все смешное. Волку смешное до лампочки, а человек не от привычки радуется, он от стремления радоваться совершенствуется, если, конечно, он человек в настоящем смысле… Ведь так?
– Интересно, интересно…
– Счастье – это когда делаешь, а сделал – и еще делать хочется, когда вспоминаешь, как радостно было делать. Даже если тебе худо, то ты сознаёшь, что счастлив, потому что испытал радость труда, увидел справедливость своего дела – вот тогда и есть у тебя свобода и счастье – это ты сам – достойный счастья внутри себя. А все эти поиски счастья – от праздности. В нашей литературе все извращения поисков счастья досконально показаны. И вот еще какое бывает – один человек многих счастливыми может сделать, если даст понимание счастья или огонь желания прометеевский…
Вековой не переставал удивляться: этот пожилой, тихий человек, казавшийся ему раньше ограниченным и обыкновенным, сегодня совершенно преобразился – был воодушевлен и уверен в себе.
В мастерской остро пахло свежими стружками, столярным клеем, и от этих них запахов уверенность и мир воцарялись в душе у Сергея Юрьевича, никуда не хотелось идти, неприятные происшествия забылись, и радовал молодой блеск глаз разошедшегося Ивана Павловича.
– Я счастье обрел поздно, когда силы молодые покинули тело, а мог бы раньше знать это чувство. Многое бы сделал, правда, огня прометеевского во мне мало от рождения было… Люблю я легенду о Прометее! Всегда помогает преодолевать, как это, черную кровь, снежные маски. Верно я сказал? Как же, читал, нашел время. Я все мечтаю к вам на урок попасть, да пока не получается – у вас урок и у меня. Вы их здорово, – это я про Савину и подпевал, – по затылку съездили своим экспериментом, как они называют. Без смеха они живут, а если и смеются, то зубы стиснув. – Рясов, передразнивая кого-то, зашипел, обнажив и стиснув зубы. – Дети их боятся. Чему они учат? Эх, да что мы о них! С чего ради? Ребята должны сами все познавать и учиться, им нужно осторожно помогать в этом, а не подгонять их под взрослых. Взрослые куда хуже детей, бывает, грязны так, что у них и учиться не стоит. А у нас как учат: вот учебник, и пересказывай материал из него, шаг влево, шаг вправо – анархия, трибунал, отвечай как положено! Сомневаться – ни-ни! Все хорошо, прекрасная маркиза! Отвращение к книгам и труду наши педагоги вырабатывают. Пришлют резолюцию – и ну под нее плясать. А в глаза этого резолютора и не видели, может быть он пройдоха, а?
Сергей Юрьевич от души улыбался.
– Точно так. Вот я – выпиваю, – Рясов понизил голос и виновато посмотрел на бутылку. – Привык я физически, не скрою, а узнай эти ведьмы – сживут, непременно сживут, как пить дать сживут! Вот и кончится мое счастье. Поздно мне новое искать. С чего ради жить буду? Приходится начеку быть, скрываться в строгой конспирации. Средство я одно знаю…
И он обстоятельно рассказал, как избавляется от запаха водки.
– А что, без нее совсем не можете? – спросил Вековой.
Не могу. Я ведь на войне пристрастился. Организм молодой, вот и привык за три года. Окопы, ветер, снег, страх, а спирту выпьешь – и не так тяжко. После войны многие без водки не могли. Спились многие, и я чуть было, но ничего, выкарабкался, научился потихоньку… Пробовал бросить – без толку, все равно что не спать, и вроде не алкоголик, не буяню, а выпить не то чтобы люблю, как средство для жизни принимаю. У меня даже сын не знает, что я… того… Прячусь. Война-то, видишь, куда корни пустила… этим я с ней и повязан.
Иван Павлович вздохнул и замолчал.
– Расскажите, – попросил Вековой.
– Грязь это, и вспоминать не люблю. Пацан я был. Семнадцать лет. Сначала страшно, невыносимо было. А потом ничего, привык, как положено. Но страх всю войну не покидал, чувства-то притупились, а душа все равно вздрагивала. У меня с войны запах остался – земля сырая, сапоги и картошка печеная, да ядреный пот примешивается или масло ружейное и порох сгоревший. Вся эта смесь и есть для меня война. Что там говорить, много хороших людей полегло. Аркадий Александрович считает, что войны вообще могло не быть. Видишь, как поворачивается… Не знаю… Про войну ребятам не рассказываю, слов гладких не нахожу. Желание тогда у многих было: все можно – хватай, бери, рви, пользуйся – война спишет. Трудно преодолеть это желание, ведь мысль всегда присутствовала: убьют не сегодня-завтра. А подвиги… подвиги – это грубое «надо». Наглость и жестокость всегда русского человека вынуждали подвигом расплатиться, до предела они довели, до предела разозлили. Возьмем город, выпьем – и плачу: и себя жаль, и мир, и детей, и человечество… Сколько жестокости» – и все ради чего – идей или вождей? Желают, видишь ли, счастья потомкам, а живых топчут; не понимаю я таких идей, не верю. И не могу я детям этого рассказать. Я им все больше о житье-бытье, случаи интересные разные. Журналов специально понавыписывал. Да и предмет свой не люблю, понимаешь, дело военным не бывает… Рассказывать о войне – и произносится-то глупо, легкомысленно. Ты думаешь, мне легко учить убивать? Убивать как можно больше, когда хотят убить тебя? По мне – не учить этому вообще. Пусть они убьют нас, а мы их – нет. Все равно толку в лишней крови не будет. Только это никому не докажешь.
Рясов замолчал, задумался, машинально погладил маленькое яблоко, положил его на верстак, взглянул на часы:
– Без пяти двенадцать! Давай, Сережа! И не спрашивай ты меня больше, такой войны уже не будет.
А Вековой всю эту ночь, как и я, не спал.
Хлопнув на прощанье дверью, он хотел пойти ко мне, но передумал, решив, что в таком ужаснейшем состоянии духа не сможет толком объяснить мне все происшедшее, потому что я в то время до конца не был посвящен в некоторые его суждения по поводу поиска назначения и еще не знал о существовании «теории», а темы эти, как мне потом стало ясно, были основной причиной, толкнувшей Наталью Аркадьевну на отчаянные поступки и высказывания, а если точнее выразиться, темы, от невероятности которых молодой и привыкший к детской определенности разум потерял контроль над воспаленными чувствами.
Сергей Юрьевич винил во всем случившемся себя и никого более. Действительно – разве это оправдание, что он несколько раз заходил к молодой образованной женщине, делился с ней философскими идеями, считая, что ее незатуманенное сознание может безболезненно воспринять дерзновения беспокойного ума, потому что во всем поселке не нашлось подходящего сверстника, который мог бы достойно слушать и достойно понимать?
Нет, Сергей Юрьевич и не думал ни о каком оправдании, он решил немедленно уехать, мысль безумная, потому что уехать зимой ночью не было никакой возможности, а теми праздники.
Вероятно, он ушел бы в город пешком, не столкнись на первом этаже с Иваном Павловичем Рясовым.
В новом мешковатом костюме, испускавшем благоухание жгучего тройного одеколона, Трудовоенчерпий стоял у окна и пребывал в
Наисквернейшем душевном состоянии.
Сегодня он поругался с женой, что случалось крайне редко и обычно перед праздниками, когда Иван Павлович наотрез отказывался идти в гости.
Лидия Викторовна – заведующая детским садом, любила заводить «солидные» знакомства, то есть имела убеждения резко противоположные убеждениям мужа.
В этот раз они должны были пойти к Зайцевым, но Иван Павлович, как и в день седьмого ноября, решительно взбунтовался; он терпеть не мог Зайцевых – директора рыбозавода Анатолия Петровича и его жену – домработницу Анну Сергеевну. Он говорил: «Директора приходят и уходят, как кета, а море остается, как совесть. Зайцев икру отмечет и гнить начнет» (в чем, кстати, оказался прав).
Долгие уговоры заканчивались классически – жена со слезами на глазах и обидой в душе сетовала на свою незадачливую судьбу, обзывала Трудовоенчерпия «придурковатым мичманюгой», и он, багровый от незаслуженного оскорбления, тяжело дыша и проклиная день женитьбы, облачался в свой праздничный костюм, обильно опрыскивался одеколоном и отправлялся ко мне на ночлег или в школьный подвал, в мастерскую, где уединялся до утра, ожесточенно орудуя плотницкими инструментами и собирая костюмом свежие стружки. Ссора с женой зажигала в нем желание поговорить, что он и делал, даже когда оставался в полном одиночестве.
Чего еще не любил Иван Павлович – так это обязательных дежурств на школьных вечерах, и старался под любым предлогом отказаться от них.
Но в этот вечер он, по просьбе Векового, долго стоял в зале, созерцал танцующих и следил за порядком, а теперь вышел покурить и отдышаться.
– Сергей Юрьевич, – бросился Рясов к Вековому, – я больше там не могу торчать. Скучно! Да и что может случиться с этими плясунами, ноги они, что ли, потеряют… Что с вами, Сергей Юрьевич? С чего ради у вас на подбородке кровь?!
Глаза у Векового отрешенно сверкали, и, действительно, на подбородке запеклась полоска крови.
– Э, да это я губу прикусил. Пустяки!
Вековой торопливо обтер подбородок ладонью, оглянулся по сторонам и спросил Рясова:
– У вас найдется выпить?
– Найдется! – мгновенно воскликнул Иван Павлович и осекся: по коридору шли старшеклассники.
– Есть, конечно есть, – зашептал он. – Идёмте. В такой день и чтобы не было! С чего ради!
И он повёл Векового в мастерскую.
Из ящика для инструментов человек-универсал извлек бутылку коньяка и торжественно водрузил на верстак.
– Вот чем располагаем! Специально для праздника припас, еще не прикасался.
– У вас одна? – спросил Вековой.
– Что – одна?
– Ну, бутылка?
– А-а! С чего ради одна? – возмутился Рясов. – Есть и другая, но не темненькая, а беленькая, на крайний случай. Я хотел с коньяком двинуть к Аркадию Александровичу, да ладно уж, он болеет, а мы с вами, Сергей Юрьевич, отметим. Вы что, еще ни-ни? С чего ради? Новый год! Хоть я и не люблю этих танцев и не понимаю их разумности, но пусть люди веселятся. Вы не поверите, я никогда в жизни не танцевал. С чего ради? Лучше спортом заниматься, чем голову на пустяки растрачивать. Ну да это у них по молодости, куда от ее изгибов, денешься? Хуже, когда отвыкнуть от этих танцев не могут, всю жизнь танцуют. У меня сын тоже не любит танцы посещать, может поэтому семью не завел, а ему за тридцать перевалило, он у меня спокойный – исполнитель. Деньги копит, уезжать хочет. В мать весь, зараза… Ну, давайте, Сергей Юрьевич! У меня тут вот и кулечек припасен. С чего ради без закуски пить? Ну, за старый год!
Они выпили, потом еще, по настоянию Сергея Юрьевича, на которого с нескрываемым недоумением поглядывал Трудовоенчерпий: очень уж странными ему казались выражение лица и поведение молодого учителя.
– Вы знаете, с чего ради люди так буйно радуются Новому году? – устроившись на верстаке, говорил Иван Павлович. – Не потому же, что дожили до него? Потребность у людей в веселье, потому и надежда появляется – жить еще целый год будут, авось, в Новом году
порадоваться придется вдоволь. Год – эта ведь о-го-го! Это ведь как гора, на которую нужно влезть и с которой, быть может, придется скатиться. Точно так. И не ведаешь, скатишься ли, влезешь ли? Но есть такие, что и знать заранее могут, рассчитать все и случайности,
по возможности, учесть. У них Шансов больше – и смелостью они
обладают, и чувством. Вот таким вести бы нас, любую бы гору взяли, а старики бы при этом советом помогали, но желательно снизу, а не сверху. Конечно, понятие о горе у каждого разное. Я вот в своей жизни и в одиночку лазил, но больше скатывался, а все равно надеялся, что в Новом году счастье с радостью будут. А зря. Счастье-то искать и не нужно было…
– Как это?
– А очень просто! – обрадовался Иван Павлович вопросу. – Счастье внутри тебя, это понять нужно. Если бы в человеке не было заложено желание радоваться, он бы волком смотрел на все смешное. Волку смешное до лампочки, а человек не от привычки радуется, он от стремления радоваться совершенствуется, если, конечно, он человек в настоящем смысле… Ведь так?
– Интересно, интересно…
– Счастье – это когда делаешь, а сделал – и еще делать хочется, когда вспоминаешь, как радостно было делать. Даже если тебе худо, то ты сознаёшь, что счастлив, потому что испытал радость труда, увидел справедливость своего дела – вот тогда и есть у тебя свобода и счастье – это ты сам – достойный счастья внутри себя. А все эти поиски счастья – от праздности. В нашей литературе все извращения поисков счастья досконально показаны. И вот еще какое бывает – один человек многих счастливыми может сделать, если даст понимание счастья или огонь желания прометеевский…
Вековой не переставал удивляться: этот пожилой, тихий человек, казавшийся ему раньше ограниченным и обыкновенным, сегодня совершенно преобразился – был воодушевлен и уверен в себе.
В мастерской остро пахло свежими стружками, столярным клеем, и от этих них запахов уверенность и мир воцарялись в душе у Сергея Юрьевича, никуда не хотелось идти, неприятные происшествия забылись, и радовал молодой блеск глаз разошедшегося Ивана Павловича.
– Я счастье обрел поздно, когда силы молодые покинули тело, а мог бы раньше знать это чувство. Многое бы сделал, правда, огня прометеевского во мне мало от рождения было… Люблю я легенду о Прометее! Всегда помогает преодолевать, как это, черную кровь, снежные маски. Верно я сказал? Как же, читал, нашел время. Я все мечтаю к вам на урок попасть, да пока не получается – у вас урок и у меня. Вы их здорово, – это я про Савину и подпевал, – по затылку съездили своим экспериментом, как они называют. Без смеха они живут, а если и смеются, то зубы стиснув. – Рясов, передразнивая кого-то, зашипел, обнажив и стиснув зубы. – Дети их боятся. Чему они учат? Эх, да что мы о них! С чего ради? Ребята должны сами все познавать и учиться, им нужно осторожно помогать в этом, а не подгонять их под взрослых. Взрослые куда хуже детей, бывает, грязны так, что у них и учиться не стоит. А у нас как учат: вот учебник, и пересказывай материал из него, шаг влево, шаг вправо – анархия, трибунал, отвечай как положено! Сомневаться – ни-ни! Все хорошо, прекрасная маркиза! Отвращение к книгам и труду наши педагоги вырабатывают. Пришлют резолюцию – и ну под нее плясать. А в глаза этого резолютора и не видели, может быть он пройдоха, а?
Сергей Юрьевич от души улыбался.
– Точно так. Вот я – выпиваю, – Рясов понизил голос и виновато посмотрел на бутылку. – Привык я физически, не скрою, а узнай эти ведьмы – сживут, непременно сживут, как пить дать сживут! Вот и кончится мое счастье. Поздно мне новое искать. С чего ради жить буду? Приходится начеку быть, скрываться в строгой конспирации. Средство я одно знаю…
И он обстоятельно рассказал, как избавляется от запаха водки.
– А что, без нее совсем не можете? – спросил Вековой.
Не могу. Я ведь на войне пристрастился. Организм молодой, вот и привык за три года. Окопы, ветер, снег, страх, а спирту выпьешь – и не так тяжко. После войны многие без водки не могли. Спились многие, и я чуть было, но ничего, выкарабкался, научился потихоньку… Пробовал бросить – без толку, все равно что не спать, и вроде не алкоголик, не буяню, а выпить не то чтобы люблю, как средство для жизни принимаю. У меня даже сын не знает, что я… того… Прячусь. Война-то, видишь, куда корни пустила… этим я с ней и повязан.
Иван Павлович вздохнул и замолчал.
– Расскажите, – попросил Вековой.
– Грязь это, и вспоминать не люблю. Пацан я был. Семнадцать лет. Сначала страшно, невыносимо было. А потом ничего, привык, как положено. Но страх всю войну не покидал, чувства-то притупились, а душа все равно вздрагивала. У меня с войны запах остался – земля сырая, сапоги и картошка печеная, да ядреный пот примешивается или масло ружейное и порох сгоревший. Вся эта смесь и есть для меня война. Что там говорить, много хороших людей полегло. Аркадий Александрович считает, что войны вообще могло не быть. Видишь, как поворачивается… Не знаю… Про войну ребятам не рассказываю, слов гладких не нахожу. Желание тогда у многих было: все можно – хватай, бери, рви, пользуйся – война спишет. Трудно преодолеть это желание, ведь мысль всегда присутствовала: убьют не сегодня-завтра. А подвиги… подвиги – это грубое «надо». Наглость и жестокость всегда русского человека вынуждали подвигом расплатиться, до предела они довели, до предела разозлили. Возьмем город, выпьем – и плачу: и себя жаль, и мир, и детей, и человечество… Сколько жестокости» – и все ради чего – идей или вождей? Желают, видишь ли, счастья потомкам, а живых топчут; не понимаю я таких идей, не верю. И не могу я детям этого рассказать. Я им все больше о житье-бытье, случаи интересные разные. Журналов специально понавыписывал. Да и предмет свой не люблю, понимаешь, дело военным не бывает… Рассказывать о войне – и произносится-то глупо, легкомысленно. Ты думаешь, мне легко учить убивать? Убивать как можно больше, когда хотят убить тебя? По мне – не учить этому вообще. Пусть они убьют нас, а мы их – нет. Все равно толку в лишней крови не будет. Только это никому не докажешь.
Рясов замолчал, задумался, машинально погладил маленькое яблоко, положил его на верстак, взглянул на часы:
– Без пяти двенадцать! Давай, Сережа! И не спрашивай ты меня больше, такой войны уже не будет.