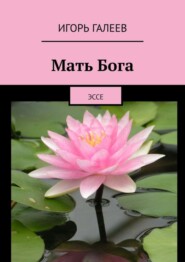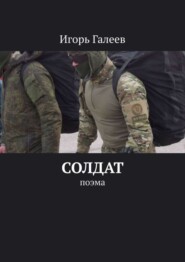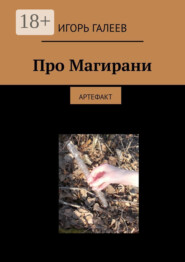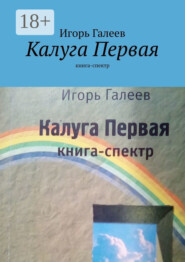По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Душегуб. Психоэма
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но ничего не поделаешь, оставалось надеяться на бдительность Савиной и заверения Сергей Юрьевича, что «все будет нормально». Он обещал заскочить к двенадцати часам, «сдвинуть бокалы за новые судьбы», и я на него полагался.
Приготовления к празднику шли по заранее определенному, годами отрепетированному плану.
Рясов со старшеклассниками приволокли из лесу огромную разлапистую елку и, порядком помучившись, установили ее посреди спортзала. По школе мигом разлетелись зеленые вез очки, и в каждом классе гулял праздничный хвойный аромат. Десятиклассники, ответственные за проведение вечера, украшали зал и елку; пионервожатая репетировала с Дедом Морозом и его свитой; детвора шмыгала в зал и обратно в предвкушении игр и подарков; вечерами в классах фантазировались костюмы, придумывались смешные номера; и к тридцать первому все было готово: вымыты полы, украшен зал, подобрана музыка, назначены ответственные за дежурство по этажам и закуткам, приготовлены подарки и выполнены прочие не менее важные для порядка и торжества мелочи. Поселок замер в ожидании.
Каждый вечер о новогодних приготовлениях мне обстоятельно рассказывал Вековой – вездесущий, не знающий покоя, веселый и озабоченный.
Звонила Валентина Марковна, советовалась, не забывая вскользь заметить, что Сергей Юрьевич допускает недопустимые вольности: готовит невероятный огненный фейерверк и может запросто спалить всю школу, и что ученики вытворяют невероятное и слушаются одного его и делают все, как он скажет.
Я справился у Векового, и оказалось, что фейерверк действительно будет, но безобидный, а за безопасность затеи поручилась сама Наталья Аркадьевна, которая и предложила великолепный состав смеси, а на крайний случай приготовлены два новых огнетушителя и к ним прикреплены проинструктированные надежные ребята. Разумные доводы меня вполне успокоили.
И вот, наконец, наступил последний день старого года; с этого момента я буду передавать события со слов Векового, потому что, как вы понимаете, я не был непосредственным участником злополучного вечера.
Тридцать первого декабря Сергей Юрьевич из школы не уходил; пообедав в интернатской столовой, он поднялся на второй этаж и до вечера что-то писал в кабинете литературы. Около восьми он появился в зале, куда быстро стекался пестрый школьный люд; старшеклассники держались напряженно и напыщенно; поселковая молодежь – недавние выпускники – сгруппировалась в дальнем углу, поближе к магнитофону и усилителям; выделялись учителя, нарядно одетые, они по-хозяйски осматривали зал, поспешно отвечали на частые поздравления; пришли и родители, вскоре замелькали маскарадные маски; появились ряженые – первый признак праздничной раскованности и непринужденности; но еще какое-то время общество продолжало делиться на небольшие кучки, обособленно толпилось у спасительных стен и вело нарочито оживленные беседы; молодые франтоватые личности сновали из классов в зал, им ласково и настороженно улыбались учителя. Зазвучала тихая музыка. Зал немного оживился. В общем, все как обычно.
И как всегда, выбрав момент, ослепительная Ксения Львовна (ответственная за культурно-воспитательную работу) плавно выплыла к елке. Великолепно поставленным голосом она предложила пригласить Деда Мороза. Робко позвали, потом осмелели, подбодренные призывами и энергичными жестами Ксении Львовны, и Дед Мороз появился, стуча по полу огромной палкой, театральным басом приветствуя собравшихся. Несмотря на тушь, толстый слой губной помады и бороду, публика тотчас узнала самоуверенную Викторию Львовну Фтык, в чем нет ничего удивительного – Виктория Львовна, как это прекрасно знал поселок, малость шепелявила.
Побасив и поюморив, наш бессменный внештатный Дед Мороз взмахом руки зажег елку. Свет погас, засверкали гирлянды огней. Все суетливо оживились, начались игры, завертелись хороводы, послышался смех, и вскоре грянули долгожданные танцы.
Вековой поселился наравне со всеми, его тормошили ученики, кружили хохочущие маски, радовали веселые лица и осуждающие взгляды савинцев.
Но в праздничной суете он не забывал о данном мне обещании, периодически покидал зал, оббегал темные коридоры, проверял дежурство, заглядывал в классы.
В один из таких обходов, прогнав из раздевалки куривших парней и возвращаясь в зал, он вспомнил, что Наталья Аркадьевна, когда они танцевали, просила зайти учительскую, чтобы сообщить нечто «очень важное»; он еще, посмотрев в ее печальные, как ему показалось, глаза, понимающе шепнул: «Ох, уже эти новогодние тайны».
В учительской его действительно поджидала Наталья Аркадьевна, она стояла возле темного окна в белом с короткими рукавами платье, и в полумраке комнаты, среди огромных столов, шкафов и стеллажей с журналами и книгами, казалась совсем крошечной, воздушной и хрупкой.
Сергей Юрьевич весело и нарочито громко окликнул её, она резко обернулась, и моментально, на долю секунды задержав взгляд на ее лице, он понял, что Наталья Аркадьевна «не в себе».
Ожидая, что она заговорит первой, он направился к креслу, стоящем в дальнем, самом темном углу, сел, и, стараясь не смотреть на неё, лихорадочно соображал, что же может сейчас произойти.
Она следила за ним и молчала.
– Что-то случилось? – осторожно спросил он и робко поднял голову.
– Да, случилось! – громко, с вызовом воскликнула Наталья Аркадьевна.
– Что же? – пробормотал он, отводя взгляд в сторону.
Не сходя с места, оставаясь у окна, Наталья Аркадьевна холодно и зло прошептала:
– Вы знаете и спрашиваете! Хорошо, я скажу! Вы сводите меня с ума. Вы лишили меня устойчивости. Вы эгоистично влюбили меня в себя и развлекаетесь этим. Когда мы с вами сейчас танцевали, я прочла в ваших глазах презрение к моим чувствам. Вы равнодушно издеваетесь надо мной. Зачем вы приходили ко мне и говорили о смерти, назначении, поиске, о вашей безумной теории? Вам нужен собеседник? Вам Аркадия Александровича, вашего постоянного слушателя, было мало? И как вы могли испытывать на мне свою силу? Вы прекрасно знаете, что вас нельзя не любить, если и ненавидишь! Да что вам до этого! Вы видели, что переворачиваете мое сознание. Вы!.. Знайте! Я убью себя, если не буду видеть вас! Я не смогу жить без вашей силы! Почему вы не смотрите на меня? Вы что – трус? Вы – трус?!
Она истерично захохотала, но тут же резко оборвала смех и, торопливо подбежав к креслу, неумело ударила его по щеке маленькой влажной ладонью.
Сергей Юрьевич вскочил, схватил обезумевшую Наталью Аркадьевну за руку, с отчаяньем выкрикнул:
– Вы сами довели себя, а не я вас!
Он хотел еще что-то добавить, но передумал, отпустил дрожащую руку Грай, круто повернулся и направился к дверям. И вовремя, потому что в этот момент в учительскую явилась бесшумная Валентина Марковна.
– Сергей Юрьевич, а когда же начнется фейерверк? – задержала она его, с любопытством рассматривая раскрасневшееся лицо Натальи Аркадьевны.
Ровно в пятнадцать минут двенадцатого, Валентина Марковна, в финале вечера, – не скрывая раздражения, бросил Вековой.
Через полчаса, находясь под впечатлением разговора, отметив, что Наталья Аркадьевна не появлялась в зале, и, опасаясь за ее душевное состояние, Сергей Юрьевич отправился ее разыскивать.
Он заглянул в учительскую, прошел в конец второго этажа и открыл дверь с табличкой «кабинет химии».
Класс пустой и темный, но из щелей небольшой двери, ведущей в лаборантскую, пробивалась узенькая полоска света. Сергей Юрьевич громко постучал, не дождавшись ответа, – вошел.
У окна, за стеллажами и шкафами, набитыми реактивами, химической посудой и приборами, стоял письменный стол, за которым, сложив руки на груди, равнодушно и отрешенно уставившись на Векового, сидела Наталья Аркадьевна.
– А, это ты! Я знала, что придешь. Ну надо же было в такой глухомани встретить эдакого демона! Ха-ха-ха! Нет, впрочем, ты не демон, куда там! Ты – демонёнок, маленький, крошечный, провинциальный печерёнок…
На столе возле стопки учебников в центре праздничного великолепия мандарин, яблок и конфет грубо торжествовала колба и граненый стакан.
Пьете! Я так и знал, – закивал Вековой и растерянно опустился на стул..
– Ты все знал, все!.. Ты все заранее знаешь и делаешь разумно, на будущее, – пьяно пробормотала Наталья Аркадьевна. – Я никогда водку не пила… нет, раз с девчонками, плевалась потом – гадость, а сейчас ничего, ничего… Дура! Влюбилась за три месяца! Потенции, говорит, во мне скрыты, в каждом человеке гениальность и бессмертие, сбрось оболочку, полиняй и переродишься… А он отворачивается, ему наплевать на любовь. Не то я создание… Да, а что? Может быть, я и еще раз водку пила, тогда… с этим, но тебе об этом – все! запрет! Ты чистый. Я, может быть, разные там… примитивное одолевает. А тут вдруг влюбилась и противна себе, ха-ха!.. Сережа, миленький Сереженька! Я о тебе думала, когда ты вечером уходил. Мечтала… Ты знал? Знал! В подушку уткнусь и представляю, как ты идешь по улице, как приходишь домой, включаешь свет и никого нет, и читаешь, а потом ложишься в холодную постель и лежишь с открытыми глазами – единственными, умными… Думаю, вот придет в следующий раз, я возьму и поцелую, за все, за счастье поцелую! На
цыпочки встану и очищусь… И хорошо так думать, и люблю. А приходишь, я слушаю и ненавижу, осмелиться не могу, и мечтать о поцелуе не могу! Ненавижу эти говорящие губы! – ударила она кулачком по столу. – Тебя никто не поймет! Никто! Пойми, ты никому не нужен, они плюют на тебя! Думала – в Новый год буду с ним танцевать – он мне хоть что-то скажет. Я ему в любви, как сумасшедшая, признаюсь, а он приходит – и о бессмертии, о бессмертии… как будто меня нет, как будто без чувств. Специально, – широко раскрыв рот, протянула она «а» и «о».
Сергей Юрьевич молчал.
Было хорошо слышно, как в зале мутно гремит музыка, и как в такт ей с тающего на стекле льда, сбегая с подоконника на пол, раздражающе хлопаются тяжелые капли.
Произнося свою отчаянную сбивчивую речь, Наталья Аркадьевна не смотрела на Векового, он покорно ждал, когда она выговорится.
Вытянув обнажённую шею, высоко подняв подбородок, крепко зажмурив глаза, юродиво усмехаясь, она говорила все невнятнее и тише.
– Я жила, жила… Думала, встречу человека, умного, черноволосого, полюблю его, детей буду рожать и счастье будет… А тут этот… нельзя обрекать детей мучиться и жить, если сам не нашел смысла и назначения. И счастье-то я, оказывается, выдумывала мещанское… Новый год любила, запахи подарков и елки. В костюмчик, помню, зайчика наряжалась и хохотала. А сегодня не могу и жить не хочется, земля под ногами бьется, как в истерике, и все кружится, бешено кружится, и не за что ухватиться… Когда ты говоришь, то всё правда, а уходишь – жить страшно. Я эти журналы, помнишь, ты о них говорил в первый раз? – сожгла, пять дней жгла, а ты и не заметил! Я их с собой везла сюда. Да, боролась за свое счастье, да, инстинкты, и боролась с ними. Оказывается – ничтожной борьба была, да, да, – я вошь в сравнении с истинным человеком, я ничтожество, потому что думаю как все, и теперь мне жить с презрением к себе, как с прогнившей…
Тут Вековой не удержался:
– Разве я так говорил?
Она испуганно вздрогнула и невидяще взглянула в его сторону.
– А, ты здесь! – и вдруг заплакала. – Сереженька, миленький, ну как мне жить? Я всегда молчала, я не знала, что можно думать по-другому. Я знаю, ты меня не любишь, ты смерти моей хочешь… Чтобы я сбросила оболочку, но как, как?! Ты приехал, ты все перевернул, ты велик, Сереженька, ты очень велик… Мне нельзя теперь жить по-прежнему. Ты меня отвергаешь, так знай, я убью себя и ты будешь виноват. Ты!
Сергей Юрьевич подошел к столу, налил из колбы в стакан.
– Ну и развела ты, Наталья Аркадьевна! – сказал он, выпив, – тут воды в четыре раза больше спирта.
Наталья Аркадьевна молчала, безвольно опустив голову на грудь.
– Послушайте, Наташа, – коснулся ее плеча Сергей Юрьевич. – Ложитесь спать здесь, а? Я вам принесу свой полушубок, потом вон_ те шторы постелем, и ложитесь? Вы устали, отдохните, выспитесь, а» то нехорошо вам, а?