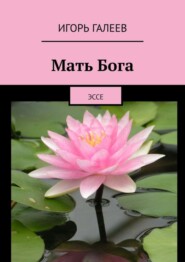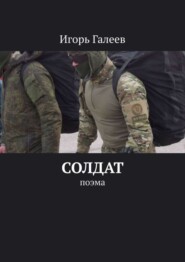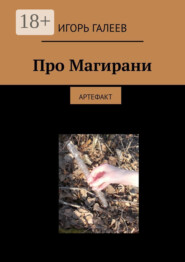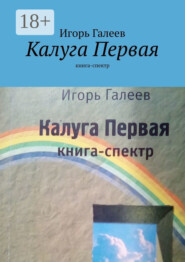По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Душегуб. Психоэма
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Тот урок был необычен еще и тем, что Вековой не называл дат рождения и смерти авторов, а, описывая историческую ситуацию или пересказывая сюжет произведения, говорил в настоящем времени, что особенно поражало, и, наверное, от этого, прошедшие или вымышленные события представлялись сегодняшними, воскрешаемыми сопереживанием. Никто не заметил, как прошло время.
Прозвенел звонок, и я поймал себя на мысли, что сожалею о скором возвращении к надоевшей действительности. Сергей Юрьевич, не давая домашнего задания, вышел из класса.
Ребята, словно по команде, повернулись ко мне…
Я не проверял планы уроков, предоставив заниматься этим делом неугомонной Савиной, но нужен был предлог, чтобы высказать свое мнение, и в учительской я попросил у Векового план.
В плане стоял Маяковский. О Маяковском он говорил, но больше о революции, о разных идейных течениях, о футуристах, прочел несколько стихотворений.
Я осторожно спросил:
Вы думаете, на уроках целесообразно затрагивать проблему смерти? Сознание ребят не окрепло, а эта проблема требует большого нервного напряжения.
Вы сказали «проблема», а разве есть такая? Есть тема, которая, так или иначе, входит в программу. Например: тема смерти в творчестве Лермонтова, Блока, да и того же Маяковского, возьмите его смерть. Так что все по уставу. Говорить о любви и храбрости, делая вид, что нет никакой смерти? Смерть – итог жизни человеческой, важно задумываться о ней с детства. Потом будет поздно…
– Что поздно? – перебил я.
Поздно приобретать нравственность! – недовольно, но сдержанно бросил он и попросил разрешения идти.
Я отпустил его.
«Приобретать нравственность, думая о смерти, или выработав отношение к смерти? Так он хотел сказать?» – размышлял я некоторое время после его ухода.
Я понимал, что он попросту отмахнулся от меня, не захотел говорить откровенно. Предупредили меня в гороно – на старом месте Вековой не ужился с директором.
Были у него, значит, основания опасаться прямых разговоров и со мной.
2. На «ты»
Поселился Сергей Юрьевич в четырехквартирном доме. До школы метров двести. Из окон виден залив.
Большая кухня с печкой, занимающей весь угол возле окна, и маленькая комната с письменным столом, старым комодом да парой стульев – вот и все, что у него было. Спал Сергей Юрьевич на раскладушке, каждое утро складывал постельное белье в комод, собирал раскладушку и прятал за занавеску (что-то наподобие ширмы). Книг у него, можно сказать, совсем не было, если не считать два тома Лермонтова да несколько известных романов.
Любил он порыться в старых журналах, которые мне достались от прежнего директора. Своих книг у меня мало, в основном по истории, я ему как-то предложил одну, он прочел, возвратил и сказал, что не понравилась, но взял другую, тоже по истории.
Читал без разбора, все подряд, говорил, что привык к книгам с детства, но так и не сумел выработать систему в чтении. Я потом понял, что системы в чтении у него и быть не могло, он досконально знал всю русскую литературу, помнил те имена писателей и их произведения, которые и при жизни ничего не значили, а для нас теперь и вовсе пустой звук.
Он мог беседовать о литературе часами, вдохновенно, радостно, забывая обо всем другом.
Хотя и читал многих современных писателей, редко одобрял прочитанное, а явную халтуру высмеивал до того зло, что, слушая его критику, я вздрагивал от хлестких определений – саркастичный, дьявольский тон.
Он считал, что человека воспитывает слово, говорил:
«Человеку необходимо дать вовремя нужную книгу, а вот нет нужной, есть только та, в которой пошлая ложь да казенщина. Литература девятнадцатого века не поможет современному человеку полноценно осознать себя в мире, потому что она лишь начало великого поиска Истины. Нужна новая литература – созидательная», а, как утверждал он, есть лишь десяток вполне осознанно созданных произведений.
Я давно мечтал пообщаться с человеком, по-настоящему знающим литературу. Историку литературное образование необходимо. Женщины в литературоведении мало смыслят; если они и знают множество произведений, течений и направлений, то крайне редко поднимаются выше красивого пересказа подлинника и материала, изложенного в учебниках, выглядят в такие моменты неуверенно: охают, ахают, запинаются и путаются иногда до такой степени, что долгое время не могут выйти замуж. Классический пример – второй преподаватель русского языка и литературы в младших классах. Нет смысла называть ее имени, так как эта женщина хоть и примыкала к союзу Савиной, но не имела ни желания, ни возможности возражать или противоречить методам своего коллеги, – она просто-напросто знала наизусть все учебники – и то, если они лежали перед ней открытыми. Жила она безалаберно и нерасчетливо, ее много раз жестоко обманывали мужчины – единственная тема, которую она обсуждала на валентиномарковских сходках. В дальнейшем о ней – молчание.
Поначалу отношение с Сергеем Юрьевичем у меня не ладились.
Но после педсовета мы поняли, что нужны друг другу; может быть, нас сблизило тогда одиночество, а может, общие враги…
Так получилось, что почти все наши педагоги бойкотировали Векового, а я похвалил его.
К педсовету все побывали на его уроках и затаились, а наша завуч Валентина Марковна Савина прибежала ко мне в кабинет на большой перемене, тотчас после своего наикомпетентнейшего визита. Я что-то писал, извинился и предложил ей сесть, а когда кончил с бумагами, посмотрел на нее и навсегда запомнил картину истинного возмущения.
Тяжело дыша, уставившись на меня светло-голубыми навыкате глазами, Валентина Марковна, с трудом сдерживая гневное волнение, сурово заговорила:
– Вы хорошо знаете, Аркадий Александрович, я работаю в школе двадцать пять лет и давно уже вправе определять, где закладывается необходимая основа нравственного воспитания человека. Она закладывается здесь, в школе! И именно старые, верные, опытные кадры ответственны чутко и бдительно относиться ко всем авантюрным новаторствам и экспериментам. Иначе недалеко и до полнейшего растления молодого поколения. Да, да! Вы бы слышали, что он сейчас говорил детям о Наталье Ростовой! – Валентина Марковна строго ухмыльнулась. – Что? Да у нее, по его мнению, сексуальное влечение к князю Курагину, и поэтому она хотела уехать с ним от Болконского! Кстати, услышал из класса смешок и заявил, мол, зря смеетесь, в школах давно пора вводить половое воспитание. Так и выразился Мол, на уроках биологии в первую очередь.
– Мне кажется, он прав насчет полового…
– Кому? Им?! Да о чем вы говорите, Аркадий Александрович! Что этот юноша может понимать в половом вопросе?! Он извратит детей! Извратит и уедет, а нам потом – расхлебывай! Мы не пойдем наповоду у Запада! А что за манера рассказывать в вопросительной форме? Одни вопросы! У детей создается впечатление, что учитель ничего не знает, а кто как не учитель им может объяснить, доказать, направить!
– Не знаю, Валентина Марковна, что это за метод, но мне кажется, он продуктивен.
– В каком это смысле?
– Вот вы теперь сами задумались, почему же Наталья Ростова пыталась уйти к Курагину.
– Для меня это всегда было решено и ясно! Она просто начиталась романов!
– Я так не думаю.
Эту фразу я, вероятно, произнес насмешливо, и Валентина Марковна, холодно взглянув на меня, стремительно встала.
– Я поговорю с ним о ваших замечаниях, – утешал я ее, сглаживая насмешку. – Мы не должны резко критиковать молодых специалистов – недолго остаться вообще без преподавателей. Понимаете? Вы ведь знаете, что у Векового были какие-то неприятности в школе, где он прежде работал. Там он пробыл два года, а у нас, может быть, и того меньше.
Мои рассуждения возвратили Валентину Марковну в ее обычное состояние надменной суровости; она решила, что я защищаю Векового из соображений административного порядка, и на какое-то время ее негодующее волнение улеглось.
Конечно, так оно отчасти и было, я имел основания опасаться, что Вековой может погорячиться, плюнуть и уехать, и попробуйте тогда добиться хоть какой-то успеваемости, если, как, например, в прошлом году, на всю школу один математик, а химика полгода вообще не было. Но не только поэтому я решил похвалить Сергея Юрьевича. Уже тогда я понимал, что предстоит борьба, что за этого человека стоять буду горой и не отдам его на мелочные терзания нашим классным дамам. Понимал, но пока не признавался себе в этом.
Общественное мнение о Вековом сформировалось в кратчайшие сроки.
Основная группа, куда входили Виктория и Ксения Львовны, Анна Самуиловна Буряк и еще одна пятидесятидвухлетняя математичка – безопасное, но ехиднейшее существо – и патронесса Савина, была настроена агрессивно.
На педсовете меня молча и холодно выслушали, никто из савинцев не пожелал выступать. Слово взял нейтральный Степан Алексеевич Буряк:
– Неожиданно, неожиданно, Сергей Юрьевич! Я бы сказал, ошеломляюще действует на серое вещество, да и на нервную систему ваша эрудиция. А психологический эффект! Современно, вполне современно. Однако жаль, что вы растрачиваете свои способности на таких олухов, – и он засмеялся, оглянувшись на свою жену.
Анна Самуиловна зло хмыкнула – в последние слова физик вложил особый, только им двоим понятный утонченный семейный смысл.
Больше никто не выступал, но Вековой прекрасно, разглядел истинные чувства по презрительным ухмылкам савинцев, снисходительно провнимавших моим одобрительным пожеланиям.
Из школы мы шли вдвоем.
Дул холодный ветер. Листьев на деревьях почти не было.
– Вы специально хвалили меня перед ними, – ответил Сергей Юрьевич на мой вопрос, какого он мнения о коллективе. – Думаете, что я сбегу? Я отбегался. Вы знаете, после школы я поступил в институт физкультуры, год проучился, ушел, потом армия, потом университет, где была относительная свобода, где я и нашел то, что искал – себя. Мне не университетское образование помогло, мне помогли книги, чужие мысли… А год назад умерла моя мама, вот… Прислали меня к вам, дав, по-видимому, время для реабилитации, исправительный срок, мягко говоря. Так что бежать мне пока некуда, и вы можете крыть меня, как думаете. Я не подарочек, впрочем, вы, мне кажется, это понимаете.