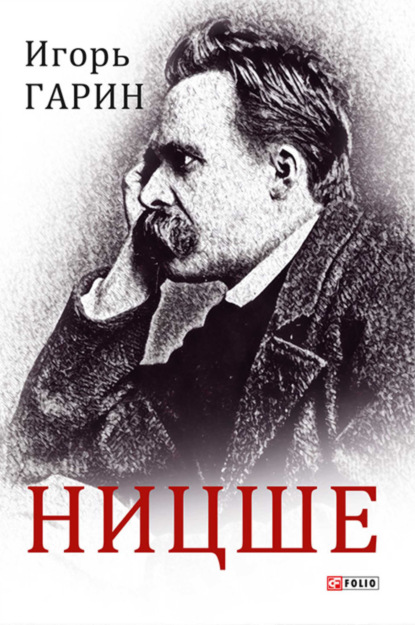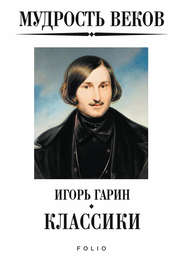По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Ницше
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
2019
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Прощайте! Прощайте!..
Ницше возвращается в отчий дом. По настоянию матери, желавшей видеть сына пошедшим по стопам отца, Фридрих записывается на теологический факультет университета в Бонне. Вместе с другом по Пфорте Паулем Дёйссеном и кузеном последнего верхом на лошадях трое молодых людей совершают поездку по Рейну и Пфальцу. Позже Пауль Дёйссен расскажет о ней как о сказочном времени безудержной радости и юношеского озорства.
«Я приехал в Бонн, – писал Ницше, – с горделивым предчувствием богатого неисчерпаемыми событиями будущего». Возвышенные представления о германских ликеях, видимо, не оправдались. В ферейнах, в один из которых пришлось вступить молодому человеку, царил раблезианский дух вседозволенности телемской обители, увлекший было «новичка»: бесконечные студенческие пирушки в прибрежных трактирах, вольготная жизнь вагантов, с песнями, шатаниями, дуэлями…
Сохранилась легенда о «посвящении» Ницше в рыцари: дабы воспитать в себе добродетели бойца и предстать перед друзьями героем, он решил драться на дуэли. Не найдя настоящего противника, Фридрих выбрал самого безобидного студента и сказал ему: «Я – новичок и я хочу драться! Вы мне симпатичны, хотите драться со мной?» – «Охотно!» – ответил однокашник. Тогда-то Ницше и получил удар рапирой.
Он быстро пришел в себя от «пошлости и низости обыденной жизни» – студенческой вольницы. Видимо, в Бонне ему впервые пришел в голову проект создания утопической «общины» духовных единомышленников, к которому он будет много раз возвращаться на протяжении жизни, неизменно имея результатом фиаско. Фридрих изложил собратьям по ферейну идею создания «апостольского братства» – духовного союза, близкого к монашескому ордену по нравам и к «буре и натиску» по духовной плодотворности. Естественно, предложение не имело успеха: новому апостолу, грубо говоря, заткнули рот и – не в первый и, увы, далеко не в последний раз в жизни – он сполна испил горькую чашу отверженного.
Фиаско поджидало Фридриха и с другой стороны: он осознал, что теология – не для него. При всей склонности юноши к мистицизму честность и совестливость подсказывали ему, что пасторство лишь стеснит бушующую в нем стихию, принудит его лгать. О том же, в сущности, сказал ему и профессор Фридрих Ричль, разглядевший в студенте дар, далекий от теологических изысканий: «Если вы хотите быть сильным человеком, правильно выбирайте специальность».
Духовные искания Ницше в Боннском университете характеризуют письма 1865 года:
Мною часто овладевает полное отчаяние, но в душе моей постоянно живет стремление к вечной цели, поиск новых путей, которые приведут к истинному, прекрасному, доброму. Чем же все это кончится? Возвратимся ли мы к старым идеям о Боге и искуплении мира? Или для беззаветно ищущего решительно безразличен результат его исканий? К чему мы стремимся? К покою? К счастью? Нет, мы стремимся к истине, как бы ужасна и отвратительна она ни была.
Я был еще слишком сдержан и замкнут для того, чтобы не растеряться среди стольких обрушившихся на меня влияний; у меня не было еще достаточно силы для того, чтобы совладать с требовательно подступавшими жизненными обстоятельствами. С грустью в душе приходилось сознаваться самому себе, что я еще ничего не сделал для науки, ничего не сделал для жизни, что в прошлом моем были лишь ошибки и заблуждения.
С нового семестра Ницше решает не возвращаться в Бонн и переехать в Лейпциг к профессору Ричлю. Отдавая себе отчет в несовместимости склада ума с узкой специализацией, он все-таки избирает филологию как науку, дисциплинирующую ум и позволяющую вернуть самоутверждающее начало.
Чем обязан Ницше учителю – своей «судьбе», как выразился он однажды? Прежде всего – поддержкой, которой ему прежде так не хватало. Конечно же, не филология стала причиной крутого поворота в судьбе юноши, но – чувство прочного основания, которое дал ему Ф. Ричль. Нонконформизму юности всегда недостает уверенности в себе. Тут-то и необходимы наставники, подобные Ричлю. Позже учитель испугается смелости своего ученика, но, возможно, именно он – признанием одаренности ученика – позволил Фридриху раскрепоститься, полностью раскрыть свою самость, стать собой.
Ричль не стал схолархом для своего ученика – философской премудрости тот набирался у Шопенгауэра, Ланге, античных авторов, то есть из книг. Он принадлежал к натурам, которые делают себя сами и для которых живой наставник необходим больше как поддержка, чем как учитель.
Настроения 22-летнего студиозуса, напитавшегося идеями Шопенгауэра, передают заметки весны 1866 года:
Три вещи в мире способны успокоить меня, но это редкие утешения: мой Шопенгауэр, Шуман и одинокие прогулки.
Далее следует описание чувств, пережитых во время одной из таких прогулок:
Я чувствовал себя несказанно хорошо, душа была полна силы и отваги, и я ясно ощутил, что понять глубину природы можно лишь ища у нее спасения от забот и дел! Что мне в такую минуту человек с его трепещущей волей. Как я далек от вечного «ты должен», «ты не должен». Молния, гроза и град точно из другого мира, свободные стихии, чуждые морали! Как они счастливы, как они свободны! Робкий разум не смеет смущать их свободную волю.
Большую часть лета 1866 года Ницше проводит в университетской библиотеке, перебирая византийские манускрипты. Нельзя сказать, что он безучастен к событиям, происходящим в это время в Германии (Бисмарк, Мольтке, битва при Садовой), но он уже прошел школу Шопенгауэра и знает, что политика и история – только призрачная игра, практические цели мало его интересуют, ему даже страшно подумать об участи человека, занимающегося «насущными, практическими целями».
История есть не что иное, как бесконечное сражение бесчисленных и разнообразных интересов, столкнувшихся на своем пути в борьбе за существование. Великие «идеи», которые, по мнению большинства, являются двигателями этой борьбы, суть не более как отражения света, скользящего по взволнованной поверхности моря. Она не оказывает на само море никакого воздействия, но волны могут приобрести в этом свете своеобразную красоту и даже способны обмануть наблюдателя своим блеском.
После окончания Пфорты друзья Фридриха разъехались по разным городам: Дёйссен учился в Тюбингене, Герсдорф в Берлине. Друзья поддерживали переписку, но встречались редко. Поэтому большой радостью для Фридриха стало знакомство с Эрвином Роде, вскоре ставшим его другом. Ницше отличала склонность идеализировать близких ему людей, нередко подводившая его, но в данном случае он не ошибся: в Эрвине он действительно нашел родственную душу. Роде страстно любил музыку, говорил на пяти языках, владел большинством немецких диалектов, а главное, оказался прекрасным товарищем.
Летние каникулы 1867 года друзья провели в Вогезах, ведя жизнь бродячих судей мира – философов. «Первый раз в жизни я испытываю радость дружбы», – признавался Фридрих в письме близким. Путешествуя пешком по Богемскому лесу, друзья вели бесконечные разговоры о Шопенгауэре, Бетховене, древних греках. В Мейнингене, накануне расставания, два меломана случайно оказались на концерте Ф. Листа, дирижировавшего симфонической поэмой Ганса Бюлова «Нирвана», созвучной максимам Шопенгауэра. На следующий день Фридрих вернулся в Наумбург.
Осенью 1867-го многие студенты Лейпцигского университета оказались не в аудиториях, а в казарме. По причине близорукости Ницше был освобожден от воинской повинности, но армия нуждалась в инсургентах, и его зачислили канониром в артиллерийский полк, квартировавший в Наумбурге.
Выходец Пфорты не испытал тягот солдатчины, тем более что длилась она недолго: во время кавалерийских занятий он получил травму, потерял сознание и попал в госпиталь с разрывом грудных мышц. Мучительное лечение продолжалось около полугода. Его признали негодным к службе в армии, и после короткой побывки в Наумбурге Фридрих возвратился в университет.
В Лейпциге его ждали приятные неожиданности. Профессора и студенты устроили «раненому» теплый прием, из Берлина пришел заказ из солидного журнала на статью. Кроме того, ему, выпускнику, предложили работу музыкального критика. Но самым большим событием его жизни стало знакомство с некогда опальным, а ныне входящим в моду композитором, поэтом, публицистом, философом, революционером Рихардом Вагнером.
Нам еще надлежит познакомиться с перипетиями отношений двух немецких гениев, сказавшимися на жизни и творчестве Фридриха Ницше, но необходимо сразу предупредить, что они не были пастельными в молодости и исключительно темными в зрелости, как это нередко представляется биографами Ницше.
Он не сразу пришел к Вагнеру, предпочитая ему старых мастеров, и даже после «Падения Вагнера» не стал его непримиримым врагом.
Хотя инициатива в этих отношениях всегда принадлежала Ницше, движущая сила большей частью определялась Вагнером, так и не уразумевшим масштабность своего младшего друга.
Ницше и Вагнер встретились в момент, когда первый находился на пороге творческой деятельности, а второй – славы. Одному было 24 года, другому 55 лет. Одной разницы в возрасте было достаточно, чтобы определить их отношения – учителя и ученика, никак не отвечающие мощи духовного мира второго. Фактически отношения и складывались как постепенное освобождение рвущегося к свободе молодого человека от давящего авторитета мэтра немецкой музыки и немецкой мысли.
В ноябре 1868-го Рихард Вагнер гостил в Лейпциге у своей сестры, госпожи Брокгауз, подругой которой была жена профессора Ф. Ричля. На одном из семейных вечеров Вагнер сел за рояль и заиграл попурри из «Мейстерзингеров». Фрау Ричль, послушав отрывки из оперы в исполнении автора, рассказала, что уже слушала дивную музыку в исполнении музыкально одаренного студента своего мужа – Фридриха Ницше, игравшего ее вдохновенно и с огромной экспрессией. Вагнер был заинтригован и выразил желание встретиться со своим поклонником.
На самом деле Ницше увлекся Вагнером совсем недавно – и именно «Мейстерзингерами». Его совершенно потрясла увертюра к опере, заставившая пережить новые, ранее неведомые ему чувства. Когда вскоре после этого события Ницше получил неожиданное приглашение на встречу с автором, он испытал состояние, описанное им самим в письме к Э. Роде:
Мне хотелось бы дать тебе хоть какое-то представление о том совершенно особенном состоянии, которое я пережил в течение этого вечера, о живой радости этой встречи. Я все еще не могу прийти в состояние равновесия и, милый друг, не могу сделать ничего лучшего, чем рассказать тебе пережитое в форме волшебной сказки. До и после обеда Вагнер играл нам лучшие места из «Мейстерзингеров» и сам исполнял все партии; ты, конечно, можешь себе представить, что ему многого не хватало. Это человек баснословно живой и стремительный; говорит он чрезвычайно быстро, речь его блещет умом, и он легко воодушевлял наше интимное общество. Я имел с ним продолжительный разговор о Шопенгауэре. Ты понимаешь, с какой радостью я услышал от него восторженный отзыв и признание в том, сколь многим он обязан Шопенгауэру, единственному из всех философов понимавшему сущность музыки. Затем он пожелал узнать, как относятся к Шопенгауэру современные философы. Он очень смеялся над философскими конгрессами в Праге и упомянул о философском «лакействе». Потом он прочел отрывок из только что написанных мемуаров, сценку из его студенческой жизни в Лейпциге, написанную с необычайным юмором, о которой до сих пор не могу вспомнить без смеха. У Вагнера удивительно гибкий и тонкий ум.
Что привлекло в Вагнере молодого Ницше? Я полагаю, не ореол славы, не олимпийство, но вагнеровский модернизм, вагнеровский дух обновления культуры, вагнеровская независимость. Знакомство с Вагнером, чтение его эстетических произведений – «Искусства и революции», «Оперы и драмы» – вновь пробудили сомнение молодого филолога в правильности избранного пути. Он давно ощущал в себе способность не только глубоко переживать звуки музыки, но слышать голос бытия, его влекло к высшей мудрости существования, а полученное образование приковывало его к ушедшим культурам, ветхим рукописям, праху цивилизаций. Трудно сказать, как сложилась бы судьба молодого филолога, если бы не случай…
Однажды профессор Ричль обескуражил любимого студента вопросом, не желает ли он, его выпускник, получить кафедру филологии Базельского университета? Ницше, еще сам не кончивший курса наук, не имевший научной степени, опубликовавший лишь две статьи в «Рейнском музее», был ошеломлен таким предложением. Как выяснилось, он недооценивал себя. Его статьи обратили на себя внимание, и профессор А. Кисслинг, покидавший Базель, написал своему другу и наставнику письмо с просьбой дать рекомендацию Фридриху Ницше как возможному его преемнику. Ф. Ричль, давно поверивший в необыкновенные способности своего любимца, ответил, что за 40 лет профессорства не встречал более зрелого и глубокого человека, которому суждено стать звездой немецкой филологической науки. Он даже назвал его гениальным. В рекомендательном письме Ричля читаем:
Среди стольких молодых дарований, развившихся на моих глазах в течение 39 лет, я не знал никого, кто в столь раннем возрасте обладал бы такой зрелостью, как этот Ницше. Если ему суждено долго прожить – дай ему Бог этого! – я предсказываю, что однажды он займет ведущее место в немецкой филологии. Сейчас ему 24 года: он крепок, энергичен, здоров, силен телом и духом… Здесь, в Лейпциге, он стал идолом всего молодого филологического мира. Вы скажете, я описываю Вам феномен; что ж, он и есть феномен, и притом нисколько не в ущерб своей любезности и скромности.
Судя по всему, молодой Ницше умел производить впечатление, он очаровал не одного Ричля. Рихард Вагнер, гонимый и самый знаменитый немец второй половины XIX века, «едва ли не с первой встречи расслышал в своем 25-летнем друге героические лейтмотивы еще ненаписанного “Зигфрида”»:
Глубокоуважаемый друг!.. Дайте же поглядеть на Вас. До сих пор немецкие земляки доставляли мне не так уж много приятных мгновений. Спасите мою пошатнувшуюся веру в то, что я, вместе с Гёте и некоторыми другими, называю немецкой свободой.
Ницше не подвел ни Ричля, ни Вагнера: занял ведущее место не только в немецкой филологии и стал образцом не только немецкой свободы.
Профессор Ричль действительно верил в славную будущность Фридриха, тревожась только необузданностью и размахом его интересов. Не метайтесь, сдерживайте себя! – таково было напутствие учителя ученику.
Конечно же, сам соискатель кафедры и должности экстраординарного профессора был польщен лестным, редким, если не единственным по тем временам, предложением. Его влекла свобода, самостоятельность, а также возможность ближе познакомиться с Вагнером, жившем с 1866 года в Швейцарии.
Ницше получил диплом без экзаменов. Он подготовил диссертацию о Диогене Лаэртском, однако лейпцигские профессора посчитали неэтичным устраивать экзамен базельскому коллеге – совет факультета пришел к единодушному решению засчитать опубликованные статьи и присвоить выпускнику степень доктора honoris causa.
Перед отъездом в Швейцарию молодой профессор гостил у матери в Наумбурге. Семья была в восторге от его успехов: «такой молодой – и уже профессор университета!» Ницше предстояло решить вопрос о подданстве. В связи с переездом в другую страну он перестал быть гражданином Пруссии, но швейцарского гражданства решил не добиваться. Он так и остался «гражданином мира». Видимо, это отвечало характеру его грядущей философии.
Ницше – Герсдорфу, 13 апреля 1869 года:
Вот и пришел последний день моего пребывания у домашнего очага. Завтра ухожу в широкий свет, начинаю новое для меня ремесло, вступаю в тяжкую атмосферу обязательств и долга. Пора сказать «прости» золотому времени, когда труд был свободен, каждая минута приятна, когда искусство и мир представлялись нам великолепным зрелищем, в котором мы были зрителями… Это время безвозвратно ушло, теперь наступило царство жестокого бога – повседневного труда.
В автобиографии, представленной в Базельский университет, Ницше писал:
Мне всегда казалось достойным внимания, какими путями приходят именно к классической филологии; полагаю, что некоторые другие науки при их цветущей и удивительной оплодотворяющей силе имеют большее право на приток целеустремленных талантов, чем наша, хотя еще бодро шагающая, но все же там и сям обнаруживающая дряблые черты возраста филология. Я предвижу натуры, которых ставят на этот путь обыкновенные меркантильные интересы… Многими движет прирожденный талант преподавания, но и для них наука – лишь действенный инструмент, а не серьезная цель их жизненного пути, к которой увлеченно стремятся. Есть небольшая группа наслаждающихся эстетикой греческого мира, и еще меньшая, для которой мыслители древности пока до конца не продуманы. У меня нет никакого права причислять себя исключительно к какой-либо из этих групп: ведь путь, приведший меня к филологии, столь же далеко отстоит от практического благоразумия и низкого эгоизма, как и от того пути, по которому несет факел вдохновенная любовь к древности.
Принимая кафедру филологии, Ницше уже думал о философии. В том же письме к Герсдорфу от 13 апреля он признается, что философия Шопенгауэра укоренилась в нем и что свою цель он усматривает в том, чтобы наполнить филологию свежей кровью шопенгауэровской философии: «Я хотел бы быть чем-то большим, чем педагогом добродетельных ученых, я должен заботиться о грядущем поколении». «Если уж мы должны выносить нашу жизнь, то постараемся, по крайней мере, прожить ее так, чтобы после желанной смерти (шопенгауэровский мотив!) мы могли рассчитывать на уважение!»
По дороге из Наумбурга в Базель Ницше посетил Кёльн и Бонн, спустился по Рейну до Бибериха, затем железной дорогой добрался до Висбадена. Он посетил также Гейдельберг, целый день прогуливался по улицам центра германской культуры, затем сел в поезд до Базеля. В поезде он узнал, что в Карлсруэ дают «Мейстерзингеров». Он вышел в Карлсруэ, дабы еще раз насладиться Вагнером. На следующий день Ницше покинул Германию. 19 апреля 1868 года он сошел на вокзале Базеля. Начался новый этап жизни – в качестве базельского профессора.
Охотник до загадок
Кто подвергается нападкам со стороны своего времени, тот еще недостаточно опередил его – или отстал от него.
Ф. Ницше
Трудно придумать большую несовместимость, нежели словосочетание «профессор Ницше». Человек, рожденный для «переоценки всех ценностей», воплощение ищущего духа и свободомыслия, окунувшись в рутинную жизнь лектора, скоро ощутил себя прикованным к галере. Ежедневные лекции в университете и гимназии «Педагогиум», где он читал греческий, вызывали у него приступы депрессии, отвращения к филологии и к науке вообще. Свидетельство тому – набросок, сделанный в первый год профессорства:
Ницше возвращается в отчий дом. По настоянию матери, желавшей видеть сына пошедшим по стопам отца, Фридрих записывается на теологический факультет университета в Бонне. Вместе с другом по Пфорте Паулем Дёйссеном и кузеном последнего верхом на лошадях трое молодых людей совершают поездку по Рейну и Пфальцу. Позже Пауль Дёйссен расскажет о ней как о сказочном времени безудержной радости и юношеского озорства.
«Я приехал в Бонн, – писал Ницше, – с горделивым предчувствием богатого неисчерпаемыми событиями будущего». Возвышенные представления о германских ликеях, видимо, не оправдались. В ферейнах, в один из которых пришлось вступить молодому человеку, царил раблезианский дух вседозволенности телемской обители, увлекший было «новичка»: бесконечные студенческие пирушки в прибрежных трактирах, вольготная жизнь вагантов, с песнями, шатаниями, дуэлями…
Сохранилась легенда о «посвящении» Ницше в рыцари: дабы воспитать в себе добродетели бойца и предстать перед друзьями героем, он решил драться на дуэли. Не найдя настоящего противника, Фридрих выбрал самого безобидного студента и сказал ему: «Я – новичок и я хочу драться! Вы мне симпатичны, хотите драться со мной?» – «Охотно!» – ответил однокашник. Тогда-то Ницше и получил удар рапирой.
Он быстро пришел в себя от «пошлости и низости обыденной жизни» – студенческой вольницы. Видимо, в Бонне ему впервые пришел в голову проект создания утопической «общины» духовных единомышленников, к которому он будет много раз возвращаться на протяжении жизни, неизменно имея результатом фиаско. Фридрих изложил собратьям по ферейну идею создания «апостольского братства» – духовного союза, близкого к монашескому ордену по нравам и к «буре и натиску» по духовной плодотворности. Естественно, предложение не имело успеха: новому апостолу, грубо говоря, заткнули рот и – не в первый и, увы, далеко не в последний раз в жизни – он сполна испил горькую чашу отверженного.
Фиаско поджидало Фридриха и с другой стороны: он осознал, что теология – не для него. При всей склонности юноши к мистицизму честность и совестливость подсказывали ему, что пасторство лишь стеснит бушующую в нем стихию, принудит его лгать. О том же, в сущности, сказал ему и профессор Фридрих Ричль, разглядевший в студенте дар, далекий от теологических изысканий: «Если вы хотите быть сильным человеком, правильно выбирайте специальность».
Духовные искания Ницше в Боннском университете характеризуют письма 1865 года:
Мною часто овладевает полное отчаяние, но в душе моей постоянно живет стремление к вечной цели, поиск новых путей, которые приведут к истинному, прекрасному, доброму. Чем же все это кончится? Возвратимся ли мы к старым идеям о Боге и искуплении мира? Или для беззаветно ищущего решительно безразличен результат его исканий? К чему мы стремимся? К покою? К счастью? Нет, мы стремимся к истине, как бы ужасна и отвратительна она ни была.
Я был еще слишком сдержан и замкнут для того, чтобы не растеряться среди стольких обрушившихся на меня влияний; у меня не было еще достаточно силы для того, чтобы совладать с требовательно подступавшими жизненными обстоятельствами. С грустью в душе приходилось сознаваться самому себе, что я еще ничего не сделал для науки, ничего не сделал для жизни, что в прошлом моем были лишь ошибки и заблуждения.
С нового семестра Ницше решает не возвращаться в Бонн и переехать в Лейпциг к профессору Ричлю. Отдавая себе отчет в несовместимости склада ума с узкой специализацией, он все-таки избирает филологию как науку, дисциплинирующую ум и позволяющую вернуть самоутверждающее начало.
Чем обязан Ницше учителю – своей «судьбе», как выразился он однажды? Прежде всего – поддержкой, которой ему прежде так не хватало. Конечно же, не филология стала причиной крутого поворота в судьбе юноши, но – чувство прочного основания, которое дал ему Ф. Ричль. Нонконформизму юности всегда недостает уверенности в себе. Тут-то и необходимы наставники, подобные Ричлю. Позже учитель испугается смелости своего ученика, но, возможно, именно он – признанием одаренности ученика – позволил Фридриху раскрепоститься, полностью раскрыть свою самость, стать собой.
Ричль не стал схолархом для своего ученика – философской премудрости тот набирался у Шопенгауэра, Ланге, античных авторов, то есть из книг. Он принадлежал к натурам, которые делают себя сами и для которых живой наставник необходим больше как поддержка, чем как учитель.
Настроения 22-летнего студиозуса, напитавшегося идеями Шопенгауэра, передают заметки весны 1866 года:
Три вещи в мире способны успокоить меня, но это редкие утешения: мой Шопенгауэр, Шуман и одинокие прогулки.
Далее следует описание чувств, пережитых во время одной из таких прогулок:
Я чувствовал себя несказанно хорошо, душа была полна силы и отваги, и я ясно ощутил, что понять глубину природы можно лишь ища у нее спасения от забот и дел! Что мне в такую минуту человек с его трепещущей волей. Как я далек от вечного «ты должен», «ты не должен». Молния, гроза и град точно из другого мира, свободные стихии, чуждые морали! Как они счастливы, как они свободны! Робкий разум не смеет смущать их свободную волю.
Большую часть лета 1866 года Ницше проводит в университетской библиотеке, перебирая византийские манускрипты. Нельзя сказать, что он безучастен к событиям, происходящим в это время в Германии (Бисмарк, Мольтке, битва при Садовой), но он уже прошел школу Шопенгауэра и знает, что политика и история – только призрачная игра, практические цели мало его интересуют, ему даже страшно подумать об участи человека, занимающегося «насущными, практическими целями».
История есть не что иное, как бесконечное сражение бесчисленных и разнообразных интересов, столкнувшихся на своем пути в борьбе за существование. Великие «идеи», которые, по мнению большинства, являются двигателями этой борьбы, суть не более как отражения света, скользящего по взволнованной поверхности моря. Она не оказывает на само море никакого воздействия, но волны могут приобрести в этом свете своеобразную красоту и даже способны обмануть наблюдателя своим блеском.
После окончания Пфорты друзья Фридриха разъехались по разным городам: Дёйссен учился в Тюбингене, Герсдорф в Берлине. Друзья поддерживали переписку, но встречались редко. Поэтому большой радостью для Фридриха стало знакомство с Эрвином Роде, вскоре ставшим его другом. Ницше отличала склонность идеализировать близких ему людей, нередко подводившая его, но в данном случае он не ошибся: в Эрвине он действительно нашел родственную душу. Роде страстно любил музыку, говорил на пяти языках, владел большинством немецких диалектов, а главное, оказался прекрасным товарищем.
Летние каникулы 1867 года друзья провели в Вогезах, ведя жизнь бродячих судей мира – философов. «Первый раз в жизни я испытываю радость дружбы», – признавался Фридрих в письме близким. Путешествуя пешком по Богемскому лесу, друзья вели бесконечные разговоры о Шопенгауэре, Бетховене, древних греках. В Мейнингене, накануне расставания, два меломана случайно оказались на концерте Ф. Листа, дирижировавшего симфонической поэмой Ганса Бюлова «Нирвана», созвучной максимам Шопенгауэра. На следующий день Фридрих вернулся в Наумбург.
Осенью 1867-го многие студенты Лейпцигского университета оказались не в аудиториях, а в казарме. По причине близорукости Ницше был освобожден от воинской повинности, но армия нуждалась в инсургентах, и его зачислили канониром в артиллерийский полк, квартировавший в Наумбурге.
Выходец Пфорты не испытал тягот солдатчины, тем более что длилась она недолго: во время кавалерийских занятий он получил травму, потерял сознание и попал в госпиталь с разрывом грудных мышц. Мучительное лечение продолжалось около полугода. Его признали негодным к службе в армии, и после короткой побывки в Наумбурге Фридрих возвратился в университет.
В Лейпциге его ждали приятные неожиданности. Профессора и студенты устроили «раненому» теплый прием, из Берлина пришел заказ из солидного журнала на статью. Кроме того, ему, выпускнику, предложили работу музыкального критика. Но самым большим событием его жизни стало знакомство с некогда опальным, а ныне входящим в моду композитором, поэтом, публицистом, философом, революционером Рихардом Вагнером.
Нам еще надлежит познакомиться с перипетиями отношений двух немецких гениев, сказавшимися на жизни и творчестве Фридриха Ницше, но необходимо сразу предупредить, что они не были пастельными в молодости и исключительно темными в зрелости, как это нередко представляется биографами Ницше.
Он не сразу пришел к Вагнеру, предпочитая ему старых мастеров, и даже после «Падения Вагнера» не стал его непримиримым врагом.
Хотя инициатива в этих отношениях всегда принадлежала Ницше, движущая сила большей частью определялась Вагнером, так и не уразумевшим масштабность своего младшего друга.
Ницше и Вагнер встретились в момент, когда первый находился на пороге творческой деятельности, а второй – славы. Одному было 24 года, другому 55 лет. Одной разницы в возрасте было достаточно, чтобы определить их отношения – учителя и ученика, никак не отвечающие мощи духовного мира второго. Фактически отношения и складывались как постепенное освобождение рвущегося к свободе молодого человека от давящего авторитета мэтра немецкой музыки и немецкой мысли.
В ноябре 1868-го Рихард Вагнер гостил в Лейпциге у своей сестры, госпожи Брокгауз, подругой которой была жена профессора Ф. Ричля. На одном из семейных вечеров Вагнер сел за рояль и заиграл попурри из «Мейстерзингеров». Фрау Ричль, послушав отрывки из оперы в исполнении автора, рассказала, что уже слушала дивную музыку в исполнении музыкально одаренного студента своего мужа – Фридриха Ницше, игравшего ее вдохновенно и с огромной экспрессией. Вагнер был заинтригован и выразил желание встретиться со своим поклонником.
На самом деле Ницше увлекся Вагнером совсем недавно – и именно «Мейстерзингерами». Его совершенно потрясла увертюра к опере, заставившая пережить новые, ранее неведомые ему чувства. Когда вскоре после этого события Ницше получил неожиданное приглашение на встречу с автором, он испытал состояние, описанное им самим в письме к Э. Роде:
Мне хотелось бы дать тебе хоть какое-то представление о том совершенно особенном состоянии, которое я пережил в течение этого вечера, о живой радости этой встречи. Я все еще не могу прийти в состояние равновесия и, милый друг, не могу сделать ничего лучшего, чем рассказать тебе пережитое в форме волшебной сказки. До и после обеда Вагнер играл нам лучшие места из «Мейстерзингеров» и сам исполнял все партии; ты, конечно, можешь себе представить, что ему многого не хватало. Это человек баснословно живой и стремительный; говорит он чрезвычайно быстро, речь его блещет умом, и он легко воодушевлял наше интимное общество. Я имел с ним продолжительный разговор о Шопенгауэре. Ты понимаешь, с какой радостью я услышал от него восторженный отзыв и признание в том, сколь многим он обязан Шопенгауэру, единственному из всех философов понимавшему сущность музыки. Затем он пожелал узнать, как относятся к Шопенгауэру современные философы. Он очень смеялся над философскими конгрессами в Праге и упомянул о философском «лакействе». Потом он прочел отрывок из только что написанных мемуаров, сценку из его студенческой жизни в Лейпциге, написанную с необычайным юмором, о которой до сих пор не могу вспомнить без смеха. У Вагнера удивительно гибкий и тонкий ум.
Что привлекло в Вагнере молодого Ницше? Я полагаю, не ореол славы, не олимпийство, но вагнеровский модернизм, вагнеровский дух обновления культуры, вагнеровская независимость. Знакомство с Вагнером, чтение его эстетических произведений – «Искусства и революции», «Оперы и драмы» – вновь пробудили сомнение молодого филолога в правильности избранного пути. Он давно ощущал в себе способность не только глубоко переживать звуки музыки, но слышать голос бытия, его влекло к высшей мудрости существования, а полученное образование приковывало его к ушедшим культурам, ветхим рукописям, праху цивилизаций. Трудно сказать, как сложилась бы судьба молодого филолога, если бы не случай…
Однажды профессор Ричль обескуражил любимого студента вопросом, не желает ли он, его выпускник, получить кафедру филологии Базельского университета? Ницше, еще сам не кончивший курса наук, не имевший научной степени, опубликовавший лишь две статьи в «Рейнском музее», был ошеломлен таким предложением. Как выяснилось, он недооценивал себя. Его статьи обратили на себя внимание, и профессор А. Кисслинг, покидавший Базель, написал своему другу и наставнику письмо с просьбой дать рекомендацию Фридриху Ницше как возможному его преемнику. Ф. Ричль, давно поверивший в необыкновенные способности своего любимца, ответил, что за 40 лет профессорства не встречал более зрелого и глубокого человека, которому суждено стать звездой немецкой филологической науки. Он даже назвал его гениальным. В рекомендательном письме Ричля читаем:
Среди стольких молодых дарований, развившихся на моих глазах в течение 39 лет, я не знал никого, кто в столь раннем возрасте обладал бы такой зрелостью, как этот Ницше. Если ему суждено долго прожить – дай ему Бог этого! – я предсказываю, что однажды он займет ведущее место в немецкой филологии. Сейчас ему 24 года: он крепок, энергичен, здоров, силен телом и духом… Здесь, в Лейпциге, он стал идолом всего молодого филологического мира. Вы скажете, я описываю Вам феномен; что ж, он и есть феномен, и притом нисколько не в ущерб своей любезности и скромности.
Судя по всему, молодой Ницше умел производить впечатление, он очаровал не одного Ричля. Рихард Вагнер, гонимый и самый знаменитый немец второй половины XIX века, «едва ли не с первой встречи расслышал в своем 25-летнем друге героические лейтмотивы еще ненаписанного “Зигфрида”»:
Глубокоуважаемый друг!.. Дайте же поглядеть на Вас. До сих пор немецкие земляки доставляли мне не так уж много приятных мгновений. Спасите мою пошатнувшуюся веру в то, что я, вместе с Гёте и некоторыми другими, называю немецкой свободой.
Ницше не подвел ни Ричля, ни Вагнера: занял ведущее место не только в немецкой филологии и стал образцом не только немецкой свободы.
Профессор Ричль действительно верил в славную будущность Фридриха, тревожась только необузданностью и размахом его интересов. Не метайтесь, сдерживайте себя! – таково было напутствие учителя ученику.
Конечно же, сам соискатель кафедры и должности экстраординарного профессора был польщен лестным, редким, если не единственным по тем временам, предложением. Его влекла свобода, самостоятельность, а также возможность ближе познакомиться с Вагнером, жившем с 1866 года в Швейцарии.
Ницше получил диплом без экзаменов. Он подготовил диссертацию о Диогене Лаэртском, однако лейпцигские профессора посчитали неэтичным устраивать экзамен базельскому коллеге – совет факультета пришел к единодушному решению засчитать опубликованные статьи и присвоить выпускнику степень доктора honoris causa.
Перед отъездом в Швейцарию молодой профессор гостил у матери в Наумбурге. Семья была в восторге от его успехов: «такой молодой – и уже профессор университета!» Ницше предстояло решить вопрос о подданстве. В связи с переездом в другую страну он перестал быть гражданином Пруссии, но швейцарского гражданства решил не добиваться. Он так и остался «гражданином мира». Видимо, это отвечало характеру его грядущей философии.
Ницше – Герсдорфу, 13 апреля 1869 года:
Вот и пришел последний день моего пребывания у домашнего очага. Завтра ухожу в широкий свет, начинаю новое для меня ремесло, вступаю в тяжкую атмосферу обязательств и долга. Пора сказать «прости» золотому времени, когда труд был свободен, каждая минута приятна, когда искусство и мир представлялись нам великолепным зрелищем, в котором мы были зрителями… Это время безвозвратно ушло, теперь наступило царство жестокого бога – повседневного труда.
В автобиографии, представленной в Базельский университет, Ницше писал:
Мне всегда казалось достойным внимания, какими путями приходят именно к классической филологии; полагаю, что некоторые другие науки при их цветущей и удивительной оплодотворяющей силе имеют большее право на приток целеустремленных талантов, чем наша, хотя еще бодро шагающая, но все же там и сям обнаруживающая дряблые черты возраста филология. Я предвижу натуры, которых ставят на этот путь обыкновенные меркантильные интересы… Многими движет прирожденный талант преподавания, но и для них наука – лишь действенный инструмент, а не серьезная цель их жизненного пути, к которой увлеченно стремятся. Есть небольшая группа наслаждающихся эстетикой греческого мира, и еще меньшая, для которой мыслители древности пока до конца не продуманы. У меня нет никакого права причислять себя исключительно к какой-либо из этих групп: ведь путь, приведший меня к филологии, столь же далеко отстоит от практического благоразумия и низкого эгоизма, как и от того пути, по которому несет факел вдохновенная любовь к древности.
Принимая кафедру филологии, Ницше уже думал о философии. В том же письме к Герсдорфу от 13 апреля он признается, что философия Шопенгауэра укоренилась в нем и что свою цель он усматривает в том, чтобы наполнить филологию свежей кровью шопенгауэровской философии: «Я хотел бы быть чем-то большим, чем педагогом добродетельных ученых, я должен заботиться о грядущем поколении». «Если уж мы должны выносить нашу жизнь, то постараемся, по крайней мере, прожить ее так, чтобы после желанной смерти (шопенгауэровский мотив!) мы могли рассчитывать на уважение!»
По дороге из Наумбурга в Базель Ницше посетил Кёльн и Бонн, спустился по Рейну до Бибериха, затем железной дорогой добрался до Висбадена. Он посетил также Гейдельберг, целый день прогуливался по улицам центра германской культуры, затем сел в поезд до Базеля. В поезде он узнал, что в Карлсруэ дают «Мейстерзингеров». Он вышел в Карлсруэ, дабы еще раз насладиться Вагнером. На следующий день Ницше покинул Германию. 19 апреля 1868 года он сошел на вокзале Базеля. Начался новый этап жизни – в качестве базельского профессора.
Охотник до загадок
Кто подвергается нападкам со стороны своего времени, тот еще недостаточно опередил его – или отстал от него.
Ф. Ницше
Трудно придумать большую несовместимость, нежели словосочетание «профессор Ницше». Человек, рожденный для «переоценки всех ценностей», воплощение ищущего духа и свободомыслия, окунувшись в рутинную жизнь лектора, скоро ощутил себя прикованным к галере. Ежедневные лекции в университете и гимназии «Педагогиум», где он читал греческий, вызывали у него приступы депрессии, отвращения к филологии и к науке вообще. Свидетельство тому – набросок, сделанный в первый год профессорства: