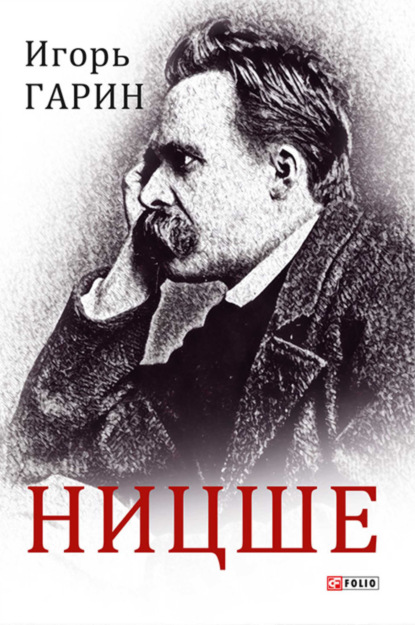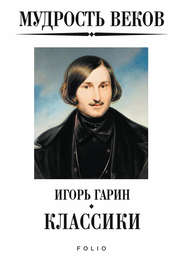По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Ницше
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
2019
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ваш Базель – это какой-то «будуар», откуда позволяют себе оскорблять немецкую культуру.
Какое громадное несчастье для тебя [Овербека], что ты встретил этого Ницше, этого помешанного, навязывающего нам свои «несвоевременные размышления» в то время, как он сам пропитан до мозга костей самым ужасным из всех пороков – манией величия.
Следует признать, что даже ближайшие друзья Ницше – Овербек, Роде, Герсдорф, – пытавшиеся сгладить тягостное состояние подавленного неудачами Ницше, не осознавали ни мощи его таланта, ни степени его отчаяния. Овербек грустно констатировал: «Чувство одиночества, переживаемое нашим дорогим другом, мучительно возрастает с каждым днем. Непрерывно подрубать ту ветку, на которой сам сидишь, опасно – рано или поздно это приведет к печальным результатам».
При всем трагизме отношений с матерью и сестрой, Ницше относился к самым близким людям со всей неизрасходованной нежностью трепетной души. Человеку, знавшему в жизни так мало тепла, хотелось находить его под крышей дома в Наумбурге. Его постоянно тянуло в родительский дом, где он мог вновь почувствовать себя ребенком даже тогда, когда в нежных и ласковых письмах к матери называл себя «твоим старым созданием».
Д. Алеви:
…Мать и сестра внушали ему [Ницше] сложное, не поддающееся анализу чувство. Он любил их, потому что это были его родные и потому что был нежен, верен и бесконечно чувствителен к воспоминаниям детства, но вместе с тем каждая его мысль, каждое его желание отдаляли его от них, и ум его презирал их.
Новый 1874 год Фридрих Ницше встречал в Наумбурге. Ему требовалось восстановить силы, оправиться от болезни. Он любил праздничный отдых в кругу близких и в юности привык под сочельник подводить итоги или составлять планы на будущее. Пока итоги были плачевны. Он вступал в год своего тридцатилетия отверженным, униженным, непризнанным. Последние годы жизни он посвятил служению своему старшему другу, но что им обоим дала эта дружба? Он все чаще задумывается над тем, что за человек этот Вагнер, что значит его искусство, не является ли оно великолепным, но больным цветком самого антихудожественного из времен?
Спросим себя по существу, в чем состоит ценность того времени, которое считает искусство Вагнера своим. Время это глубоко анархично, оно задыхается в погоне за благополучием, нечестиво, завистливо, бесформенно, беспочвенно. Оно легко впадает в отчаяние, лишено наивности, до мозга костей рассудочно, чуждо благородства, склонно к подлости и насилию. Искусство наскоро, кое-как соединяет в себе всё, что способно привлечь взоры в наших современных немецких душах: человеческие характеры, всевозможные знания – все собирается в одну кучу. Поистине чудовищно пытаться утвердиться и завоевать чьи-либо симпатии в такое антихудожественное время. Это все равно, что давать яд против яда.
Ницше гнетет, с одной стороны, общественная глухота, окружающая его собственные творения, а с другой – все более восторженное отношение публики к Вагнеру, идущему ей «на потребу». Это не зависть отверженного к прославленному, это – горькое чувство несправедливости, которое довелось в большей или меньшей мере испытать всем гениям, далеко опередившим свое время, осознавших свое лидерство и пережившим изгойство. Однажды, в минуту уныния и тоски, он изливает переполняющие его чувства другу-олимпийцу и какое же получает утешение? Вагнер называет его ипохондриком и советует обрести женское общество, лучше – жениться. Пантагрюэль дает советы Панургу…
Страдания, вызванные холодным приемом его произведений, усиливались лямкой, которую приходилось тянуть базельскому профессору. Чтение лекций становилось все более тягостным, преподавание он называл не иначе, как «проклятая университетская работа», мечтая об уединении в месте, где можно «дожить оставшуюся жизнь и писать хорошие книги».
Удары поджидают Ницше и там, где он их совсем не ожидает. Он всегда высоко ценил дружбу, верил друзьям, но вся его жизнь была чередой предательств. Именно так он воспринял известие о пострижении Ромундта, долго скрывавшего от друзей свою глубокую религиозность. Подобным образом Ницше встретил известие о намерении Вагнера написать христианскую мистерию – «Парсифаля». Внутри самого Ницше уже шла огромная духовная работа по «переоценке ценностей», а его близкие друзья по-прежнему отдавали предпочтение Лютеру и святому Граалю. Больше всего Ницше сокрушало отступничество именно тех людей, на которых он возлагал надежды как на единомышленников, с которыми делился опасными идеями. Может быть, именно собственной суровой безоглядностью он спровоцировал их? Может быть, именно на нем лежит ответственность за постыдное пострижение Ромундта в монахи?
Ницше хотел вернуть к жизни, переубедить своего друга, но споры оказались бесполезными. Ромундт твердо стоял на своем. В назначенный срок он уехал. Вот как Ницше описал Герсдорфу его отъезд:
«Было невыносимо тяжело… В самый последний момент меня охватил настоящий ужас… я слег в постель и тридцать часов подряд мучился сильнейшей головной болью и приступами тошноты».
Потрясение действительно оказалось сильным, послужив началом длительного кризиса. Ницше был вынужден вновь уехать из Базеля в горы. «Пришли мне слова утешения, – писал он в эти дни Э. Роде, – может быть, твоя дружба поможет мне пережить постигший меня удар». Не правда ли, так пишут, когда лишаются любимого человека?..
Сестра Ницше, проведшая весь март в Байрёйте у Вагнера, ужаснулась при виде своего брата. Казалось, что тень Ромундта преследовала его повсюду. «Жить все время под одной крышей, быть такими друзьями и прийти к такой развязке! Это ужасно!» – повторял он непрестанно.
У Ницше были и другие поводы для переживаний. Шел июль 1875 года, приближалось время, назначенное для репетиции тетралогии Вагнера, все друзья были всецело поглощены приготовлениями к байрёйтским торжествам, а Ницше именно в это время уже носил в себе бомбу – готовящийся втайне выпад против учителя. В эти дни он писал, что для него наступило время молчания, но молчать он тоже не мог, еще сильнее раскачивая ладью собственного «я» на волнах беспокойного океана бушующего духа.
Я много поносил моих современников, а между тем я сам принадлежу к их числу; я страдаю вместе и одинаково с ними ради чрезмерности и беспорядочности моих желаний. Если мне суждено быть мучителем этого поколения, то сначала я должен побороть самого себя и подавить в себе всякое сомнение; для того, чтобы победить свои инстинкты, я должен знать их и уметь их судить, я должен приучить себя к самоанализу. Я критиковал науку и восхвалял вдохновение, но я не анализировал, не исследовал источников этого вдохновения – над какою же пропастью я ходил! Меня извиняет моя молодость; я нуждался в опьянении; теперь молодость моя прошла. Роде, Герсдорф, Овербек в Байрёйте; я им завидую и вместе с тем жалею их, так как они уже вышли из того возраста, когда витают в мечтах, и не должны были бы находиться там. Чем именно я теперь займусь? Я буду изучать естественные науки, математику, физику, химию, историю и политическую экономию. Я соберу громадный материал для изучения человека, буду читать старинные исторические книги, романы, воспоминания и эпистолярии… Работа предстоит трудная, но я буду не один, со мною постоянно будут Платон, Аристотель, Гёте, Шопенгауэр; благодаря моим любимым гениям я не почувствую ни тяжести труда, ни остроты одиночества.
Постановка тетралогии Вагнера была назначена на лето 1876 года. Дурные предчувствия мучили Ницше уже с начала этого года: «Я совершенно измучился от тоскливого неумолимого предчувствия, что после моего разочарования [Вагнером] мое недоверие к себе возрастет еще сильнее, чем раньше, что я еще глубже буду презирать себя, что я буду обречен на еще более жестокое одиночество». Ницше давно осознал, что его здоровье тесно связано с настроением, настроение же неумолимо портилось от давно носимой в душе обиды на Вагнера за высокомерие, нежелание признать его равным, предоставить право иметь собственный голос.
Ницше слег в конце 1875-го и проболел до марта, так до конца и не оправившись.
Ницше – Герсдорфу:
Я пишу с трудом и потому буду краток. Я никогда еще не переживал такого грустного, такого тяжелого Рождества, никогда не переживал такого страшного предчувствия. Я теперь более не сомневаюсь, что болезнь моя имеет чисто мозговое происхождение; глаза и желудок страдают от другой, посторонней причины. Мой отец умер тридцати шести лет от воспаления мозга. Весьма возможно, что у меня процесс пойдет еще быстрее. Я терпелив, но будущее мое полно всяких неожиданностей.
Д. Алеви:
С приближением весны Ницше пожелал уехать из Базеля. Герсдорф предложил составить компанию, и друзья поселились вместе на берегу Женевского озера в Шильоне. Ницше прожил там пятнадцать дней, и все это время дурное настроение его не покидало. Нервы его не выносили малейшего изменения температуры, малейшей сырости и присутствия электричества в воздухе. В особенности же он страдал от f?hne, мягкого мартовского ветра, от дуновения которого начинают таять альпийские снега. Мягкая сырость действовала на него самым угнетающим образом; нервы его не выдержали, и он признался Герсдорфу в своей душераздирающей тоске и сомнениях. Герсдорф должен был возвращаться в Германию, ему пришлось покинуть друга в большой тревоге за его здоровье.
Впрочем, Ницше еще не утратил реабилитационной способности. Оставшись в одиночестве, он прочитал двухтомник Мальвиды фон Мейзенбуг «Воспоминания идеалистки». Он был глубоко привязан к этой пожилой женщине, как к собственной матери, с которой делился многими сокровенными мыслями. У нее было большое сердце, и для Ницше она стала воплощением идеального женского типа.
Чтение «Воспоминаний идеалистки» как бы воскрешает Ницше; мадам Мейзенбуг примиряет его с жизнью; к нему возвращается спокойствие духа и даже физическое здоровье.
В 1876 году Ницше пишет последнее из «Несвоевременных размышлений» – «Вагнер в Байрёйте». Самое поразительное в этом полном энтузиазма панегирике то, что он создается в момент, когда полностью развеяны все иллюзии Ницше в отношении старшего друга. Проницательный читатель чуть ли не на каждой странице этого эссе обнаружит скрытое неодобрение, преподанное в форме гимна. Ницше воздает хвалу художнику, не упоминая о нем как о философе. Нет ни слова о воспитательном значении его произведений. Сам дух панегирика радикально отличается от мыслей, высказанных в «Рождении трагедии» и все еще разделяемых Ницше, что придает работе скрыто иронический характер:
Для нас Байрёйт – это освящение храма во время битвы. Таинственный голос трагедии звучит для нас не как расслабляющее и обессиливающее нас очарование, она налагает на нас печать покоя (?). Высшая красота открывается нам не в самый момент битвы, но мы сливаемся с нею в момент спокойствия (?), предшествующий битве и прерывающий ее; в эти мимолетные мгновения, когда, оживляя в своей памяти прошлое, мы как бы заглядываем в тайну будущего, мы проникаемся глубиною всех символов, и ощущение какой-то легкой усталости, освежающие и ободряющие грезы нисходят на нас. Завтра нас ждет борьба, священные тени исчезают, и мы снова бесконечно отдаляемся от искусства; но, как осадок утренней росы, в душе человека остается утешительное сознание о пережитом истинном слиянии с искусством.
В книге есть и более открытое выражение изменившегося чувства: «Вагнер – не пророк будущего, как это можно было бы думать, но истолкователь и певец прошлого». Ясно, что Ницше уже не мог скрыть тех глубинных процессов внутреннего прозрения, которые происходили в нем все последние годы, но еще был не в силах громогласно заявить о разрыве, о расхождении путей. Но Вагнер не умел читать между строк и по-прежнему видел в Ницше только оруженосца. Его реакция на работу ускользающего из-под гипнотического влияния друга выражена в кратком письме:
Друг мой, какую чудесную книгу Вы написали. Когда Вы успели так хорошо узнать меня? [Надо полагать, глубоко трагический подтекст этого вопроса не осознавался автором письма.] Приезжайте скорее и оставайтесь с нами все время, начиная от репетиций до начала представлений.
Ваш Р. В. 12 июля.
Согласно признанию самого Ницше, в момент написания «Вагнера в Байрёйте» он уже полностью разуверился в его искусстве и идеях (для проницательного читателя это ясно и без комментария). Зачем же, вопрошает Л. Шестов, Ницше потребовалось писать «гимн» уже свергнутому кумиру? Ницше объяснил это тем, что, прощаясь со своим учителем, он хотел выразить ему признательность за все прошлое.
Внешне панегирический характер «Вагнера в Байрёйте» Лев Шестов объяснил тем, что Ницше все еще продолжал ощущать на себе гипнотический взгляд учителя и не находил в себе сил бороться с его влиянием:
Ницше был гордым человеком. Он не хотел выставлять напоказ свои раны, он хотел скрыть их от посторонних взоров. Для этого пришлось, конечно, притворяться и лгать, для этого пришлось писать горячие хвалебные статьи в честь Шопенгауара и Вагнера, которых в душе он уже почти ненавидел, ибо считал их главными виновниками своего страшного несчастья.
Несчастьем этим была несвобода, зависимость, лишение самостоятельности. Резкость поворота Ницше в отношении к своим учителям, собственно, объясняется длительным накоплением потенциала отречения и последовавшим разрядом.
Не покорности, как того требовала философия Шопенгауэра, но переоценки жаждала душа гиперборейца! Ницше нашел в себе силы отречься и от романтических увлечений молодости, и от пессимизма, и от последствий собственного оранжерейного воспитания, и от авторитетов, и от своей филистерски-профессорской среды. Эволюция Ницше была процессом такого рода отречений, все большим отходом от традиционного мышления к нонконформизму.
В поздних своих книгах Ницше интерпретировал «Вагнера в Байрёйте» как предчувствие «Заратустры»: можно, писал он, во всем тексте заменить слово «Вагнер» словом «Заратустра», не боясь искажения.
Весь образ дифирамбического художника есть образ поэта-предшественника «Заратустры», нарисованный с величайшей глубиной, не затрагивая ни на минуту вагнеровской реальности. У самого Вагнера было об этом понятие; он не признал себя в моем сочинении. – Точно так же «Идея Байрёйта» превратилась в нечто, что не будет загадочным понятием для знатоков моего «Заратустры»: в тот великий полдень, когда самые избранные посвящают себя величайшей из всех задач – кто знает? призрак праздника, который я еще переживу… Пафос первых страниц есть всемирно-исторический пафос: взгляд, о котором идет речь на седьмой странице, есть истинный взгляд «Заратустры»; Вагнер, Байрёйт, все маленькие немецкие жалкие вещи суть облако, в котором отражается бесконечная фата-моргана будущего.
Какое громадное несчастье для тебя [Овербека], что ты встретил этого Ницше, этого помешанного, навязывающего нам свои «несвоевременные размышления» в то время, как он сам пропитан до мозга костей самым ужасным из всех пороков – манией величия.
Следует признать, что даже ближайшие друзья Ницше – Овербек, Роде, Герсдорф, – пытавшиеся сгладить тягостное состояние подавленного неудачами Ницше, не осознавали ни мощи его таланта, ни степени его отчаяния. Овербек грустно констатировал: «Чувство одиночества, переживаемое нашим дорогим другом, мучительно возрастает с каждым днем. Непрерывно подрубать ту ветку, на которой сам сидишь, опасно – рано или поздно это приведет к печальным результатам».
При всем трагизме отношений с матерью и сестрой, Ницше относился к самым близким людям со всей неизрасходованной нежностью трепетной души. Человеку, знавшему в жизни так мало тепла, хотелось находить его под крышей дома в Наумбурге. Его постоянно тянуло в родительский дом, где он мог вновь почувствовать себя ребенком даже тогда, когда в нежных и ласковых письмах к матери называл себя «твоим старым созданием».
Д. Алеви:
…Мать и сестра внушали ему [Ницше] сложное, не поддающееся анализу чувство. Он любил их, потому что это были его родные и потому что был нежен, верен и бесконечно чувствителен к воспоминаниям детства, но вместе с тем каждая его мысль, каждое его желание отдаляли его от них, и ум его презирал их.
Новый 1874 год Фридрих Ницше встречал в Наумбурге. Ему требовалось восстановить силы, оправиться от болезни. Он любил праздничный отдых в кругу близких и в юности привык под сочельник подводить итоги или составлять планы на будущее. Пока итоги были плачевны. Он вступал в год своего тридцатилетия отверженным, униженным, непризнанным. Последние годы жизни он посвятил служению своему старшему другу, но что им обоим дала эта дружба? Он все чаще задумывается над тем, что за человек этот Вагнер, что значит его искусство, не является ли оно великолепным, но больным цветком самого антихудожественного из времен?
Спросим себя по существу, в чем состоит ценность того времени, которое считает искусство Вагнера своим. Время это глубоко анархично, оно задыхается в погоне за благополучием, нечестиво, завистливо, бесформенно, беспочвенно. Оно легко впадает в отчаяние, лишено наивности, до мозга костей рассудочно, чуждо благородства, склонно к подлости и насилию. Искусство наскоро, кое-как соединяет в себе всё, что способно привлечь взоры в наших современных немецких душах: человеческие характеры, всевозможные знания – все собирается в одну кучу. Поистине чудовищно пытаться утвердиться и завоевать чьи-либо симпатии в такое антихудожественное время. Это все равно, что давать яд против яда.
Ницше гнетет, с одной стороны, общественная глухота, окружающая его собственные творения, а с другой – все более восторженное отношение публики к Вагнеру, идущему ей «на потребу». Это не зависть отверженного к прославленному, это – горькое чувство несправедливости, которое довелось в большей или меньшей мере испытать всем гениям, далеко опередившим свое время, осознавших свое лидерство и пережившим изгойство. Однажды, в минуту уныния и тоски, он изливает переполняющие его чувства другу-олимпийцу и какое же получает утешение? Вагнер называет его ипохондриком и советует обрести женское общество, лучше – жениться. Пантагрюэль дает советы Панургу…
Страдания, вызванные холодным приемом его произведений, усиливались лямкой, которую приходилось тянуть базельскому профессору. Чтение лекций становилось все более тягостным, преподавание он называл не иначе, как «проклятая университетская работа», мечтая об уединении в месте, где можно «дожить оставшуюся жизнь и писать хорошие книги».
Удары поджидают Ницше и там, где он их совсем не ожидает. Он всегда высоко ценил дружбу, верил друзьям, но вся его жизнь была чередой предательств. Именно так он воспринял известие о пострижении Ромундта, долго скрывавшего от друзей свою глубокую религиозность. Подобным образом Ницше встретил известие о намерении Вагнера написать христианскую мистерию – «Парсифаля». Внутри самого Ницше уже шла огромная духовная работа по «переоценке ценностей», а его близкие друзья по-прежнему отдавали предпочтение Лютеру и святому Граалю. Больше всего Ницше сокрушало отступничество именно тех людей, на которых он возлагал надежды как на единомышленников, с которыми делился опасными идеями. Может быть, именно собственной суровой безоглядностью он спровоцировал их? Может быть, именно на нем лежит ответственность за постыдное пострижение Ромундта в монахи?
Ницше хотел вернуть к жизни, переубедить своего друга, но споры оказались бесполезными. Ромундт твердо стоял на своем. В назначенный срок он уехал. Вот как Ницше описал Герсдорфу его отъезд:
«Было невыносимо тяжело… В самый последний момент меня охватил настоящий ужас… я слег в постель и тридцать часов подряд мучился сильнейшей головной болью и приступами тошноты».
Потрясение действительно оказалось сильным, послужив началом длительного кризиса. Ницше был вынужден вновь уехать из Базеля в горы. «Пришли мне слова утешения, – писал он в эти дни Э. Роде, – может быть, твоя дружба поможет мне пережить постигший меня удар». Не правда ли, так пишут, когда лишаются любимого человека?..
Сестра Ницше, проведшая весь март в Байрёйте у Вагнера, ужаснулась при виде своего брата. Казалось, что тень Ромундта преследовала его повсюду. «Жить все время под одной крышей, быть такими друзьями и прийти к такой развязке! Это ужасно!» – повторял он непрестанно.
У Ницше были и другие поводы для переживаний. Шел июль 1875 года, приближалось время, назначенное для репетиции тетралогии Вагнера, все друзья были всецело поглощены приготовлениями к байрёйтским торжествам, а Ницше именно в это время уже носил в себе бомбу – готовящийся втайне выпад против учителя. В эти дни он писал, что для него наступило время молчания, но молчать он тоже не мог, еще сильнее раскачивая ладью собственного «я» на волнах беспокойного океана бушующего духа.
Я много поносил моих современников, а между тем я сам принадлежу к их числу; я страдаю вместе и одинаково с ними ради чрезмерности и беспорядочности моих желаний. Если мне суждено быть мучителем этого поколения, то сначала я должен побороть самого себя и подавить в себе всякое сомнение; для того, чтобы победить свои инстинкты, я должен знать их и уметь их судить, я должен приучить себя к самоанализу. Я критиковал науку и восхвалял вдохновение, но я не анализировал, не исследовал источников этого вдохновения – над какою же пропастью я ходил! Меня извиняет моя молодость; я нуждался в опьянении; теперь молодость моя прошла. Роде, Герсдорф, Овербек в Байрёйте; я им завидую и вместе с тем жалею их, так как они уже вышли из того возраста, когда витают в мечтах, и не должны были бы находиться там. Чем именно я теперь займусь? Я буду изучать естественные науки, математику, физику, химию, историю и политическую экономию. Я соберу громадный материал для изучения человека, буду читать старинные исторические книги, романы, воспоминания и эпистолярии… Работа предстоит трудная, но я буду не один, со мною постоянно будут Платон, Аристотель, Гёте, Шопенгауэр; благодаря моим любимым гениям я не почувствую ни тяжести труда, ни остроты одиночества.
Постановка тетралогии Вагнера была назначена на лето 1876 года. Дурные предчувствия мучили Ницше уже с начала этого года: «Я совершенно измучился от тоскливого неумолимого предчувствия, что после моего разочарования [Вагнером] мое недоверие к себе возрастет еще сильнее, чем раньше, что я еще глубже буду презирать себя, что я буду обречен на еще более жестокое одиночество». Ницше давно осознал, что его здоровье тесно связано с настроением, настроение же неумолимо портилось от давно носимой в душе обиды на Вагнера за высокомерие, нежелание признать его равным, предоставить право иметь собственный голос.
Ницше слег в конце 1875-го и проболел до марта, так до конца и не оправившись.
Ницше – Герсдорфу:
Я пишу с трудом и потому буду краток. Я никогда еще не переживал такого грустного, такого тяжелого Рождества, никогда не переживал такого страшного предчувствия. Я теперь более не сомневаюсь, что болезнь моя имеет чисто мозговое происхождение; глаза и желудок страдают от другой, посторонней причины. Мой отец умер тридцати шести лет от воспаления мозга. Весьма возможно, что у меня процесс пойдет еще быстрее. Я терпелив, но будущее мое полно всяких неожиданностей.
Д. Алеви:
С приближением весны Ницше пожелал уехать из Базеля. Герсдорф предложил составить компанию, и друзья поселились вместе на берегу Женевского озера в Шильоне. Ницше прожил там пятнадцать дней, и все это время дурное настроение его не покидало. Нервы его не выносили малейшего изменения температуры, малейшей сырости и присутствия электричества в воздухе. В особенности же он страдал от f?hne, мягкого мартовского ветра, от дуновения которого начинают таять альпийские снега. Мягкая сырость действовала на него самым угнетающим образом; нервы его не выдержали, и он признался Герсдорфу в своей душераздирающей тоске и сомнениях. Герсдорф должен был возвращаться в Германию, ему пришлось покинуть друга в большой тревоге за его здоровье.
Впрочем, Ницше еще не утратил реабилитационной способности. Оставшись в одиночестве, он прочитал двухтомник Мальвиды фон Мейзенбуг «Воспоминания идеалистки». Он был глубоко привязан к этой пожилой женщине, как к собственной матери, с которой делился многими сокровенными мыслями. У нее было большое сердце, и для Ницше она стала воплощением идеального женского типа.
Чтение «Воспоминаний идеалистки» как бы воскрешает Ницше; мадам Мейзенбуг примиряет его с жизнью; к нему возвращается спокойствие духа и даже физическое здоровье.
В 1876 году Ницше пишет последнее из «Несвоевременных размышлений» – «Вагнер в Байрёйте». Самое поразительное в этом полном энтузиазма панегирике то, что он создается в момент, когда полностью развеяны все иллюзии Ницше в отношении старшего друга. Проницательный читатель чуть ли не на каждой странице этого эссе обнаружит скрытое неодобрение, преподанное в форме гимна. Ницше воздает хвалу художнику, не упоминая о нем как о философе. Нет ни слова о воспитательном значении его произведений. Сам дух панегирика радикально отличается от мыслей, высказанных в «Рождении трагедии» и все еще разделяемых Ницше, что придает работе скрыто иронический характер:
Для нас Байрёйт – это освящение храма во время битвы. Таинственный голос трагедии звучит для нас не как расслабляющее и обессиливающее нас очарование, она налагает на нас печать покоя (?). Высшая красота открывается нам не в самый момент битвы, но мы сливаемся с нею в момент спокойствия (?), предшествующий битве и прерывающий ее; в эти мимолетные мгновения, когда, оживляя в своей памяти прошлое, мы как бы заглядываем в тайну будущего, мы проникаемся глубиною всех символов, и ощущение какой-то легкой усталости, освежающие и ободряющие грезы нисходят на нас. Завтра нас ждет борьба, священные тени исчезают, и мы снова бесконечно отдаляемся от искусства; но, как осадок утренней росы, в душе человека остается утешительное сознание о пережитом истинном слиянии с искусством.
В книге есть и более открытое выражение изменившегося чувства: «Вагнер – не пророк будущего, как это можно было бы думать, но истолкователь и певец прошлого». Ясно, что Ницше уже не мог скрыть тех глубинных процессов внутреннего прозрения, которые происходили в нем все последние годы, но еще был не в силах громогласно заявить о разрыве, о расхождении путей. Но Вагнер не умел читать между строк и по-прежнему видел в Ницше только оруженосца. Его реакция на работу ускользающего из-под гипнотического влияния друга выражена в кратком письме:
Друг мой, какую чудесную книгу Вы написали. Когда Вы успели так хорошо узнать меня? [Надо полагать, глубоко трагический подтекст этого вопроса не осознавался автором письма.] Приезжайте скорее и оставайтесь с нами все время, начиная от репетиций до начала представлений.
Ваш Р. В. 12 июля.
Согласно признанию самого Ницше, в момент написания «Вагнера в Байрёйте» он уже полностью разуверился в его искусстве и идеях (для проницательного читателя это ясно и без комментария). Зачем же, вопрошает Л. Шестов, Ницше потребовалось писать «гимн» уже свергнутому кумиру? Ницше объяснил это тем, что, прощаясь со своим учителем, он хотел выразить ему признательность за все прошлое.
Внешне панегирический характер «Вагнера в Байрёйте» Лев Шестов объяснил тем, что Ницше все еще продолжал ощущать на себе гипнотический взгляд учителя и не находил в себе сил бороться с его влиянием:
Ницше был гордым человеком. Он не хотел выставлять напоказ свои раны, он хотел скрыть их от посторонних взоров. Для этого пришлось, конечно, притворяться и лгать, для этого пришлось писать горячие хвалебные статьи в честь Шопенгауара и Вагнера, которых в душе он уже почти ненавидел, ибо считал их главными виновниками своего страшного несчастья.
Несчастьем этим была несвобода, зависимость, лишение самостоятельности. Резкость поворота Ницше в отношении к своим учителям, собственно, объясняется длительным накоплением потенциала отречения и последовавшим разрядом.
Не покорности, как того требовала философия Шопенгауэра, но переоценки жаждала душа гиперборейца! Ницше нашел в себе силы отречься и от романтических увлечений молодости, и от пессимизма, и от последствий собственного оранжерейного воспитания, и от авторитетов, и от своей филистерски-профессорской среды. Эволюция Ницше была процессом такого рода отречений, все большим отходом от традиционного мышления к нонконформизму.
В поздних своих книгах Ницше интерпретировал «Вагнера в Байрёйте» как предчувствие «Заратустры»: можно, писал он, во всем тексте заменить слово «Вагнер» словом «Заратустра», не боясь искажения.
Весь образ дифирамбического художника есть образ поэта-предшественника «Заратустры», нарисованный с величайшей глубиной, не затрагивая ни на минуту вагнеровской реальности. У самого Вагнера было об этом понятие; он не признал себя в моем сочинении. – Точно так же «Идея Байрёйта» превратилась в нечто, что не будет загадочным понятием для знатоков моего «Заратустры»: в тот великий полдень, когда самые избранные посвящают себя величайшей из всех задач – кто знает? призрак праздника, который я еще переживу… Пафос первых страниц есть всемирно-исторический пафос: взгляд, о котором идет речь на седьмой странице, есть истинный взгляд «Заратустры»; Вагнер, Байрёйт, все маленькие немецкие жалкие вещи суть облако, в котором отражается бесконечная фата-моргана будущего.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: