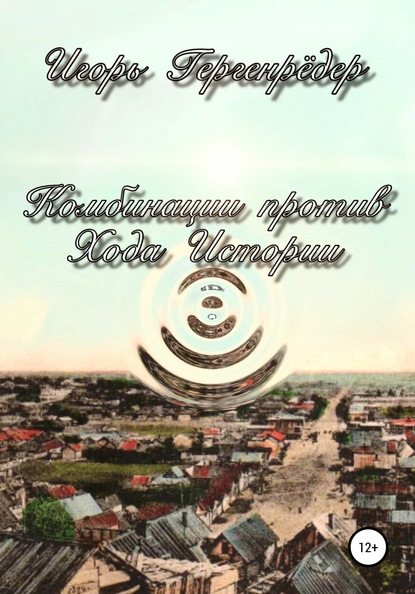По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Комбинации против Хода Истории
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Следом за ним выхожу в узкий, ведущий на задний двор коридорчик. Здесь стоит лавка. Цюматт достал портсигар, предложил мне закурить. Благодарю, поясняя, что не курю; на самом деле, когда попадается табак, я покуриваю. Жду, когда же он скажет… Скажет – и моё мучительное волнение взорвётся восторгом.
Он затянулся так жадно, что я услышал потрескивание в папиросе. Стоит в облаке дыма; у него встревоженные глаза нервного молодого человека.
– Ваш брат Павел пал за Россию! Пал смертью храбрых!
Зажав папиросу во рту, Цюматт взял меня за руки. Стоим минуту-вторую, третью… он не выпускает мои руки.
– Сядемте, – пригласил сесть с ним на лавку.
* * *
Он объяснил, как Павел и его конные разведчики помогали дивизии. Почему мы отступаем? Потому что наш сосед справа – дивизия чехословаков – всё время отходит, даже не предупреждая нас. Чехословаки не собираются всерьёз воевать с красными, умирать в чужой стране за чужие интересы. Наш фланг то и дело оказывается открытым, и только разведка, нащупывая противника, спасает нас от охвата справа.
Совершая глубокие рейды по территории, занятой противником, разведка определяет плотность его сил. Когда их концентрация на чехословацком участке окажется слабой, генерал перебросит туда полк прикрытия. Остальными силами – при поддержке соседа слева – нанесёт красным неожиданный удар.
– И мы разобьём их без никакой помощи чехословаков! – Цюматт поспешно поднёс папиросу ко рту, костлявая рука дрожит. – Представляете, как я каждый раз ждал возвращения вашего брата?
Попрощался генерал немного картинно:
– Он принадлежал к числу тех офицеров, из которых вырастают крупные военные деятели! Дорогой мой, служите, как ваш брат!
Вестовой проводил меня к разведчикам. Я услышал, как погиб Павка.
Постоянной линии фронта не было, и разведка – тридцать конников – без труда проехала в расположение противника, на ночь остановилась в не занятом им селе Голубовка. На крыше сарая залёг дозорный. Лошадей не расседлали. Один Павел расседлал свою молодую кобылу. Среди ночи дозорный поднял спавших: в Голубовку въезжает какой-то отряд. Стали вскакивать на коней, и тут красные открыли огонь. Отстреливаясь, разведчики вырвались из села. Четверо оказались ранены, и не было Павла.
– Остановились в селе, в десяти верстах от Голубовки, – рассказывал мне узкоглазый молодой человек с реденькими усиками и бородкой. – Днём приехал по своим делам крестьянин из Голубовки. От него узнали…
Павел, седлая кобылу, задержался. Когда поскакал со двора, красные были уже рядом, простреливали улицу продольным огнём. Лошадь под ним убили. Он – в ближние ворота; взобрался на гумно, отстреливался, нескольких нападавших ранил. В него, вероятно, тоже попали. Патроны кончились: спрыгнул с гумна, саблю держит, шатается, а красные – вот они, перед ним. Кричат: «Бросай шашку!» Не бросил, замахивается – его и застрелили.
– Крестьянин уверен, – закончил разведчик, – что кто-то из своих, из голубовских, привёл красных.
* * *
Через несколько дней мы нанесли противнику удар, который планировал генерал Цюматт. Наш полк был заблаговременно переброшен на участок, только что оставленный чехословаками: они, по своему обыкновению, продолжали отходить без боя. Красные, не ожидавшие серьёзного сопротивления, атаковали нас без подготовки, но под огнём залегли. Мы бросились в контратаку. Захватили около сорока пленных, походный лазарет, две двуколки с патронами.
Сутки спустя наш батальон готовился наступать с пологого холма на открывшееся в седловине село. Вечерело. Наполнив патронами боковые подсумки, я набивал брезентовый патронташ, когда раздался конский топот. Возле меня соскочил с лошади узкоглазый разведчик.
– Вот эта самая Голубовка! – он показал на село. – Через час вы в ней будете. Глядите: церковь, две избы вправо, за ними, подальше – три двора. Там мы ночевали… Узнаете, где Павел… гхм… – разведчик смешался, порывисто бросил:
– Извините!
Я его понял: он не уверен, погребено ли тело Павла.
Он сел подле меня на траву. Помолчав, рассказал: утром они захватили красного – из тех, кто напал на разведчиков в Голубовке. Вот что выяснилось.
Красные в ту ночь стояли в деревне – от Голубовки верстах в четырёх. Их было не больше полуста, и, когда прибежал голубовский пацан: у нас, мол, разведка белых ночует, – командир не решился нападать. Но тут подъехала на телегах рота рабочего полка. И двинулись…
– Мальчишку, конечно, отец послал, – разведчик глянул мне в глаза. – Глупостей не наделайте! А вообще… – с минуту думал. Вдруг у него вырвалось: – Я бы расстрелял!
Сказав, что ему пора, попрощался, вскочил в седло и уехал.
* * *
Мы не оказались в Голубовке ни через час, ни через два. Красные, засев в окопах перед околицей, встречали нас плотным огнём винтовок, и командир полка приказал прекратить лобовые атаки.
Темнело. Мы отошли за холм и встали лагерем. Съев по котелку каши, разожгли костры, уселись вокруг них группками.
Наш батальон в основном состоит из вчерашних реалистов, из гимназистов вроде меня. Прошло немногим больше трёх месяцев, как мы в Сызрани вступили в Народную Армию КОМУЧа[1 - КОМУЧ – Комитет членов Учредительного Собрания (Прим. автора).]. Тех, кто побывал на германской войне, среди нас почти нет. Александр Чуносов – один из таких редких людей. Был в войсках, что воевали в Персии с высадившимися там германцами. Ему года двадцать три; рослый, плотный. Ходит, держа винтовку под мышкой. Любит, чтобы его звали Саньком. Он – старший сын богатого крестьянина. Отец послал его в Народную Армию с напутствием: «Жалко, но надо! А то х…ета безлошадная нас уделает».
Санёк нашёл неподалёку болотце и, процедив воду сквозь тряпку, сейчас кипятит её в котелке.
– Лёнька, чай, мыслями в Голубовке, – произносит в раздумье, ни к кому не обращаясь, – казнит братниных убивцев…
Молчу. Думаю о Павке. Думаю – почему я не мучаюсь горем? Когда я услышал о его смерти, я словно бы в это не поверил. Мне тягостно, но боли, ужаса нет. Из-за этого чувствую себя виноватым. Возбуждаю в себе мысли о том, каким хорошим был Павел.
У меня есть ещё два старших брата, сестра. Чем Павел был лучше? Тем, что старше? Тем, что в 1915 ушёл добровольцем на Кавказский фронт, вернулся подпоручиком? В Народной Армии, где крайне не хватало офицеров, его сразу же поставили командовать дивизионной разведкой. И вот в двадцать два года, провоевав три месяца, он погиб.
Обстоятельный Санёк говорит мне с нотками превосходства:
– Генерал тебе потрафил: братана хвалил. Чего его восхвалять? Кругом враг, а он лошадь расседлал – командир! А все так сделай? И накрылась бы разведка. По дури попался орёлик. Любил вы…бнуться! – он с удовольствием выделил матерное слово.
Я понимаю, что он прав. Для меня это – пытка. С дрожью бросаю:
– Ну, чего привязался?
Мой бывший одноклассник Вячка Билетов замечает:
– Павел погиб от предателя.
– А он те на верность клялся никак: мужик, что пацана послал? – с ехидцей поддел Санёк. – Может, он и был за красных? По его понятию – хорошо сделал.
– Значит, Лёнька и отплачивать не должен? – вознегодовал Вячка.
Санёк поставил котелок перед собой на землю, стал размачивать в кипятке сухой хлеб.
– Если не отплачивать, то и воевать не хрен. К тому же, братан – своя кровь. Может, бил тя по башке, жизни не давал: до расчёта это не касаемо. Не рассчитался – не человек.
– Ишь, как! – вмешался вчерашний телеграфист Чернобровкин. – А военно-полевой суд на что?
– Прям у начальства забота теперь – суды собирать!
– А иначе, – не сдался Чернобровкин, – сам под суд попадёшь. Как за грабёж.
– Грабёж – дело другое, хотя и тут: как посмотреть… – Санёк дует на размоченный в кипятке ломоть хлеба. – А у Лёньки – дело без корысти.
* * *
На рассвете мы обошли Голубовку с севера, наткнулись на полевой караул красных. Поднялась стрельба; опасаясь окружения, противник оставил село, и мы вступили в него.