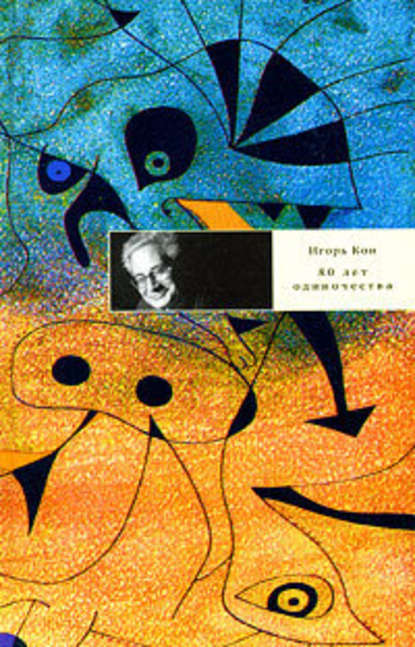По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
80 лет одиночества
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И все-таки не торопитесь с приговором. В тоталитарном обществе юноша утрачивает интеллектуальную и нравственную невинность гораздо раньше, чем становится способным к самостоятельному выбору. Коллективизм-конформизм и крайне идеологизированное воспитание развращали нас с детства, официальные нормы и стиль поведения воспринимались как нечто естественное, единственно возможное, а интеллектуальные сомнения и нравственная рефлексия приходили, если вообще приходили, много времени спустя. А перевоспитание и самоперевоспитание – процесс значительно более сложный, чем первичная социализация. Ведь нужно преодолеть не только страх и внешнее давление, но и инерцию собственного отрицательного опыта.
Выдавить из себя раба по капле, как это рекомендовал Чехов, практически невозможно: рабская кровь самовосстанавливается быстрей, чем выдавливается.
Тут нужно гораздо более радикальное обновление. Действительно свободными становились только те, кто полностью, хотя бы внутренне, порывал с системой, начиная жить по другой школе ценностей, – открытые диссиденты, правозащитники и те интеллектуалы, которые сознательно писали «в стол». Но таких людей было очень мало. Для этого требовались не только смелость, но также определенный тип личности и наличие соответствующей среды.
Тем более что «раб в душе советского человека не сконцентрирован в какой-то одной ее области, а, скорее, окрашивает все происходящее на ее мглистых просторах в цвета вялотекущего психического перитонита, отчего не существует никакой возможности выдавить этого раба по каплям, не повредив ценных душевных свойств»[1 - Пелевин В. Generation P. М.: Вагриус, 1999. С. 52–53.].
Разные поколения объективно обладают неодинаковым потенциалом инакомыслия. Чем дальше заходило внутреннее разложение тоталитарной власти и идеологии, тем легче было осознать их убожество и найти в этом единомышленников. Сдержанный скепсис родителей перерастал у детей в полное отвержение системы. Мое поколение подвергалось значительно меньшему социальному и духовному давлению, чем люди тридцатых годов, студентам 1960-х уже трудно было понять некоторые ситуации десятилетней давности, а молодежи 1990-х казалась странной трусость или беспринципность, называйте, как хотите, 1970-х. Нет, я никого и ничего не оправдываю, во всех поколениях были разные люди, но вне исторического контекста понять их нельзя.
Со стороны и постфактум многое видится иначе, чем изнутри. Однажды в 1950-х годах в одной интеллигентской компании я упомянул недавно вернувшегося из тюрьмы всем известного и весьма приятного историка, с которым я был знаком до его посадки. «А вы знаете, что он не только историк, но и биограф?» – «Что значит – биограф?» – «Это человек, на основании показаний которого арестовывали других людей, так что будьте с ним поаккуратнее». Я огорчился, потому что этот человек мне нравился и сидел абсолютно ни за что. Но когда я рассказал этот случай старому коммунисту Моисею Исаевичу Мишину, просидевшему больше двадцати лет и сохранившему не только верность своим идеалам, но и ясность ума и безукоризненную порядочность, он сказал: «Лучше воздержитесь от оценок. Вы не были в подобной ситуации, не знаете, как там было страшно, как ломались даже очень сильные люди. Неизвестно, как вы сами повели бы себя. Может быть, H. был действительно доносчиком, а может быть, его просто обманули или запугали? Не зная всех обстоятельств, лучше избегать оценок». Я вспомнил, сколько в моей недолгой и отнюдь не экстремальной жизни уже было беспринципных компромиссов, и согласился с этим суждением. Тем более что в советское время практически каждого подозревали в том, что он стукач. Отчасти спонтанно, а отчасти потому, что это помогало КГБ разобщать людей.
Еще труднее интерпретировать старые тексты. Когда-то в молодости, поддавшись обаянию предисловия знаменитого арабиста И. Ю. Крачковского, я купил сочинение средневекового арабского мыслителя, которого академик назвал ярким и свободомыслящим. Стал читать – и почти в каждом абзаце спотыкался об упоминания Аллаха, проклятия по адресу неверных и т. п. Поделился своим разочарованием с А. Д. Люблинской, дескать, Крачковский все приукрасил. А она сказала: «Вероятно, Крачковский все-таки прав. Вы ведь других авторов этого периода не читали. В то время без ссылок на Аллаха не обходился никто, а у него это просто формальные слова, и ценили его не за них».
Конечно, 1950-е годы – не Средневековье, но и там были свои условности и правила игры. Идеологические ярлыки, которые сегодня нас отталкивают, в свое время были общим местом, на них не обращали внимания, потому что видели за текстом подтекст, который у разных авторов был совсем не одинаковым.
Часть первая
Люди и обстоятельства
Детство и юность
Все человеческие судьбы слагаются случайно, в зависимости от судеб, их окружающих.
Иван Бунин
Я родился в Ленинграде 21 мая 1928 года. Несмотря на всяческие трудности, мое детство всегда казалось мне счастливым.
Я был внебрачным ребенком, отец, врач-рентгенолог, иногда заходил к нам в гости (что он мой отец, я узнал лишь в восемь лет) и оказывал некоторую материальную помощь, которая была особенно ценной в годы войны, но душевной близости с ним у меня не было. Это был просто знакомый мужчина, ничем не лучше и не хуже других взрослых. Мама не настраивала меня против него (вполне возможно, что у них был просто курортный роман, а аборт мама делать не хотела). В раннем детстве отца мне, вероятно, недоставало. Летом на концертных площадках я не раз, будучи смышленым и общительным, приводил к маме понравившегося мужчину в качестве кандидата в папы, понятия не имея, что это значит. Но ко времени знакомства с реальным отцом эта потребность уже прошла, а найти ко мне подход он не мог, да и вряд ли это вообще было возможно.
После войны, когда я был уже студентом, отцу, возможно, хотелось со мной сблизиться (у них с женой детей не было), но для этого не было никаких условий. Отец работал в военном госпитале и иногда отдавал мне скопившийся у него хлеб (время было голодное), для этого я должен был приезжать к госпиталю и встречаться с ним украдкой за углом. Хлеб был абсолютно законный, но я был точной копией отца, и он не хотел, чтобы его коллеги видели нас вместе. Я это прекрасно понимал, но все равно это было оскорбительно.
Однажды из-за нашего сходства отец даже попал в смешное положение. Он лег на операцию в Военно-медицинскую академию, где профессором был отец моего довоенного одноклассника В. Г. Вайнштейн. Владимир Григорьевич хорошо знал мою маму, но понятия не имел, кто мой отец, однако не увидеть сходства было невозможно, и во время обхода он сказал отцу: «Я знаю вашего сына, замечательный мальчик!» Отцу пришлось молча покраснеть. Как только мне исполнилось восемнадцать, отец перестал материально помогать, наши встречи прекратились, а в 1949 г. в Кишиневе его убили бандеровцы… Я не называю здесь его фамилию не потому, что питаю к нему враждебные чувства (насколько я знаю, это был вполне достойный человек) или чего-то стесняюсь. Просто в моих документах его фамилии никогда не было, а я привык к точности в анкетах.
Зато мама посвятила мне всю жизнь и всемерно помогала моему развитию. В сущности, я выжил случайно. Я родился почти нежизнеспособным семимесячным недоноском. К тому же в родильном доме меня не перепеленывали, а на кормление приносили в упакованном виде. Когда дома мама меня впервые распеленала, она пришла в ужас: у ребенка практически не было кожи, даже мыть его обычной водой было нельзя. Когда она пришла за справкой о продлении больничного листа, молодой врач сказал: «Мамаша, разве вы не видите, что ваш мальчик не жилец? Пожалуйста, я продлю вам бюллетень не на неделю, как положено, а сразу на месяц, все равно ребенок умрет через три дня». Однако мама меня выходила.
В детстве я много и серьезно болел. В годовалом возрасте вдруг стала трястись голова, мама не могла понять, в чем дело, а когда однажды неожиданно раньше времени вернулась домой, обнаружила, что молодая нянька меня била, уткнув головой в подушку, чтобы не плакал. Потом на моих глазах грузовик сбил газетный киоск, в котором сидел знакомый инвалид. Это вызвало у меня страх улицы, потребовалось вмешательство крупнейшего детского невропатолога. Когда мама пыталась вызвать его домой, он отказался, а когда она меня привезла, сказал: «Как можно было ребенка в таком состоянии везти в трамвае?!» – «Я же вам объясняла…» – «Ну, я подумал, что матери всегда преувеличивают». Потом это все прошло.
В шестилетнем возрасте я перенес энцефалит. Определили его только ретроспективно, когда я стал приволакивать ногу и обнаружилась плохая координация движений, из-за которой меня освобождали от уроков физкультуры. Это всех устраивало. Я не любил предмета, в котором заведомо не мог быть первым, мама дрожала за мое здоровье, а учителя не хотели лишних неприятностей (я как-то неловко и опасно падал). Став взрослым, я понял, что это была ошибка, последствия энцефалита вполне можно было «разработать», но чего не сделали, того не сделали. То ли до, то ли после моей многодневной спячки начались тяжелые носовые кровотечения, природа которых так и осталось непонятной (они периодически продолжались лет до двадцати пяти, последний раз я едва не умер одновременно со Сталиным, «неотложка» никак не могла остановить кровь). Однажды мама вызвала на дом знаменитого профессора, а меня строго предупредила, чтобы не проболтался, что она медсестра: если профессор об этом узнает, он не сможет взять деньги (неписаная врачебная этика), а без денег он бы не поехал, да и просить неудобно. А деньги, по ее зарплате, были немалые…
Во время этой длительной болезни, чтобы мне было не так одиноко, она купила белого крысенка и пустила его прямо ко мне в постель. С Витькой мы долго жили вместе. Это был замечательно умный и чистоплотный зверь. Трудно было только научить его не грызть чулки и обувь и позволять чистить его гнездо (он жил в небольшом аквариуме), где он хранил свои продовольственные запасы. Больше всего он любил сыр. Когда приходили гости и садились за стол, он доставал оттуда самую черствую хлебную корку, садился на задние лапки и демонстративно начинал ее грызть, после чего не угостить его чем-то вкусным было невозможно. Однажды мама неплотно закрыла дверь и, вернувшись в комнату, застала жуткую сцену: на краешке своего аквариума сидит и умывается Витька, а перед ним сидят и смотрят три очумелые от удивления кошки, никогда не видевшие такого бесстрашного зверя! Когда ко мне приходили ребята и мы выстраивали армии оловянных солдатиков, Витька смахивал их одним движением хвоста или норовил украсть картонную пушку, а если его запирали в аквариум, серьезно обижался…
Несмотря на мамину более чем скромную зарплату, я ни в чем не уступал одноклассникам. У меня были дорогие книги; лучше всего помню «Маугли», «Цари морей» (о походах викингов) и «В царстве черных» (о путешествии в Африку), настоящий микроскоп и огромный набор «Химик-любитель», с помощью которого мы с ребятами однажды устроили дома что-то вроде пожара.
Чтобы избежать возможных опасных последствий детского самоуправства, мама применяла нечто вроде дисциплины естественных последствий. Когда я стал все подряд нюхать, мне был предложен нашатырный спирт. Потом меня привлекли горячие угольки в печке. Мама приготовила перевязочный материал, подгребла маленький уголек и не помешала мне его схватить. Ребенок был настолько мал, что не смог разжать кулак с редкой драгоценностью, поэтому ожог оказался сильнее, чем предполагалось, зато потом я ходил вокруг печки восхищенно-опасливо, ничего из нее не хватая. Мамина подруга, у которой был мальчик того же возраста, что и я, упрекала маму в неоправданной жестокости. Но когда ее сынишка, которого тоже привлекало все блестящее, на минуту оставшись без присмотра, буквально сел на кипящий чайник и сжег себе мошонку, она признала, что мамин подход был лучше.
Я был тугодумом. Года в три мне подарили красивую красную рубашку, и я сказал: «Я буду мальчик-красавчик!» Мама ответила: «Лучше будь умным». Через несколько часов, когда мама уже забыла об этом разговоре, я вдруг сказал: «Мама, но ведь этого же не видно…» (выяснилось, что подразумевался ум). В другой раз, в песочнице, когда какой-то мальчишка меня ударил, я заревел и пожаловался маме. Мама сказала: «Так дай ему сдачи!» Через два часа, когда о ссоре все забыли и мой обидчик спокойно что-то строил, я молча подошел и стукнул его. «Что ты делаешь?!» – «Я дал ему сдачи!»
Жили мы в огромной коммунальной квартире – одиннадцать съемщиков, с одним-единственным туалетом, он же – ванная. Несмотря на неизбежные ссоры, в целом отношения между жильцами были хорошими. Примусы у каждого были свои, а отдельных штепселей вроде бы не было.
Мама работала, а я был слишком мал, чтобы самостоятельно зажигать примус или керосинку, поэтому вечерами соседи разогревали мне ужин и давали кипяток для чая. Кстати, одним из соседей был Адриан Иванович Пиотровский (1898–1938), в то время – директор Ленфильма и, как я узнал много лет спустя, выдающийся переводчик, филолог, драматург, литературовед, театровед и киновед. Он и его жена Алиса Акимовна очень хорошо ко мне относились. Однажды, когда я попросил у нее кипятку, она сказала: «Зачем? Приходи к нам пить чай!» Я пришел с собственной чашкой и заваркой. «Зачем? У нас есть чай». – «Чтобы не одалживаться». Мама потом объяснила мне, что из всех правил бывают исключения, но просить и одалживаться я до сих пор не люблю. Потом Пиотровские получили отдельную квартиру в новом ленфильмовском доме, а в 1937 году Адриана Ивановича арестовали и вскоре расстреляли…
В детском саду и в школе у меня все было хорошо. Учеба по всем предметам, кроме чистописания, а позже – черчения, давалась легко, но с раннего детства я больше всего любил историю. Отношения с одноклассниками были отличными, детские дружбы восстановились даже после войны. Драться я не любил, но если нападали – приходил в ярость, так что драчуны предпочитали не приставать. Школа – бывший послепушкинский лицей – казалась огромной и очень красивой. Я был очень правильным и законопослушным мальчиком. Найдя в скверике напротив дома, где я обычно гулял, потерянную кем-то непочатую плитку шоколада, сдал ее в находившееся рядом отделение милиции, милиционеры ее взяли и обещали найти хозяина. Дома надо мной долго смеялись.
Беззаботное детство было разрушено войной. Осенью 1941 года маму как медсестру послали сопровождать эшелон эвакуированных в Чувашию. По дороге наш эшелон обстреливали, но мне это не казалось страшным, наоборот, запомнились разноцветные трассирующие пули – красиво. Мы собирались через месяц вернуться, даже не взяли с собой теплых вещей, а застряли в Мариинском Посаде на три года. Было холодно и голодно. По карточкам выдавали только хлеб, ведро картофельных очистков стоило на рынке сорок рублей. Когда кто-то из ребят приходил в школу, наевшись чеснока, в памяти возникал запах колбасы, а описание колбасной лавки в «Чреве Парижа» вызывало настолько сильные желудочные переживания, что я не смог дочитать роман Золя. Многие местные жители эвакуированных не любили, считая, что это из-за них все дорожает. А поскольку среди эвакуированных было много евреев, бытовая неприязнь оборачивалась антисемитизмом.
В городе стояла непролазная грязь, идти до школы было неблизко, а на ногах – дырявые ботинки на деревянной подошве. Сначала я старался идти осторожно, чтобы не промочить ноги, но грязная холодная жижа понемногу все-таки проникала внутрь. Это было очень противно, и я стал делать иначе: прямо у дома становился обеими ногами в лужу, после чего терять было уже нечего и можно было идти быстро, не глядя под ноги. Думаю, я нашел правильный способ. Организм знал, что болеть нельзя, и держался. Тем не менее летом я подцепил какую-то непонятную болезнь крови: от укусов заволжских мух на ногах возникли трофические язвы, почти до кости, их следы сохранялись лет тридцать, если не больше.
Но в детстве все переживается легко. В победе над немцами, хотя они были практически рядом, мы не сомневались ни секунды, работали в колхозе, собирали металлолом и т. д. С последней темой связаны мое первое напечатанное стихотворение, первый литературный гонорар (три рубля) и первый конфликт с редактором. Стихи начинались так:
Цветные металлы нужны для страны,
На танки, на пушки, на пули.
Весь лом металлический сдать мы должны,
А всюду ли мы заглянули?
Когда районная газета вышла, я с ужасом обнаружил, что «пули» заменили на «снаряды». Пошел выяснять отношения с редактором, объяснил ему, что «пули» и «заглянули» рифмуются, а «снаряды» – нет. Кроме того – размер. Но редактор меня не понял, сказал, что пули никуда заглядывать не могут, а для снарядов металла нужно больше.
Чтобы получить бесплатное жилье, мама ушла из больницы и устроилась работать комендантом учебного корпуса Чувашского госпединститута. Это открыло передо мной двери богатой институтской библиотеки. Никогда в жизни я не читал так много и продуктивно, как в шестом-седьмом классах. Интересным было и неформальное общение с институтскими преподавателями. В седьмом классе я каким-то образом подсчитал, что, даже ничего больше не делая, человек за всю жизнь не сможет прочитать больше десяти-двенадцати тысяч книг, и очень расстроился. Слепой доцент-историк Георгий Иванович Чавка объяснил мне, что все не так страшно, многие книги можно читать не подряд, а выборочно, а так как школьную программу я явно перерос, подсказал идею сдать экзамены за старшие классы экстерном, что я и сделал, став в пятнадцать лет студентом истфака. Кроме обязательных предметов, я параллельно занимался тремя иностранными языками, составлял собственные четырехъязычные словари и т. д. В дальнейшем все это пригодилось.
Осенью 1944 г. мы вернулись в Ленинград, где я продолжил образование на истфаке Ленинградского пединститута им. А. И. Герцена. Назвать это жизнью можно лишь условно. Наша двадцатиметровая комната была незаконно заселена, на взятку чиновникам у мамы не было ни денег, ни умения. Кроме того, мы вернулись самочинно, без официального вызова Ленсовета, так что, несмотря на ленинградский паспорт, не могли восстановить прописку. Чтобы как-то существовать, мама устроилась работать в больницу в Токсово, под Ленинградом, а меня не могли поселить даже в институтском общежитии. Бездомная жизнь без продовольственных карточек, с ночевками у разных знакомых, откуда меня иногда выгоняла на улицу милиция (в отделение ночевать не пускали), была страшной. Произошло даже что-то вроде рецидива энцефалита (я несколько дней подряд спал). На письма в официальные инстанции приходили стандартные отказы. Они были не лишены комизма. Выстояв несколько дней в очереди в управление милиции, ты получал письменный отказ и предписание покинуть город в двадцать четыре часа, но следующий раз с этой грозной бумагой ты имел право пройти без очереди. Впрочем, смеющихся людей я в этих очередях не видел. Бросать учебу и ехать работать на лесозаготовки (единственное, что предлагалось) я категорически не хотел.
Помогли стихи. Ничего оригинального в моих виршах не было, но в очередное послание А. А. Жданову я вложил следующие стишата:
Без прописки и без хлеба
И без всякого жилья
Под открытым сводом неба
Проживаю нынче я.
Не ломал замков в квартирах
И людей не убивал,
Не бывал и в дезертирах,
А в преступники попал.
От милиции скрываюсь,
Перед дворником дрожу,
Я по лестницам скитаюсь,
В разных садиках сижу.
Газированной водою
Запиваю грусть свою
И с напрасною мечтою
На приемах я стою.
Всей душой хочу учиться,
А учиться не дают.
Где, к кому мне обратиться,
Как найти себе приют?
Стихи тронули какую-то обкомовскую секретаршу, письмо «мальчика-поэта» переслали по инстанциям, в результате Горбюро по распределению рабочей силы выдало мне необходимое направление на учебу, а райжилотдел предоставил нам с мамой девятиметровую комнату в коммунальной квартире на улице Рубинштейна, 18, рядом с Малым драматическим театром, во втором дворе-колодце. Там мы прожили до 1956 г., в этих условиях я написал обе свои кандидатские диссертации.