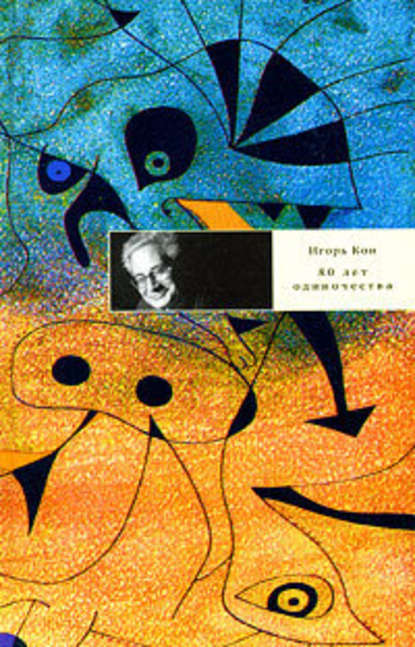По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
80 лет одиночества
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
80 лет одиночества
Игорь Семенович Кон
Новая книга известного российского ученого-обществоведа И.С.Кона представляет собой род интеллектуальной автобиографии. Игорь Кон всю жизнь работал на стыке разных общественных и гуманитарных наук: социологии, истории, антропологии, психологии и сексологии. С его именем тесно связано рождение в России таких дисциплин, как история социологии, социология личности, психология юношеского возраста, этнография детства, сексология. Некоторые его книги ломали привычные представления и становились бестселлерами. Свободно, занимательно, порою весьма самокритично Кон рассказывает о себе и своем времени: как формировались его научные интересы, что побуждало его переходить от одних проблем и дисциплин к другим, насколько свободным был этот выбор и как его личные интересы пересекались с проблемами общества. У современников автора это может пробудить собственные воспоминания, а молодежи поможет лучше понять наше недавнее прошлое, которое, возможно, не такое уж прошлое…
Игорь Кон
80 лет одиночества
Предисловие
Много ли мы знаем жизнеописаний, рисующих безмятежное, спокойное непрерывное развитие индивидуума? Жизнь наша, как и то целое, составными частями которого мы являемся, непостижимым образом слагается из свободы и необходимости. Наша воля – предвозвещение того, что мы совершим при любых обстоятельствах. Но эти же обстоятельства на свой лад завладевают нами. «Что» определяем мы, «как» редко от нас зависит, а «почему» мы не смеем допытываться…
Иоганн Вольфганг Гёте
Идею этой книги мне подсказал директор Института этнологии и антропологии В. А. Тишков. После того как я никому не напомнил о своем семидесяти– и семидесятипятилетии, Валерий Александрович сказал, что надо бы подготовить по этому случаю какой-нибудь сборник статей. Однако отвлекаться от собственной работы ради составления сборника «имени мине» неинтересно, а обременять этим посторонних людей (сотрудников в строгом смысле слова у меня нет) неэтично. Честно говоря, я вообще не люблю юбилеев – очень уж они напоминают похороны. Единственная разница, что покойник спокойно лежит и слушает, как его хвалят, а юбиляр, если он сам или его друзья не подсуетятся, то и дело будет ощущать, что его недохвалили. Конечно, когда хвалят – приятнее, чем когда ругают, тем более что хотя на чужих юбилеях люди фальшивят, на твоем они говорят чистую правду. Но я человек скептического склада ума, стараюсь не доставлять окружающим лишних забот и от круглых дат обычно уезжаю; если доживу и сумею – поступлю так и на сей раз.
К тому же междисциплинарность моей работы делает такое сборище затруднительным. Если пригласить не только этнографов, но и социологов, философов, психологов, демографов, педагогов, историков, культурологов, сексологов, андрологов, к работе которых я был так или иначе причастен, институтский зал окажется недостаточно вместительным, а если кого-то не известить – могут быть обиды. Так уж мы устроены: когда куда-то зовут, думаешь, как выкроить время, а если не зовут, обижаешься, что тебя забыли.
Два сборника избранных статей – «Социологическая психология» (1999) и «Междисциплинарные исследования» (2006) – с большими автобиографическими предисловиями я опубликовал вне связи с юбилейными датами. Но все-таки восьмидесятилетие – дата серьезная. Почему бы между двумя новыми научными книгами «Мужчина в меняющемся мире» и «Мальчик – отец мужчины» не сделать легкую автобиографическую паузу? Сделай паузу, скушай «Твикс».
Этой книгой я как бы говорю своим коллегам (друзья – совсем другое дело, они помнят о тебе не только по праздникам): пожалуйста, не беспокойтесь, все хорошее о себе я рассказал сам, а плохого на юбилеях говорить не принято. Пока удается – будем продолжать работу, а дальше видно будет…
Но нужна ли такая книга читателю? Юбилей надо заслужить. Говорят, что мужчина, чтобы состояться, должен родить сына, построить дом и посадить дерево. Я не сделал ни первого, ни второго, ни третьего, не совершил никаких подвигов, не сделал замечательных открытий, не создал научной школы, не сидел в тюрьме, никуда не избирался и вообще мало в чем участвовал. В моей жизни мало внешних событий, а свой внутренний мир я предпочитал не выставлять напоказ, не хранил архивов, не вел дневников и не собирался писать мемуары. О чем же тогда писать?
Автобиография – очень коварный литературный жанр. Его обязательные правила: не лгать, не хвастаться, не жаловаться, не сводить счеты с покойниками (если ты кого-то пережил, это не значит, что за тобой осталось последнее слово), не увлекаться деталями, которые современному читателю непонятны и неинтересны, и не пытаться повлиять на мнение потомков (то, чего ты не смог объяснить при жизни, после смерти заведомо не удастся). А если паче чаяния – большинству мемуаристов это не удается – ты сумеешь преодолеть все эти соблазны, твой текст утратит обаяние личного документа и тем самым – право на публичное существование. Зачем же было браться за оружие?
Эта книга – не автобиография, а всего лишь рассказ о моей работе. Я всю жизнь работал на стыке разных общественных и гуманитарных наук, часто делая то, чего не смели или не умели другие, и моя работа не оставляла окружающих равнодушными. Я хочу через свой жизненный опыт, средоточием коего была моя научная работа, поведать о прошедшем и давно прошедшем времени, почему я заинтересовался той или иной проблемой и что из этого получилось.
Еще недавно казалось, что советские условия безвозвратно ушли в прошлое и мало кому интересны. Но сейчас наше общество все больше напоминает мне ту страну, в которой я прожил первые шестьдесят лет своей жизни. 99 %-ная явка и такое же единодушное голосование за партию власти в свободной демократической Чечне – это даже лучше, чем в позднесоветские времена. А коль скоро это так, прошлый опыт важен не только будущим историкам, о нем полезно знать и современным молодым людям, даже если они сами этого пока не осознают.
Мой рассказ имеет два среза: событийный – где и с кем я работал, и проблемно-тематический – как развивались мои научные интересы. Но начать придется с соображений общего характера.
Времена и нравы
…И палачи и узники обычными были людьми:
масса людей доставлялась в лагерь,
масса людей доставляла в лагерь —
одни доставляли других,
но и эти и те были люди.
Многие из тех,
которые были предназначены
играть роль узников,
выросли в том же мире,
что и те, кто попал на роль палачей.
Кто знает,
многие, если бы их не назначила судьба
на роль узников,
могли бы стать палачами.
Петер Вайс
Любые воспоминания субъективны и пристрастны. Самоотчет – не просто перечень сделанного, но и самооценка, причем ретроспективная, в конце пути. Давно сказано: все хорошее о себе говори сам, плохое о тебе скажут твои друзья. В наши дни всеобщей переоценки ценностей и взаимного агрессивного сведения счетов этот совет особенно соблазнителен. Очень хочется уверить себя и других, что ты всегда был хорошим и праведным, а если некоторые твои сочинения сегодня «не смотрятся», повинны только время и объективные условия. Увы, из песни слова не выкинешь. Мы, мое поколение, были не только жертвами безвременья, но и его соучастниками.
Я начал заниматься наукой очень рано, в совсем юном, по нашим меркам, возрасте. В пятнадцать лет я стал студентом, в девятнадцать – окончил педагогический институт, в двадцать два года имел две кандидатских степени. Однако это не было следствием раннего интеллектуального созревания. Скорее даже наоборот. По складу характера и воспитанию я был типичным первым учеником, который легко схватывает поверхность вещей и быстро движется вперед, не особенно оглядываясь по сторонам. Быть первым учеником всегда плохо, это увеличивает опасность конформизма. Быть отличником в плохой школе – а сталинская школа учебы и жизни была во всех отношениях отвратительна, – опасно вдвойне; для способного и честолюбивого юноши нет ничего страшнее старательного усвоения ложных взглядов и почтения к плохим учителям. Если бы не социальная маргинальность, связанная с еврейской фамилией, закрывавшая путь к политической карьере и способствовавшая развитию изначально скептического склада мышления, из меня вполне мог бы вырасти идеологический погромщик или преуспевающий партийный функционер.
Ведь убедить себя в истинности того, что выгодно и с чем опасно спорить, так легко… Плюс – агрессивное юношеское невежество, которому всегда импонирует сила. Мальчишке, который не читал ни строчки Анны Ахматовой, а с Пастернаком был знаком по одной-единственной стихотворной пародии, было нетрудно поверить докладу Жданова. Рассуждения Лысенко, в силу их примитивности, усваивались гораздо легче, чем сложные генетические теории. Дело было не в частностях, а в самом стиле мышления: все официальное, идущее сверху, было по определению правильно, а если ты этого не понимал – значит, ты неправ. Просматривая сейчас свои статьи 1950-х годов, я поражаюсь их примитивности, грубости и цитатничеству. Но тогда я нисколько не сомневался, что именно так и только так можно и нужно писать.
Значит ли это, что я всему верил или сознательно лгал? Ни то ни другое.
Будучи от природы неглупым мальчиком и видя кругом несовпадение слова и дела, я еще на студенческой скамье начал сомневаться в истинности некоторых догм и положений истории КПСС. Но сомнения мои касались не столько общих принципов, сколько способов их осуществления (религия хороша, да служители культа плохи), и, как правило, не додумывались до конца.
У нас дома никогда не было портретов Сталина, я не верил историям о «врагах народа» и тому, что за все недостатки советской жизни ответственны Иудушка Троцкий и иностранные разведки. Хороший студент-историк, я и без подсказок извне понял, что если бы все эти люди, как нас учили, чуть ли не с дореволюционных времен состояли между собой в сговоре, они могли сразу после смерти Ленина выкинуть из ЦК крошечную кучку «праведников», не дожидаясь, пока те окажутся в большинстве и разобьют их поодиночке. Но сочинений их я, разумеется, не читал (в аспирантские годы прочитал одну книгу Бухарина, до Троцкого так и не добрался) и никаких сомнений в теоретической гениальности вождя народов у меня не возникало. А если и возникали, то профессора их легко рассеивали.
Помню, на младших курсах я засомневался в реальности растянувшейся на несколько веков «революции рабов», которую Сталин «открыл» в речи на съезде колхозников-ударников, начинавшейся, если мне не изменяет память, примерно такими словами: «Я не собирался выступать, но Лазарь Моисеевич (Каганович. – И. К.) говорит, что надо, поэтому скажу…» Однако уважаемый профессор-античник лет на десять убедил меня, что, принимая во внимание динамику темпов исторического развития, пятисотлетняя революция вполне возможна. Верил ли он этому или говорил по долгу службы, я никогда не узнаю. Позже я и сам нередко «пудрил мозги» своим студентам, если они задавали «неудобные» вопросы…
Еще на студенческой скамье занявшись научной работой, я сначала инстинктивно, а потом сознательно избегал откровенно конъюнктурных тем, предпочитая такие сюжеты, в которых идеологический контроль был слабее (этим отчасти объясняется и смена моих научных интересов). Но это не всегда можно было вычислить заранее. К тому же меня интересовали преимущественно теоретические вопросы, а философские статьи без ссылок на партийные документы были просто немыслимы. В философских работах 1940—50-х годов цитаты из классиков марксизма-ленинизма порой составляли половину объема, их общеизвестность никого не смущала, а самостоятельность, напротив, вызывала подозрения и пренебрежительно называлась «отсебятиной».
Став старше, я научился сводить обязательные ритуальные приседания к минимуму, цитируя только те высказывания, с которыми был внутренне согласен, и предпочитая ссылки на безличные официальные документы «персональному» прославлению вождей. Но наука эта была долгой, а внешняя косметическая чистоплотность отнюдь не избавляла от интеллектуальных и нравственных компромиссов. Вначале они не были даже компромиссами, потому что самоцензура действовала автоматически и была эффективнее цензуры внешней.
Впрочем, и внешнюю цензуру нельзя недооценивать. Она была всеобъемлющей и проявлялась даже в мелочах. Например, в первоначальном варианте моя книга «Дружба» (1980) открывалась эпиграфом из Шопенгауэра: «Истинная дружба – одна из тех вещей, о которых, как о гигантских морских змеях, неизвестно, являются ли они вымышленными или где-то существуют». Издательство ничего не имело ни против данной мысли, ни против цитирования Шопенгауэра. Но открывать книгу словами «реакционного буржуазного философа» Политиздат счел неудобным. Пришлось эту цитату перенести в текст и искать другой эпиграф. В работу включилась редактор книги Марина Александровна Лебедева, с которой мы много лет плодотворно сотрудничали.
И вот получаю от нее письмо: «И. С., я нашла подходящую цитату из Маркса. Мысль та же, что у Шопенгауэра, и никто не придерется». Дальше следовал такой текст: «…Истинный брак, истинная дружба нерушимы, но… никакой брак, никакая дружба не соответствуют полностью своему понятию». Цитата мне понравилась, но смутило, почему в ней два отточия. Открыл том Маркса и прочитал следующее: «Истинное государство, истинный брак, истинная дружба нерушимы, но никакое государство, никакой брак, никакая дружба не соответствуют полностью своему понятию».
Отвечаю Лебедевой: эпиграф подходит, но, давайте, восстановим его полный текст, государство это как-нибудь переживет! Но разве можно было даже намеком предположить, что советское государство не полностью «соответствует своему понятию»?! Подлинный текст Маркса был восстановлен только в третьем издании книги. Я мог бы привести сотни подобных примеров. Поэтому не судите нас строже, чем мы того заслуживаем.
Идеологическая лояльность в сталинские и первые послесталинские времена обеспечивалась двояко.
Во-первых, почти в каждом из нас жил внушенный с раннего детства страх. Из моих близких никто не был репрессирован, но я на всю жизнь запомнил, как в 1937 г. у нас в комнате, на стенке, карандашом, незаметно, на всякий случай, были написаны телефоны знакомых, которым я должен был позвонить, если мою маму, беспартийную медсестру, вдруг арестуют. В 1948 г., будучи аспирантом, я видел и слышал, как в Герценовском институте поносили последними словами и выгоняли с работы вчера еще всеми уважаемых профессоров «вейсманистов-морганистов»; один из них, живший в институтском дворе, чтобы избежать встреч с бывшими студентами и коллегами, вместо калитки проходил через дыру в заборе. В 1949 г. подошла очередь «безродных космополитов» и «ленинградского дела». В 1953 г. было дело «врачей-убийц» и так далее.
От такого опыта трудно оправиться. Когда бьют тебя самого, возникает, по крайней мере, психологическое противодействие. А когда у тебя на глазах избивают других, чувствуешь прежде всего собственную незащищенность, страх, что это может случиться и с тобой. Чтобы отгородиться от этого страха, человек заставляет себя верить, что, может быть, «эти люди» все-таки в чем-то виноваты, а ты не такой, и с тобой этого не произойдет. Но полностью убедить себя не удается, поэтому ты чувствуешь себя подлым трусом. А вместе с чувством личного бессилия рождается и укореняется социальная безответственность. Тысячи людей монотонно повторяют: «Ну что я могу один?»
Второй защитный механизм – описанное Джорджем Оруэллом двоемыслие, когда человек может иметь по одному и тому же вопросу два противоположных, но одинаково искренних мнения. Двоемыслие – предельный случай отчуждения личности, разорванности ее официальной и частной жизни. В какой-то степени оно было необходимым условием выживания. Тот, кто жил в мире официальных лозунгов и формул, был обречен на конфликт с системой. Рано или поздно он должен был столкнуться с тем, что реальная жизнь протекает вовсе не по законам социалистического равенства и что мало кто принимает их всерьез. А тот, кто понимал, что сами эти принципы ложны, был обречен на молчание или сознательное лицемерие. Последовательных циников на свете не так уж много, и они редко бывают счастливы. Большинство людей бессознательно принимают в таких случаях стратегию двоемыслия, их подлинное «Я» открывается даже им самим только в критических, конфликтных ситуациях.
До ХХ съезда партии, открывшего процесс десталинизации страны (1956), эти вопросы меня мало заботили, мне даже в голову не приходило, что не обязательно сверять свои мысли с ответом в конце задачника, – отличники учебы любят готовые ответы. А когда я постепенно поумнел, то научился выражать наиболее важные и крамольные мысли между строк, эзоповым языком, не вступая в прямую конфронтацию с системой. Читатели 1960—70-х годов этот язык отлично понимали, его расшифровка даже доставляла всем нам некоторое эстетическое удовольствие, и возникало чувство «посвященности», принадлежности к особому кругу. Но при этом мысль неизбежно деформировалась. Мало того, что ее можно было истолковывать по-разному. Если долго живешь по формуле «два пишем, три в уме», в конце концов сам забываешь, что у тебя в уме, и уже не можешь ответить на прямой вопрос не из страха, а от незнания. Поэтому такой психологически трудной оказалась для многих из нас желанная гласность. Людям, выросшим в атмосфере двоемыслия и «новояза», тяжело переходить на нормальную человеческую речь.
Я не говорю уже о неизбежных нравственных деформациях. Психологически все человеческие качества, будь то ум, честность или смелость, относительны, но в моральном смысле быть «не совсем честным» – то же самое, что «немножечко беременным». И когда ты это осознаешь – уважать себя становится невозможно.
Игорь Семенович Кон
Новая книга известного российского ученого-обществоведа И.С.Кона представляет собой род интеллектуальной автобиографии. Игорь Кон всю жизнь работал на стыке разных общественных и гуманитарных наук: социологии, истории, антропологии, психологии и сексологии. С его именем тесно связано рождение в России таких дисциплин, как история социологии, социология личности, психология юношеского возраста, этнография детства, сексология. Некоторые его книги ломали привычные представления и становились бестселлерами. Свободно, занимательно, порою весьма самокритично Кон рассказывает о себе и своем времени: как формировались его научные интересы, что побуждало его переходить от одних проблем и дисциплин к другим, насколько свободным был этот выбор и как его личные интересы пересекались с проблемами общества. У современников автора это может пробудить собственные воспоминания, а молодежи поможет лучше понять наше недавнее прошлое, которое, возможно, не такое уж прошлое…
Игорь Кон
80 лет одиночества
Предисловие
Много ли мы знаем жизнеописаний, рисующих безмятежное, спокойное непрерывное развитие индивидуума? Жизнь наша, как и то целое, составными частями которого мы являемся, непостижимым образом слагается из свободы и необходимости. Наша воля – предвозвещение того, что мы совершим при любых обстоятельствах. Но эти же обстоятельства на свой лад завладевают нами. «Что» определяем мы, «как» редко от нас зависит, а «почему» мы не смеем допытываться…
Иоганн Вольфганг Гёте
Идею этой книги мне подсказал директор Института этнологии и антропологии В. А. Тишков. После того как я никому не напомнил о своем семидесяти– и семидесятипятилетии, Валерий Александрович сказал, что надо бы подготовить по этому случаю какой-нибудь сборник статей. Однако отвлекаться от собственной работы ради составления сборника «имени мине» неинтересно, а обременять этим посторонних людей (сотрудников в строгом смысле слова у меня нет) неэтично. Честно говоря, я вообще не люблю юбилеев – очень уж они напоминают похороны. Единственная разница, что покойник спокойно лежит и слушает, как его хвалят, а юбиляр, если он сам или его друзья не подсуетятся, то и дело будет ощущать, что его недохвалили. Конечно, когда хвалят – приятнее, чем когда ругают, тем более что хотя на чужих юбилеях люди фальшивят, на твоем они говорят чистую правду. Но я человек скептического склада ума, стараюсь не доставлять окружающим лишних забот и от круглых дат обычно уезжаю; если доживу и сумею – поступлю так и на сей раз.
К тому же междисциплинарность моей работы делает такое сборище затруднительным. Если пригласить не только этнографов, но и социологов, философов, психологов, демографов, педагогов, историков, культурологов, сексологов, андрологов, к работе которых я был так или иначе причастен, институтский зал окажется недостаточно вместительным, а если кого-то не известить – могут быть обиды. Так уж мы устроены: когда куда-то зовут, думаешь, как выкроить время, а если не зовут, обижаешься, что тебя забыли.
Два сборника избранных статей – «Социологическая психология» (1999) и «Междисциплинарные исследования» (2006) – с большими автобиографическими предисловиями я опубликовал вне связи с юбилейными датами. Но все-таки восьмидесятилетие – дата серьезная. Почему бы между двумя новыми научными книгами «Мужчина в меняющемся мире» и «Мальчик – отец мужчины» не сделать легкую автобиографическую паузу? Сделай паузу, скушай «Твикс».
Этой книгой я как бы говорю своим коллегам (друзья – совсем другое дело, они помнят о тебе не только по праздникам): пожалуйста, не беспокойтесь, все хорошее о себе я рассказал сам, а плохого на юбилеях говорить не принято. Пока удается – будем продолжать работу, а дальше видно будет…
Но нужна ли такая книга читателю? Юбилей надо заслужить. Говорят, что мужчина, чтобы состояться, должен родить сына, построить дом и посадить дерево. Я не сделал ни первого, ни второго, ни третьего, не совершил никаких подвигов, не сделал замечательных открытий, не создал научной школы, не сидел в тюрьме, никуда не избирался и вообще мало в чем участвовал. В моей жизни мало внешних событий, а свой внутренний мир я предпочитал не выставлять напоказ, не хранил архивов, не вел дневников и не собирался писать мемуары. О чем же тогда писать?
Автобиография – очень коварный литературный жанр. Его обязательные правила: не лгать, не хвастаться, не жаловаться, не сводить счеты с покойниками (если ты кого-то пережил, это не значит, что за тобой осталось последнее слово), не увлекаться деталями, которые современному читателю непонятны и неинтересны, и не пытаться повлиять на мнение потомков (то, чего ты не смог объяснить при жизни, после смерти заведомо не удастся). А если паче чаяния – большинству мемуаристов это не удается – ты сумеешь преодолеть все эти соблазны, твой текст утратит обаяние личного документа и тем самым – право на публичное существование. Зачем же было браться за оружие?
Эта книга – не автобиография, а всего лишь рассказ о моей работе. Я всю жизнь работал на стыке разных общественных и гуманитарных наук, часто делая то, чего не смели или не умели другие, и моя работа не оставляла окружающих равнодушными. Я хочу через свой жизненный опыт, средоточием коего была моя научная работа, поведать о прошедшем и давно прошедшем времени, почему я заинтересовался той или иной проблемой и что из этого получилось.
Еще недавно казалось, что советские условия безвозвратно ушли в прошлое и мало кому интересны. Но сейчас наше общество все больше напоминает мне ту страну, в которой я прожил первые шестьдесят лет своей жизни. 99 %-ная явка и такое же единодушное голосование за партию власти в свободной демократической Чечне – это даже лучше, чем в позднесоветские времена. А коль скоро это так, прошлый опыт важен не только будущим историкам, о нем полезно знать и современным молодым людям, даже если они сами этого пока не осознают.
Мой рассказ имеет два среза: событийный – где и с кем я работал, и проблемно-тематический – как развивались мои научные интересы. Но начать придется с соображений общего характера.
Времена и нравы
…И палачи и узники обычными были людьми:
масса людей доставлялась в лагерь,
масса людей доставляла в лагерь —
одни доставляли других,
но и эти и те были люди.
Многие из тех,
которые были предназначены
играть роль узников,
выросли в том же мире,
что и те, кто попал на роль палачей.
Кто знает,
многие, если бы их не назначила судьба
на роль узников,
могли бы стать палачами.
Петер Вайс
Любые воспоминания субъективны и пристрастны. Самоотчет – не просто перечень сделанного, но и самооценка, причем ретроспективная, в конце пути. Давно сказано: все хорошее о себе говори сам, плохое о тебе скажут твои друзья. В наши дни всеобщей переоценки ценностей и взаимного агрессивного сведения счетов этот совет особенно соблазнителен. Очень хочется уверить себя и других, что ты всегда был хорошим и праведным, а если некоторые твои сочинения сегодня «не смотрятся», повинны только время и объективные условия. Увы, из песни слова не выкинешь. Мы, мое поколение, были не только жертвами безвременья, но и его соучастниками.
Я начал заниматься наукой очень рано, в совсем юном, по нашим меркам, возрасте. В пятнадцать лет я стал студентом, в девятнадцать – окончил педагогический институт, в двадцать два года имел две кандидатских степени. Однако это не было следствием раннего интеллектуального созревания. Скорее даже наоборот. По складу характера и воспитанию я был типичным первым учеником, который легко схватывает поверхность вещей и быстро движется вперед, не особенно оглядываясь по сторонам. Быть первым учеником всегда плохо, это увеличивает опасность конформизма. Быть отличником в плохой школе – а сталинская школа учебы и жизни была во всех отношениях отвратительна, – опасно вдвойне; для способного и честолюбивого юноши нет ничего страшнее старательного усвоения ложных взглядов и почтения к плохим учителям. Если бы не социальная маргинальность, связанная с еврейской фамилией, закрывавшая путь к политической карьере и способствовавшая развитию изначально скептического склада мышления, из меня вполне мог бы вырасти идеологический погромщик или преуспевающий партийный функционер.
Ведь убедить себя в истинности того, что выгодно и с чем опасно спорить, так легко… Плюс – агрессивное юношеское невежество, которому всегда импонирует сила. Мальчишке, который не читал ни строчки Анны Ахматовой, а с Пастернаком был знаком по одной-единственной стихотворной пародии, было нетрудно поверить докладу Жданова. Рассуждения Лысенко, в силу их примитивности, усваивались гораздо легче, чем сложные генетические теории. Дело было не в частностях, а в самом стиле мышления: все официальное, идущее сверху, было по определению правильно, а если ты этого не понимал – значит, ты неправ. Просматривая сейчас свои статьи 1950-х годов, я поражаюсь их примитивности, грубости и цитатничеству. Но тогда я нисколько не сомневался, что именно так и только так можно и нужно писать.
Значит ли это, что я всему верил или сознательно лгал? Ни то ни другое.
Будучи от природы неглупым мальчиком и видя кругом несовпадение слова и дела, я еще на студенческой скамье начал сомневаться в истинности некоторых догм и положений истории КПСС. Но сомнения мои касались не столько общих принципов, сколько способов их осуществления (религия хороша, да служители культа плохи), и, как правило, не додумывались до конца.
У нас дома никогда не было портретов Сталина, я не верил историям о «врагах народа» и тому, что за все недостатки советской жизни ответственны Иудушка Троцкий и иностранные разведки. Хороший студент-историк, я и без подсказок извне понял, что если бы все эти люди, как нас учили, чуть ли не с дореволюционных времен состояли между собой в сговоре, они могли сразу после смерти Ленина выкинуть из ЦК крошечную кучку «праведников», не дожидаясь, пока те окажутся в большинстве и разобьют их поодиночке. Но сочинений их я, разумеется, не читал (в аспирантские годы прочитал одну книгу Бухарина, до Троцкого так и не добрался) и никаких сомнений в теоретической гениальности вождя народов у меня не возникало. А если и возникали, то профессора их легко рассеивали.
Помню, на младших курсах я засомневался в реальности растянувшейся на несколько веков «революции рабов», которую Сталин «открыл» в речи на съезде колхозников-ударников, начинавшейся, если мне не изменяет память, примерно такими словами: «Я не собирался выступать, но Лазарь Моисеевич (Каганович. – И. К.) говорит, что надо, поэтому скажу…» Однако уважаемый профессор-античник лет на десять убедил меня, что, принимая во внимание динамику темпов исторического развития, пятисотлетняя революция вполне возможна. Верил ли он этому или говорил по долгу службы, я никогда не узнаю. Позже я и сам нередко «пудрил мозги» своим студентам, если они задавали «неудобные» вопросы…
Еще на студенческой скамье занявшись научной работой, я сначала инстинктивно, а потом сознательно избегал откровенно конъюнктурных тем, предпочитая такие сюжеты, в которых идеологический контроль был слабее (этим отчасти объясняется и смена моих научных интересов). Но это не всегда можно было вычислить заранее. К тому же меня интересовали преимущественно теоретические вопросы, а философские статьи без ссылок на партийные документы были просто немыслимы. В философских работах 1940—50-х годов цитаты из классиков марксизма-ленинизма порой составляли половину объема, их общеизвестность никого не смущала, а самостоятельность, напротив, вызывала подозрения и пренебрежительно называлась «отсебятиной».
Став старше, я научился сводить обязательные ритуальные приседания к минимуму, цитируя только те высказывания, с которыми был внутренне согласен, и предпочитая ссылки на безличные официальные документы «персональному» прославлению вождей. Но наука эта была долгой, а внешняя косметическая чистоплотность отнюдь не избавляла от интеллектуальных и нравственных компромиссов. Вначале они не были даже компромиссами, потому что самоцензура действовала автоматически и была эффективнее цензуры внешней.
Впрочем, и внешнюю цензуру нельзя недооценивать. Она была всеобъемлющей и проявлялась даже в мелочах. Например, в первоначальном варианте моя книга «Дружба» (1980) открывалась эпиграфом из Шопенгауэра: «Истинная дружба – одна из тех вещей, о которых, как о гигантских морских змеях, неизвестно, являются ли они вымышленными или где-то существуют». Издательство ничего не имело ни против данной мысли, ни против цитирования Шопенгауэра. Но открывать книгу словами «реакционного буржуазного философа» Политиздат счел неудобным. Пришлось эту цитату перенести в текст и искать другой эпиграф. В работу включилась редактор книги Марина Александровна Лебедева, с которой мы много лет плодотворно сотрудничали.
И вот получаю от нее письмо: «И. С., я нашла подходящую цитату из Маркса. Мысль та же, что у Шопенгауэра, и никто не придерется». Дальше следовал такой текст: «…Истинный брак, истинная дружба нерушимы, но… никакой брак, никакая дружба не соответствуют полностью своему понятию». Цитата мне понравилась, но смутило, почему в ней два отточия. Открыл том Маркса и прочитал следующее: «Истинное государство, истинный брак, истинная дружба нерушимы, но никакое государство, никакой брак, никакая дружба не соответствуют полностью своему понятию».
Отвечаю Лебедевой: эпиграф подходит, но, давайте, восстановим его полный текст, государство это как-нибудь переживет! Но разве можно было даже намеком предположить, что советское государство не полностью «соответствует своему понятию»?! Подлинный текст Маркса был восстановлен только в третьем издании книги. Я мог бы привести сотни подобных примеров. Поэтому не судите нас строже, чем мы того заслуживаем.
Идеологическая лояльность в сталинские и первые послесталинские времена обеспечивалась двояко.
Во-первых, почти в каждом из нас жил внушенный с раннего детства страх. Из моих близких никто не был репрессирован, но я на всю жизнь запомнил, как в 1937 г. у нас в комнате, на стенке, карандашом, незаметно, на всякий случай, были написаны телефоны знакомых, которым я должен был позвонить, если мою маму, беспартийную медсестру, вдруг арестуют. В 1948 г., будучи аспирантом, я видел и слышал, как в Герценовском институте поносили последними словами и выгоняли с работы вчера еще всеми уважаемых профессоров «вейсманистов-морганистов»; один из них, живший в институтском дворе, чтобы избежать встреч с бывшими студентами и коллегами, вместо калитки проходил через дыру в заборе. В 1949 г. подошла очередь «безродных космополитов» и «ленинградского дела». В 1953 г. было дело «врачей-убийц» и так далее.
От такого опыта трудно оправиться. Когда бьют тебя самого, возникает, по крайней мере, психологическое противодействие. А когда у тебя на глазах избивают других, чувствуешь прежде всего собственную незащищенность, страх, что это может случиться и с тобой. Чтобы отгородиться от этого страха, человек заставляет себя верить, что, может быть, «эти люди» все-таки в чем-то виноваты, а ты не такой, и с тобой этого не произойдет. Но полностью убедить себя не удается, поэтому ты чувствуешь себя подлым трусом. А вместе с чувством личного бессилия рождается и укореняется социальная безответственность. Тысячи людей монотонно повторяют: «Ну что я могу один?»
Второй защитный механизм – описанное Джорджем Оруэллом двоемыслие, когда человек может иметь по одному и тому же вопросу два противоположных, но одинаково искренних мнения. Двоемыслие – предельный случай отчуждения личности, разорванности ее официальной и частной жизни. В какой-то степени оно было необходимым условием выживания. Тот, кто жил в мире официальных лозунгов и формул, был обречен на конфликт с системой. Рано или поздно он должен был столкнуться с тем, что реальная жизнь протекает вовсе не по законам социалистического равенства и что мало кто принимает их всерьез. А тот, кто понимал, что сами эти принципы ложны, был обречен на молчание или сознательное лицемерие. Последовательных циников на свете не так уж много, и они редко бывают счастливы. Большинство людей бессознательно принимают в таких случаях стратегию двоемыслия, их подлинное «Я» открывается даже им самим только в критических, конфликтных ситуациях.
До ХХ съезда партии, открывшего процесс десталинизации страны (1956), эти вопросы меня мало заботили, мне даже в голову не приходило, что не обязательно сверять свои мысли с ответом в конце задачника, – отличники учебы любят готовые ответы. А когда я постепенно поумнел, то научился выражать наиболее важные и крамольные мысли между строк, эзоповым языком, не вступая в прямую конфронтацию с системой. Читатели 1960—70-х годов этот язык отлично понимали, его расшифровка даже доставляла всем нам некоторое эстетическое удовольствие, и возникало чувство «посвященности», принадлежности к особому кругу. Но при этом мысль неизбежно деформировалась. Мало того, что ее можно было истолковывать по-разному. Если долго живешь по формуле «два пишем, три в уме», в конце концов сам забываешь, что у тебя в уме, и уже не можешь ответить на прямой вопрос не из страха, а от незнания. Поэтому такой психологически трудной оказалась для многих из нас желанная гласность. Людям, выросшим в атмосфере двоемыслия и «новояза», тяжело переходить на нормальную человеческую речь.
Я не говорю уже о неизбежных нравственных деформациях. Психологически все человеческие качества, будь то ум, честность или смелость, относительны, но в моральном смысле быть «не совсем честным» – то же самое, что «немножечко беременным». И когда ты это осознаешь – уважать себя становится невозможно.