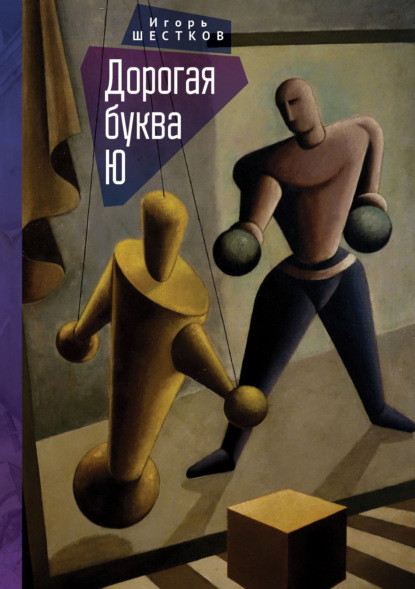По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Дорогая буква Ю
Автор
Год написания книги
2021
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Звонит мне организатор и предлагает через час прибыть в дирекцию Дома актера. Я естественно о плохом не думал, а решил, что они хотят мою картину купить, и уже начал было размышлять о том, как на эти деньги душевую отремонтирую… красок накуплю… и черешни…
Встречает меня директор, сам бывший драматический актер… Мефистофеля играл… и говорит: «К нам поступило коллективное письмо от публики. В нем утверждается, что вы издеваетесь над жертвами Аушвица».
Я опешил. К такому повороту дела готов не был. Начал что-то лепетать…
– Что вы? Я не издеваюсь… В нашей семье тоже есть погибшие…
Но смягчить Мефистофеля мне не удалось. Работу мне пришлось снимать самому. Кажется, даже две, так что в графическом ряду образовались прорехи.
Вроде как выбитые зубы.
А третий случай, смешной, произошел еще в доперестроечную эпоху, в СССР примерно в 1983-м году.
В Москве тогда, несмотря на закрученные в андроповщину гайки, регулярно устраивались «общие» осенне-весенние выставки «художников-нонконформистов» в подвале дома на Малой Грузинской улице, где еще несколько лет до этого жил Высоцкий, где он, к слову говоря, и умер от переохлаждения на балконе, куда его после того, как он напился и стал буен, якобы положили, связанного, друзья.
Выставки эти были московским начальством разрешены, но не одобрены, в газетах о них писали редко… Клеймили, осуждали…
Но очереди на вход были длиннющие – километровые.
Я показывал на них по две-три работы (приходилось каждый раз проходить специальную комиссию).
И вот… и тут после открытия выставки… вызывает меня к себе тамошний шеф Дробицкий по кличке «Дробила». Здоровенный такой мужик в прямоугольных очках.
– Слушай, – говорит. – Чего это у тебя за знаки на картинах нарисованы? Каббала? Или по-еврейски что-то?
– Что вы, какая такая Каббала? И по-еврейски я не умею.
– Тут ко мне группа зрителей обратилась. Утверждают, что знаки твои – антисоветские, могут как-то навредить… социалистическому строительству…
– Навредить? Строительству? Вы что…
– Ты рожу обиженную не строй, а садись и пиши объяснительную записку. Вот бумага. Диктую. Я такой-то, такой-то, проживающий там-то и там-то, телефон напиши, удостоверяю, что на моих картинах, выставленных в залах московского Горкома графиков – нет никакой непозволительной религиозной символики, нет каббалистических знаков или других вредоносных изображений, способных причинить урон… хм… нашей социалистической родине. И подпись поставь. Да не лыбься ты! Лыбятся все, шутки шуткуют… а мне потом – расхлебывать ваше дерьмо! Не понимаешь, с кем дело имеешь! Представитель горкома партии меня спрашивал… Он может и выставку закрыть из-за твоих каракулей… 300 человек пострадают…
Я бумагу написал и подписал.
Несколько слов об эмиграции
(отрывки из интервью)
Решение об отъезде из СССР, принятое мной в феврале 1990 года, не было мимолетным капризом, оно было реакцией на страшные удары и бесконечные маленькие гадости, которыми наша советская Родина щедро одаривала и меня и других своих граждан.
Первым таким ударом, в буквальном смысле перебившем мне и многим другим молодым людям дыхание, был разгон летом 1971 года знаменитой московской «математической, с литературным уклоном», Второй школы, в которой я тогда учился, закончил как раз восьмой класс. Об этой школе, точнее – об этом островке свободы в советском океане лжи и подлости – написаны бесчисленные воспоминания выпускников и бывших учителей, разбросанных по всему свету, издано несколько книг. Поэтому я не буду распространяться, замечу только, что я никогда ни до своих неполных трех лет во Второй школе, ни после не встречал стольких умных, свободных, творческих людей как там. Мехмат МГУ, где я учился, казался после Второй школы – замшелым захолустьем. В институте, в котором я после мехмата десять лет сидел, работали, конечно, умные люди, талантливые, остро думающие ученые, но затхлая атмосфера госучреждения и страх за собственную судьбу и карьеру заставляли их забиваться в норы, превращали их в подобострастных совков, рабов начальства и государства, проповедников злобного советского обскурантизма. В Германии я познакомился с различными людьми. Встречались среди них и таланты и умницы, но второшкольники мне были роднее и ближе… Может быть потому, что среди них преобладали интеллигентные евреи, полуевреи или люди, находящиеся в родственных или дружеских связях с евреями, а в Германии таких людей по известным причинам нет.
В Москве-Ленинграде конца шестидесятых, начала семидесятых существовал неформальный еврейский культурный круг. Что-то вроде живого интернета. В этот круг входили не только евреи и ивановы-по-матери, но и тысячи их друзей и знакомых. Этот круг был хранилищем и распространителем знаний и культуры. Он вбирал в себя все хорошее, что тогда создавалось, писалось, снималось и щедро делился этим со своими людьми. На симфоническом концерте в консерватории, на показе фильмов Феллини в «Иллюзионе», на встрече с Роланом Быковым или Тарковским, на защите докторской диссертации по математике или лингвистике – везде присутствовали представители этого сообщества. Они же читали каждую заслуживающую внимания книгу, слушали иностранные «голоса», ходили на лучшие концерты, присутствовали на процессах против диссидентов – и вот уже по телефону или «по кухонным каналам» неслась проверенная и критически осознанная информация. Привлекалось внимание. Создавалось культурное пространство.
Одним из генераторов этого пространства и была Вторая школа. Она воспитывала самостоятельно думающих, умеющих учиться и читать тексты творческих людей, будущих ученых. Процент евреев-учеников и педагогов в ней был велик. За это ее и ненавидели советские начальники. Вначале в школу послали комиссию, потом сняли директора – Овчинникова и разогнали учителей. Ученики ушли сами.
Ушли мои любимые учителя. Наш класс опустел. Ушла и девочка, в которую я был влюблен. Мне больше ходить в школу не хотелось. Вместо того, чтобы идти на уроки, я с моим другом Женькой ехал в кинотеатр «Иллюзион» и смотрел там американские комедии тридцатых годов. После кино мы гуляли по тогда еще пустой Москве, ели мороженое и болтали… Расставшись с Женей у Октябрьской площади, я уходил бродить по переулкам Замоскворечья или ехал на Арбат, в Дом Книги, или заходил в Пушкинский музей.
Тогда, во время этих одиноких прогулок по Москве и по музейным залам я впервые ощутил странное блаженное чувство отторгнутости от «правильной» жизни, от коллектива, от общества, от моей безумной страны, безнадежно отравленной советчиной.
Это и было началом эмиграции. Вначале – внутренней, а после переросшей в настоящую.
К сожалению, этим первым ударом дело не ограничилось. После него последовали и другие. Один другого тяжелее.
Грянул Чернобыль. Утонул «Нахимов». Горбачев попытался оживить труп – перестройкой, а когда не вышло – попробовал было грубой силой скрепить разваливающийся СССР. В 90-м году стало ясно, что мы все стоим на краю пропасти. В магазинах пропали те немногие продукты, которые еще там были. Социальная духота предвещала бурю. Пора было уезжать.
…
Я приехал в Дрезден в конце сентября 1990 года по туристическому приглашению. Виза была мне открыта на две недели. После посещения Западного Берлина я твердо решил никогда не возвращаться на родину. О том, что в Германии можно остаться по «еврейской линии», я и понятия не имел.
Я, конечно, мог пойти в полицию и попросить на общих основаниях политического убежища. Чутье однако подсказывало мне – не ходи, ничего хорошего из этого не выйдет.
Был и другой путь – поехать во франкфуртский аэропорт, найти там каких-нибудь представителей израильского Сахнута, и заявить им, что хочу в Израиль. Они бы, полагаю, тут же меня отправили в Землю Обетованную. От этого шага меня удержали страхи. Не смейтесь, пожалуйста! Я боялся жары и языка иврит. Не хотел быть пушечным мясом. Как еврей по отцу я справедливо полагал, что стопроцентные аиды мне об этой моей половинчатости не раз злорадно напомнят. Да еще и арабы вокруг, и армейская служба. И жара, жара, жара… Надо было остаться в милой цивилизованной Европе, только как?
Помог, как всегда, случай. Гулял я по еврейскому кладбищу в Дрездене. Ни на что уже не надеялся. И вот, подходит ко мне маленькая такая старушка, смотрит в мою мрачную харю своими молодыми голубыми глазами, улыбается и говорит мне по-английски: «Вы еврей из СССР?»
– Да.
– Почему вы такой мрачный, что-нибудь случилось?
– Не хочу возвращаться домой.
– Поезжайте в Израиль, там здорово. Представляете, даже водопроводчики и таксисты там евреи!
– Это конечно обнадеживает, но там жарко. Я хочу жить тут, в Германии.
– Понимаю. Тогда вам надо поехать в Берлин и найти еврейскую общину на Ораниенбургерштрассе. Там вам помогут остаться. Спешите, дверка может и захлопнуться.
Я как мог, на плохом английском, поблагодарил мою спасительницу и на следующий же день на последние деньги отправился со своим маленьким рюкзачком в Берлин. Нашел общину. Там со мной говорила какая-то циничная тетка из наших. Тетка была, по-видимому, давно и хорошо в Германии устроена, поэтому на меня она смотрела не без отвращения, особенно ее возмущали моя засаленная анапская матросская фуражка с золотой кокардой в виде краба, подаренная мне две недели назад одним симпатичным рыбаком, и мои, анапские же, коричневые сандалии (сандалии и меня самого приводили в ужас, и не только сандалии, но и зеленоватая курточка с вышитой на рукаве надписью «Мосэнерго» и жёваные брюки и застиранная белая майка, но денег на покупку новой обуви и одежды у меня не было), но дело свое сделала, написала мне адрес на листочке и сказала: «Идите сейчас же туда, там с двух часов таких как вы принимает фрау Шмидт, она поговорит с вами и решит вашу судьбу».
Я поспешил по указанному адресу. Длинное казенное здание находилось где-то за улицей Унтер-ден-Линден. Я поднялся на второй этаж и попал в пустынный коридор, залитый светом. Нашел указанную мне комнату. Постучал. Вошел. И тут же мне захотелось уйти, пропасть, испариться.
В огромной пустой зале стоял стол, за ним сидели двое: импозантная женщина в светлой вязаной кофточке и мужчина в черном. Перед столом стоял стул – на него меня жестами пригласили сесть. А вокруг стола стояли люди с камерами и прожекторами. Много людей. Человек тридцать. Как мне потом сообщили, это были телевизионщики, которым дали задание – показать типичного еврейского беженца из СССР.
Что делать? Ко всему этому я подготовлен не был. Никаких интервью сроду не давал. Людей с камерами побаивался. Какой-то чёрт в голове шепнул мне доверительно: «Да наплюй на все! Вся твоя жизнь – дурацкая комедия. Плыви по течению и наслаждайся представлением. Изменить ты все равно ничего не можешь».
Я послушался чёрта и сел на стул перед столом. На меня смотрело много незнакомых людей (мне казалось – вся Германия), в лицо светили яркие, шипящие как змеи, лампы, я был оглушен, смущен, фуражку с крабом положил на колени.
Говорила со мной женщина – фрау профессор Шмидт. По-русски. Мужчине она мои слова переводила шепотом почему-то на английский. Как-то чувствовалось, что главный тут – именно он, этот черный человек. Хотя фрау Шмидт много лет преподавала русский язык в… ом университете, говорила она неважно, а понимала и того хуже. Но была доброжелательной и спокойной. Говорили мы минут сорок.
Беседа наша записывалась телевизионщиками. Через две недели, когда я уже жил в лагере Глаухау, мое интервью показали по ZDF. Мои солагерники хмыкали. А я сгорал со стыда.
Вначале профессорша внимательно изучила мое свидетельство о рождении и мой внутренний советский паспорт. Потом спросила торжественно: «Господин Шестков, почему вы хотите остаться жить в Германии?»
Камеры и микрофоны впились в меня как скорпионы.
– Потому что в СССР евреи политически преследуются и дискриминируются государством, из-за бытового антисемитизма и страха погромов.
Встречает меня директор, сам бывший драматический актер… Мефистофеля играл… и говорит: «К нам поступило коллективное письмо от публики. В нем утверждается, что вы издеваетесь над жертвами Аушвица».
Я опешил. К такому повороту дела готов не был. Начал что-то лепетать…
– Что вы? Я не издеваюсь… В нашей семье тоже есть погибшие…
Но смягчить Мефистофеля мне не удалось. Работу мне пришлось снимать самому. Кажется, даже две, так что в графическом ряду образовались прорехи.
Вроде как выбитые зубы.
А третий случай, смешной, произошел еще в доперестроечную эпоху, в СССР примерно в 1983-м году.
В Москве тогда, несмотря на закрученные в андроповщину гайки, регулярно устраивались «общие» осенне-весенние выставки «художников-нонконформистов» в подвале дома на Малой Грузинской улице, где еще несколько лет до этого жил Высоцкий, где он, к слову говоря, и умер от переохлаждения на балконе, куда его после того, как он напился и стал буен, якобы положили, связанного, друзья.
Выставки эти были московским начальством разрешены, но не одобрены, в газетах о них писали редко… Клеймили, осуждали…
Но очереди на вход были длиннющие – километровые.
Я показывал на них по две-три работы (приходилось каждый раз проходить специальную комиссию).
И вот… и тут после открытия выставки… вызывает меня к себе тамошний шеф Дробицкий по кличке «Дробила». Здоровенный такой мужик в прямоугольных очках.
– Слушай, – говорит. – Чего это у тебя за знаки на картинах нарисованы? Каббала? Или по-еврейски что-то?
– Что вы, какая такая Каббала? И по-еврейски я не умею.
– Тут ко мне группа зрителей обратилась. Утверждают, что знаки твои – антисоветские, могут как-то навредить… социалистическому строительству…
– Навредить? Строительству? Вы что…
– Ты рожу обиженную не строй, а садись и пиши объяснительную записку. Вот бумага. Диктую. Я такой-то, такой-то, проживающий там-то и там-то, телефон напиши, удостоверяю, что на моих картинах, выставленных в залах московского Горкома графиков – нет никакой непозволительной религиозной символики, нет каббалистических знаков или других вредоносных изображений, способных причинить урон… хм… нашей социалистической родине. И подпись поставь. Да не лыбься ты! Лыбятся все, шутки шуткуют… а мне потом – расхлебывать ваше дерьмо! Не понимаешь, с кем дело имеешь! Представитель горкома партии меня спрашивал… Он может и выставку закрыть из-за твоих каракулей… 300 человек пострадают…
Я бумагу написал и подписал.
Несколько слов об эмиграции
(отрывки из интервью)
Решение об отъезде из СССР, принятое мной в феврале 1990 года, не было мимолетным капризом, оно было реакцией на страшные удары и бесконечные маленькие гадости, которыми наша советская Родина щедро одаривала и меня и других своих граждан.
Первым таким ударом, в буквальном смысле перебившем мне и многим другим молодым людям дыхание, был разгон летом 1971 года знаменитой московской «математической, с литературным уклоном», Второй школы, в которой я тогда учился, закончил как раз восьмой класс. Об этой школе, точнее – об этом островке свободы в советском океане лжи и подлости – написаны бесчисленные воспоминания выпускников и бывших учителей, разбросанных по всему свету, издано несколько книг. Поэтому я не буду распространяться, замечу только, что я никогда ни до своих неполных трех лет во Второй школе, ни после не встречал стольких умных, свободных, творческих людей как там. Мехмат МГУ, где я учился, казался после Второй школы – замшелым захолустьем. В институте, в котором я после мехмата десять лет сидел, работали, конечно, умные люди, талантливые, остро думающие ученые, но затхлая атмосфера госучреждения и страх за собственную судьбу и карьеру заставляли их забиваться в норы, превращали их в подобострастных совков, рабов начальства и государства, проповедников злобного советского обскурантизма. В Германии я познакомился с различными людьми. Встречались среди них и таланты и умницы, но второшкольники мне были роднее и ближе… Может быть потому, что среди них преобладали интеллигентные евреи, полуевреи или люди, находящиеся в родственных или дружеских связях с евреями, а в Германии таких людей по известным причинам нет.
В Москве-Ленинграде конца шестидесятых, начала семидесятых существовал неформальный еврейский культурный круг. Что-то вроде живого интернета. В этот круг входили не только евреи и ивановы-по-матери, но и тысячи их друзей и знакомых. Этот круг был хранилищем и распространителем знаний и культуры. Он вбирал в себя все хорошее, что тогда создавалось, писалось, снималось и щедро делился этим со своими людьми. На симфоническом концерте в консерватории, на показе фильмов Феллини в «Иллюзионе», на встрече с Роланом Быковым или Тарковским, на защите докторской диссертации по математике или лингвистике – везде присутствовали представители этого сообщества. Они же читали каждую заслуживающую внимания книгу, слушали иностранные «голоса», ходили на лучшие концерты, присутствовали на процессах против диссидентов – и вот уже по телефону или «по кухонным каналам» неслась проверенная и критически осознанная информация. Привлекалось внимание. Создавалось культурное пространство.
Одним из генераторов этого пространства и была Вторая школа. Она воспитывала самостоятельно думающих, умеющих учиться и читать тексты творческих людей, будущих ученых. Процент евреев-учеников и педагогов в ней был велик. За это ее и ненавидели советские начальники. Вначале в школу послали комиссию, потом сняли директора – Овчинникова и разогнали учителей. Ученики ушли сами.
Ушли мои любимые учителя. Наш класс опустел. Ушла и девочка, в которую я был влюблен. Мне больше ходить в школу не хотелось. Вместо того, чтобы идти на уроки, я с моим другом Женькой ехал в кинотеатр «Иллюзион» и смотрел там американские комедии тридцатых годов. После кино мы гуляли по тогда еще пустой Москве, ели мороженое и болтали… Расставшись с Женей у Октябрьской площади, я уходил бродить по переулкам Замоскворечья или ехал на Арбат, в Дом Книги, или заходил в Пушкинский музей.
Тогда, во время этих одиноких прогулок по Москве и по музейным залам я впервые ощутил странное блаженное чувство отторгнутости от «правильной» жизни, от коллектива, от общества, от моей безумной страны, безнадежно отравленной советчиной.
Это и было началом эмиграции. Вначале – внутренней, а после переросшей в настоящую.
К сожалению, этим первым ударом дело не ограничилось. После него последовали и другие. Один другого тяжелее.
Грянул Чернобыль. Утонул «Нахимов». Горбачев попытался оживить труп – перестройкой, а когда не вышло – попробовал было грубой силой скрепить разваливающийся СССР. В 90-м году стало ясно, что мы все стоим на краю пропасти. В магазинах пропали те немногие продукты, которые еще там были. Социальная духота предвещала бурю. Пора было уезжать.
…
Я приехал в Дрезден в конце сентября 1990 года по туристическому приглашению. Виза была мне открыта на две недели. После посещения Западного Берлина я твердо решил никогда не возвращаться на родину. О том, что в Германии можно остаться по «еврейской линии», я и понятия не имел.
Я, конечно, мог пойти в полицию и попросить на общих основаниях политического убежища. Чутье однако подсказывало мне – не ходи, ничего хорошего из этого не выйдет.
Был и другой путь – поехать во франкфуртский аэропорт, найти там каких-нибудь представителей израильского Сахнута, и заявить им, что хочу в Израиль. Они бы, полагаю, тут же меня отправили в Землю Обетованную. От этого шага меня удержали страхи. Не смейтесь, пожалуйста! Я боялся жары и языка иврит. Не хотел быть пушечным мясом. Как еврей по отцу я справедливо полагал, что стопроцентные аиды мне об этой моей половинчатости не раз злорадно напомнят. Да еще и арабы вокруг, и армейская служба. И жара, жара, жара… Надо было остаться в милой цивилизованной Европе, только как?
Помог, как всегда, случай. Гулял я по еврейскому кладбищу в Дрездене. Ни на что уже не надеялся. И вот, подходит ко мне маленькая такая старушка, смотрит в мою мрачную харю своими молодыми голубыми глазами, улыбается и говорит мне по-английски: «Вы еврей из СССР?»
– Да.
– Почему вы такой мрачный, что-нибудь случилось?
– Не хочу возвращаться домой.
– Поезжайте в Израиль, там здорово. Представляете, даже водопроводчики и таксисты там евреи!
– Это конечно обнадеживает, но там жарко. Я хочу жить тут, в Германии.
– Понимаю. Тогда вам надо поехать в Берлин и найти еврейскую общину на Ораниенбургерштрассе. Там вам помогут остаться. Спешите, дверка может и захлопнуться.
Я как мог, на плохом английском, поблагодарил мою спасительницу и на следующий же день на последние деньги отправился со своим маленьким рюкзачком в Берлин. Нашел общину. Там со мной говорила какая-то циничная тетка из наших. Тетка была, по-видимому, давно и хорошо в Германии устроена, поэтому на меня она смотрела не без отвращения, особенно ее возмущали моя засаленная анапская матросская фуражка с золотой кокардой в виде краба, подаренная мне две недели назад одним симпатичным рыбаком, и мои, анапские же, коричневые сандалии (сандалии и меня самого приводили в ужас, и не только сандалии, но и зеленоватая курточка с вышитой на рукаве надписью «Мосэнерго» и жёваные брюки и застиранная белая майка, но денег на покупку новой обуви и одежды у меня не было), но дело свое сделала, написала мне адрес на листочке и сказала: «Идите сейчас же туда, там с двух часов таких как вы принимает фрау Шмидт, она поговорит с вами и решит вашу судьбу».
Я поспешил по указанному адресу. Длинное казенное здание находилось где-то за улицей Унтер-ден-Линден. Я поднялся на второй этаж и попал в пустынный коридор, залитый светом. Нашел указанную мне комнату. Постучал. Вошел. И тут же мне захотелось уйти, пропасть, испариться.
В огромной пустой зале стоял стол, за ним сидели двое: импозантная женщина в светлой вязаной кофточке и мужчина в черном. Перед столом стоял стул – на него меня жестами пригласили сесть. А вокруг стола стояли люди с камерами и прожекторами. Много людей. Человек тридцать. Как мне потом сообщили, это были телевизионщики, которым дали задание – показать типичного еврейского беженца из СССР.
Что делать? Ко всему этому я подготовлен не был. Никаких интервью сроду не давал. Людей с камерами побаивался. Какой-то чёрт в голове шепнул мне доверительно: «Да наплюй на все! Вся твоя жизнь – дурацкая комедия. Плыви по течению и наслаждайся представлением. Изменить ты все равно ничего не можешь».
Я послушался чёрта и сел на стул перед столом. На меня смотрело много незнакомых людей (мне казалось – вся Германия), в лицо светили яркие, шипящие как змеи, лампы, я был оглушен, смущен, фуражку с крабом положил на колени.
Говорила со мной женщина – фрау профессор Шмидт. По-русски. Мужчине она мои слова переводила шепотом почему-то на английский. Как-то чувствовалось, что главный тут – именно он, этот черный человек. Хотя фрау Шмидт много лет преподавала русский язык в… ом университете, говорила она неважно, а понимала и того хуже. Но была доброжелательной и спокойной. Говорили мы минут сорок.
Беседа наша записывалась телевизионщиками. Через две недели, когда я уже жил в лагере Глаухау, мое интервью показали по ZDF. Мои солагерники хмыкали. А я сгорал со стыда.
Вначале профессорша внимательно изучила мое свидетельство о рождении и мой внутренний советский паспорт. Потом спросила торжественно: «Господин Шестков, почему вы хотите остаться жить в Германии?»
Камеры и микрофоны впились в меня как скорпионы.
– Потому что в СССР евреи политически преследуются и дискриминируются государством, из-за бытового антисемитизма и страха погромов.