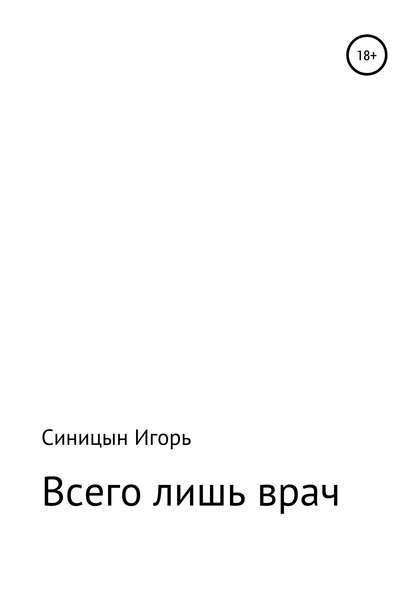По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
«Всего лишь врач»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Запоминай Вера, этот мост с лошадьми называется Аничкин. Кстати, Даша, как правильно Аничкин или Аничков?
– Не знаю.
– А мы с мамой точно таких же лошадей видели в Неаполе, перед воротами в какой-то парк с замком, где проживал царевич Алексей.
– Что, тоже творение Клодта?
– Да, абсолютно такие же, только там их не четыре, а две.
– Значит, и еще где-то могут быть.
– Вполне. Казалось бы , – уникальное произведение искусства, а поди ж ты, наделал копий… Все можно копировать, даже «Давида», один стоит в Уффици другой на площади Сеньории, и не отличишь. Одно только невозможно скопировать – свиную кожу.
– Чего, чего?
– Да это я так… мудрствую.
4.
Он действительно мудрствовал, и злился на себя за это. Все его попытки определить в чем же состоит особенность его прошедшей жизни, и существует ли вообще эта особенность, заканчивались неудачей. Он полагал, что особенность не следует путать с индивидуальностью. То, что жизнь каждого индивидуальна, это понятно. Понятно, что каждый человек идет своим жизненным путем, и на этом пути встречается с только ему предназначенными обстоятельствами, людьми, происшествиями и т.д. Но вот , допустим, все смотрят на одно и тоже небо или на картину художника, они же видят разное, и лишь в общих чертах воспринимают это небо и эту картину одинаково, похоже, и никогда не узнать, в чем именно их восприятие, их впечатление от увиденного, услышанного, прочитанного разнится. Бывает, что несколько мужчин влюбляются в одну и ту же женщину, но ведь каждый из них находит в ней что-то свое.
Иными словами его интересовало, в чем состоит сущность индивидуума? Будучи в аспирантуре, готовясь к сдаче кандидатского минимума, он посещал занятия по диалектическому материализму, которые вела преподаватель кафедры их академии – молодая, умная женщина, одевавшаяся вопреки моде в длинные балахоны из темной ткани, призванные подчеркнуть ее независимость в суждениях. Она была влюблена в Маркса, и сумела вызвать в слушателях интерес к его философским взглядам. Действительно, как философ, Маркс представлялся более интересным мыслителем, чем, как экономист. «Тезисы о Фейербахе» – гениальны. Маркс написал их в том же молодом возрасте, в каком Микеланджело ваял «Пьету». «Сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В действительности она есть совокупность общественных отношений». С этим следует согласиться. Маугли, воспитанный в волчьей стае, не может считаться человеком. Выходит, что в человеке главное все-таки – «позолота», а не «свиная кожа». По отношению к определению сущности человека это утверждение справедливо, но в чем сущность индивида? Ведь индивидуальность присуща не только человеку, но всему живому, тому же волку, наконец. Это из другой оперы, и общественная жизнь здесь скорее всего ни при чем. Может быть, это вообще не философская категория? Для атеиста это категория анатомо-физиологическая. Просто индивидуальные особенности строения мозга, разное количество нейронов, разная скорость передачи нервного импульса и т.д. Ой ли?
А Маркса у нас постарались поспешно дезавуировать. Особенно последний тезис: “ Die Philosofen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt darauf an Sie zu verndern”. Слово «революция» стало чуть ли не запретным. Услышав его, любой уважающий себя интеллектуал болезненно сморщится и отвернется, как от назойливой мухи : «Что вы, что вы… только эволюционный путь. Никаких революций. Хватит. Уже наелись». И верно – будем эволюционировать, подождем, когда сами собой наступят времена и успешными бизнесменами станут не только жены градоначальников и вице-премьеров правительства, но и обычные граждане; подождем, когда в школах поймут, что их основная задача выпустить из школьных стен нравственного человека, а потом уже, знающего основы точных и естественных наук, а для этого надо прежде всего в корне поменять преподавание литературы, сделав ее главным предметом; подождем, когда в стране престижными окажутся профессии учителя, врача, исследователя, рабочего и фермера и они перестанут завидовать зарплатам телеведущих, шоу-менов, менеджеров по продажам и футболистов; подождем… Спешить некуда. Не мы, так наши внуки… Но ведь революции бывают не только социальными.
Он чувствовал, что все его рассуждения на самом деле банальны и , в общем, убоги. Он просто не хочет расставаться с какими-то эпизодами или иллюзиями своей жизни, которые были важны только для него и которые, как он считал, и составляли ту самую особенность жизни каждого человека, что будет похоронена вместе с ним. В этой жадности сохранения он напоминал себе гоголевского героя, не желавшего расставаться ни с одной копейкой.
Он понимал, что «свиная кожа» каждого абсолютно непознаваема для других, как тайна мироздания. И останется тайной навсегда. Все, что мы можем знать о ком-то, лишь ничтожно малая часть его сути, касающаяся прежде всего «позолоты». Мы ничего не знаем друг о друге, так мы устроены. Закон природы. Эти рукописи сгорают дотла, так никем и не прочитанные.
Понятно, что истоки своей «свиной кожи» следовало искать в детстве, но не вспоминать же все подряд, тем более, что методология поиска по-прежнему была ему не ясна. Он мог вспомнить все, но что толку…
Первая зависть, но еще не ревность, к мужчине, как к объекту женского внимания, возникла у него к герою песни в исполнении Руслановой: « Помню я еще молодушкой была. Наша армия в поход далекий шла. Вечерело, я стояла у ворот, а по улице все конница идет» Он хорошо знал это – «вечерело», это было ему знакомо по дачной жизни, когда кончался томительный летний день, прошедший в скучной, одинокой, праздности детства, и он выходил после ужина с молоком за калитку, садился на лавочку и смотрел на Варшавское шоссе, спускавшееся с Лангиной горы. Красный закат сгущался до черноты у самого горизонта, и пыль, что днем поднимали за собой грузовики , заезжая колесами на обочину, лежала вечером спокойно, как отяжелевшая после дождя. Он понимал, что картина вечернего пейзажа перед его глазами, не такая , как должна быть в песне. Там речь скорее всего шла о широком проселочном тракте, по которому ежедневно гнали скот на пастбище, и жаркий воздух постоянно оглашался затяжным, бестолковым мычанием, а заборы хат или изб были из горизонтально сколоченных жердей, а не из вертикальной решетки штакетника, как у них на даче. Но «вечерело» одинаково, в этом он был уверен. Еще едва ощутимая, прохлада наступающих сумерек; даль, где становится недоступной глазу дорога; преждевременное ожидание нового дня – все это было общим в понятии «вечерело». И еще что-то…
«Наша армия…» Русская армия. Уже в детские годы он испытывал громадное уважение к русской, царской армии. Он уже знал. что царская армия существовала прежде Красной. Хотя в том семилетнем или восьмилетнем возрасте, что достоверного он мог знать о ней? Он видел солдат на картинах Верещагина, печатавшихся в журнале «Огонек» – их белые, выгоревшие на солнце, мундиры туркестанского корпуса , и узкие, прямые штыки над дулами винтовок, висевшие за спинами солдат… он видел фильм «Герои Шипки», и помнил фамилию генерала – Скобелев… и, пожалуй, это все, что он знал к тому времени о русской армии, хотя и рос в семье военного и о Красной Армии знал уже много. Еще рассказ деда, когда они гуляли по парку и подошли к памятнику «Стерегущему», где бронзовая вода хлестала через открытый иллюминатор, и два матроса, как ему сначала подумалось, пытались закрыть его, но оказалось все наоборот. «Они нарочно открыли , чтоб затопить корабль, они не хотели сдаваться врагу». Но даже этих отрывочных сведений хватило на то, чтоб представить нескончаемую колонну пехоты со скатками шинелей на груди, устоять перед которой не дано никакому врагу. Он ясно представлял себе, как пылят по дороге солдатские сапоги, как устало движется колонна, хотя в песне речь шла о коннице, но кавалерия была ему еще меньше знакома и правдиво представить, как она выглядела, он не мог.
Молодую, рослую крестьянку, черноволосую, с неприбранной головой, жалостным взглядом провожающую шеренги солдатушек-бравых ребятушек, он представлял себе очень хорошо, а вот «парня», что попросил напиться воды, четко вообразить не мог. Да – в первом прослушивании песни он вместо «барин молодой» услышал «парень молодой». Но потом, в третий или пятый раз ставя на бархатистый диск патефона черную, с круглой, красно-золотой эмблемой в центре, пластинку расслышал уже отчетливо: « Всю-то ноченьку мне спать было не в мочь. Раскрасавец барин снился мне всю ночь». И «барин», бывший в песне одновременно и офицером, сильно выигрывал в его воображении по сравнению с каким-то «парнем». Парней и в деревне могло быть предостаточно, и вообще в парнях не было ничего интересного, а вот молодой барин, да еще верхом на коне, мог появиться только вместе с этой чудесной армией, к которой барин принадлежал по обязанности дворянского сословия. Так что это был уже практически принц из сказки. Он радовался, что крестьянка влюбилась именно в барина, что подтверждало его догадку о том, что социальное неравенство между людьми ничего не значит Этому его учили и сказки, пока не пришло время иных педагогов. Сюжет песни тоже напоминал сказку, только на этот раз в исторически реальном обрамлении. И в генерале, который « весь израненный .. жалобно стонал» было столько общего со сказочными богатырями, тоже израненными, и которым могла помочь только живая вода.
Он – маменькин сынок, испытывал страшную зависть к герою песни, образ которого не давал уснуть молодой, черноокой красавице-крестьянке. И то, что потом молодой барин превратился в седого генерала, раненого в боях, только усиливало эту зависть. Как бы он хотел оказаться на его месте, стать таким же. Одинаково с генералом он мучился в душной, нагретой за день, горнице, с почему-то плотно запертыми окнами, и даже откинув одеяло, сбив его к стене с толстым слоем дешевых обоев, клееных друг на друга во время ремонтов, что превращало их в толстую, воздухонепроницаемую корку, не мог заснуть от ночной жары. Что такое боль от ран ему тоже было известно. Роясь в песке возле сосны. поранил руку стеклом, десятисантиметровый шрам по краю кисти ниже мизинца остался на всю жизнь. Крови порядочно тогда натекло, хоть распорота была только кожа, и на следующий день дед отвел его в медпункт пионерского лагеря, что находился в глубине леса, у крохотного, черного озера с названием «Свинячье» в паре километров от их дачи; там ему сделали прививку от столбняка. Рану зашивать не стали, просто туго перебинтовали кисть, и несколько дней не велели трогать повязку и не мочить.
5.
Что его понесло в медицину? Почему он решил избрать профессию врача? Сначала он хотел стать военным летчиком. Он собирал любую доступную информацию о самолетах – истребителях и вскоре знал для чего служат элероны, что обозначает число Маха, где расположена трубка Пито и для чего она предназначена… Он воображал себя пилотом палубной авиации, совершавшим ночные полеты над морем в зашнурованном высотном костюме. Но после медкомиссии в десятом классе, когда хирург нашел у него постыдную аномалию развития, о которой он не подозревал до сего времени, он понял, что поступать в военное училище ему не стоит. Потом, какое-то время ему хотелось стать журналистом – международником. Но, чтоб поступить в университет на журфак, надо было иметь три года трудового стажа, сразу со школьной скамьи не брали, и от этой идеи пришлось отказаться. И, слава богу, что не сбылось.. Сейчас он без пиетета относился к этой профессии и полагал, что уровень подготовки журналистов в университетах чудовищно низок. Русского языка не знают, эти постоянные «а-а-а», мычащие паузы перед фразами… об этике, вообще, никакого представления. Яркий пример – в больницу доставили одного из крупных мафиози города, заправлявшего нефтяным бизнесом, на которого было совершено покушение – машину обстреляли из гранатомета на набережной Макарова. Привезли практически мертвого, с оторванными ногами. На следующее утро в кабинет заявился репортер – совсем молодой парень, возбужденный порученным ему заданием от редакции, и попросил представить информацию о состоянии пострадавшего. Больше всего корреспондента интересовало, оторвало ли при взрыве половые органы? Очень удивился, когда его послали, куда подальше со своим любопытством. Долго стоял, не уходил, все еще надеясь на получение сенсационной новости, искренне не понимая, что тут такого? И выраженье лица оставалось веселым, нагловатым, как у несправедливо обижаемого обществом садиста.
В последний школьный год, в прессе публиковалось много произведений о работе хирургов. В «Науке и жизни» печаталась книга Амосова «Мысли и сердце» о пересадке сердечных клапанов, в «Юности» – повесть о хирургах, где старый врач вспоминает о временах, когда в операционную приходили люди из госбезопасности и следили за движениями пальцев у оперирующего. «…А он нервничал, делал лишние движения, рвал кетгут» … По телевизору демонстрировали спектакль, где Дьячков ушивал перфоративную язву на каком-то полустанке, и , выйдя после операции к пассажирам, эффектно отнекивался от славы: «Извините, я плохой популяризатор».. и скромно проходил сквозь возбужденную толпу зевак. Вспоминались и кумиры детства – доктор Сальватор, пересадивший жабры молодой акулы. Хирургия представлялась совершенно особенной специальностью, ни на что не похожей, со своей специфичной терминологией, с какой-то кастовой отчужденностью от обычных бытовых проблем жизни. У Чехова : «Я принял блуждающую почку за абсцесс». Одна эта фраза способна пробудить у молодого человека интерес к всецело загадочной, малоосвещаемой в школе, профессии. Желание помогать страждущим, больным, как главный посыл выбора, стояло не на первом месте. Прежде всего хотелось овладеть совсем непростым, и уважаемым всеми ремеслом., страшно интересной, классической наукой врачевания. Мой школьный приятель Женя Зарембо, ( подпольная кличка – Джон) возможно под моим влиянием тоже решил поступать в медицинский. К тому же дальний родственник Джона работал ассистентом на кафедре факультетской хирургии в 1-ЛМИ, да и жена старшего брата заканчивала педиатрический институт. У меня же в родословной медиков в помине не было. Узнав о моем решении, отец уговорил меня поступать в военно-медицинскую академию. Я с ним согласился, учитывая, что вступительные экзамены в академию проходили в июле, на месяц раньше, чем в гражданских вузах, и в случае провала оставался шанс поступления в 1– ЛМИ. Отец съездил в академию, с кем-то из начальства переговорил, и уверенный в успехе со спокойной душой отбыл по месту новой службы в ГДР.
На медкомиссии я спросил у хирурга, осматривавшего меня, могу ли я с этим поступать в гражданский вуз, он успокоил, что и для поступления в военную академию у меня нет противопоказаний.
Экзамены сдавали в Красном Селе, где располагались летние лагеря академии. Сдавали три экзамена : физика, химия, русский язык (письменный). По химии досталась задача, где в сложный раствор отпускались электроды, и надо было определить конечные химические элементы, полученные после прохождения тока. У меня в ответе получались какие-то двухэтажные дроби, и я был уверен, что ошибся, но оказалось, что все правильно, и получил пять. За русский язык (письменный), тоже пять, а за физику четыре, итого – 14 баллов.
После сдачи экзаменов, абитуриенты должны были жить в Красном Селе, в палатках, в ожидании результатов и проходить курс молодого бойца. До сих пор помню, как в палатку просовывалась голова офицера в фуражке, надзиравшего над нами, и выкрикивала : «Рота подъем! На зарядку! Форма – голый торс!» и следом любимое: «Конкурс продолжается», как изуверское предостережение нерадивым. В ожидании приказа мы занимались благоустройством территории, копали траншею вокруг штаба, сажали кусты . Поползли слухи, что проходной балл в этом году будет 15, а с 14-ю примут только в группу ВДВ. Я не стал дожидаться окончательного решения свой судьбы, полагая, что старания отца скорее всего возымеют действие, а это будет несправедливо с моими баллами, забрал свои документы из штаба, экзаменационный лист и , спустившись с холма, сел на электричку. С ребятами жалко было расставаться, со многими успел подружиться, действительно хорошие были ребята.
В приемной комиссии 1-го ЛМИ, куда я отнес свои документы, мне сказали, что придется пересдать только один предмет – физику. Пересдал и снова получил четверку, но набранных четырнадцати баллов хватало, чтоб поступить на лечебный факультет. И все же долго не мог поверить своим глазам, когда отыскал свою фамилию в написанном от руки списке поступивших, вывешенном на втором этаже главного корпуса возле деканатов…
Сейчас при поступлении в медицинский сдают еще и биологию, и это,_наверное, правильно, с химией, в общем, тоже можно согласиться, но причем здесь физика? Не лучше ли включить во вступительные экзамены такой предмет, как «История медицины», ну, пусть не экзамен – собеседование на эту тему, и поинтересоваться у абитуриента, а что он вообще знает о врачах, о Пастере, Кохе, о Пирогове… читал ли он Чехова, Вересаева, Германа.. что его подтолкнуло к мысли поступать в медицинский? Большой, думаю, произошел бы отсев, но необходимый. А так получается , сдал физику – врач, не сдал – привет. Хотя, наивно все это… Не так давно я беседовал с одной из своих медсестер, которая решила поступать в университет, я спрашиваю : почему не в медицинский? – Так у меня нет пяти тысяч долларов, а без этого нечего и соваться. Слухи о повальном взяточнистве при приеме ходили упорные, но я как-то не верил, в наше время ведь такого не было.
На лечебный факультет было принято около четырехсот человек, которых разделили на два потока. Первые лекции были общими для всего курса, их читали в седьмой – самой большой и старой аудитории института. Она располагалась на втором этаже высокого здания, построенного в начале века – скромное, но не лишенное помпезности благодаря мощным прямоугольным колоннам у входа, массивной двери и широкому овальному крыльцу, на ступенях которого уместился весь курс, чтоб сфотографироваться во время традиционного сбора. На трех этажах размещались кафедры нормальной анатомии, биологии, гистологии, судебной медицины, оперативной хирургии и истории медицины. Седьмая аудитория служила также залом, где проходили заседания городского хирургического общества Пирогова, так что и после окончания института мне доводилось приходить сюда, всякий раз вспоминая студенческие годы, когда усаживался на свое прежнее место в десятом ряду сплошного амфитеатра отполированных деревянных ячеек с откидными досками. Здесь все оставалось неизменным – длинный, черный стол президиума, как поваленный на пол шкаф, кафедра, черная школьная доска на стене и выше экран. Сколько медицинских «светил» повидала эта кафедра! На первом курсе лекции по нормальной анатомии читал профессор Привес – интеллигент старой закалки, седовласый, элегантный, насколько позволяло приличное брюшко, всегда по-праздничному одетый, белая сорочка, цветной галстук-бабочка.. За его учебником в библиотеке шла охота, очередь по записи. Несчастливцам, кому не доставался учебник, приходилось заниматься по атласу – я всегда входил в их число. Все знаменитые хирурги страны стояли за этой кафедрой в разное время. Джанелидзе, Напалков, Куприянов, Углов, Мельников, Колесов… всех не перечислишь. Никого из них уже нет в живых. Заседания хирургического общества Пирогова проходило по средам, раз в две недели. И всегда на них присутствовал старший Напалков. Он был уже практически слеп – высокий, худой, старый человек, передвигавшийся с помошью своих молодых ассистентов, выполнявших роль поводырей. Я никогда не понимал этого фанатизма старых хирургов– классиков, живших только хирургией, не предсталяющих себя вне этого ремесла и науки. Углов оперировал чуть ли не до ста лет, как Дебейки. Вам хотелось бы лечь под нож к хирургу, которому стукнуло девяносто? Как им самим-то не надоело? На мой взгляд любое занятие, любое творчество, если им заниматься непрерывно на протяжении нескольких десятилетий, должно в конце концов осточертеть. Мир так прекрасен в своем разнообразии, не лучше ли попытаться познать его с другой, новой для вас стороны? Как правило в такой фанатичной преданности своей профессии можно распознать большую долю эгоизма, завышенной самооценки, льстиво подогреваемой бывшими учениками, которым на самом деле давно уже не до вас.
Впрочем, не только профессура выступала в «семерке»… На первом курсе здесь прошел вечер встречи с малоизвестным в то время автором-исполнителем песен Евгением Клячкиным. Невысокого роста человек лет тридцати, крупное лицо с не вполне русскими чертами, зачесанная назад шевелюра обильно тронутая сединой, держался скромно, почти застенчиво. Он спел несколько песен на стихи Анчарова.. Зычный, но мягкий голос старался усилить впечатление от каждой строки. Потом пел свои. Простые тексты легко укладывались в памяти и спустя много лет я могу вспомнить почти целиком и «Тонечку», и «На Театральной», и «Шофера».. Но самое сильное впечатление осталось от «Пилигримов». « И значит не будет толка от веры в себя да в бога. И значит останутся только – иллюзии и дорога». Имя Бродского не было упомянуто, и я вплоть до девяностых годов считал, что стихи написаны Клячкиным. Одного этого достаточно, чтоб возненавидеть советский строй. Анафема всем им, решавшим за меня, что мне следует читать, смотреть, слушать, а чего не следует. Кто дал им право скрывать от меня Бродского? Я мог умереть, так и не узнав его мир. Это хуже воровства!
Первое соприкосновение с профессией должно было состояться с началом практических занятий по нормальной анатомии. В тот день. на лестничной площадке, перед дверьми кафедры собрался весь поток – все в белоснежных, накрахмаленных халатах. Такого парада больше никогда не повторялось. Все возбуждены, оживленно общаются друг с другом, радость, улыбки.. и запрятанное внутри тревожное ожидание, как перед первым боем. Есть профессии, освоение которых невозможно без преодоления специфических страхов: нельзя стать летчиком, если боишься высоты, моряком – если боишься качки, врачом нельзя стать, если страшит «анатомичка». Известны случаи, когда люди бросали институт, так и не сумев преодолеть в себе этот страх или отвращение перед анатомическим театром. В наш век это, наверное, уже не так актуально – морги показывают по телевизору, следя, чтоб все было как можно натуральней. Человека все больше и больше приучают к виду смерти, видимо, исчерпав возможности в отображении вида жизни.
Наконец, двери распахнулись и нас пригласили войти. Мы уже были разделены на группы, и в сопровождении своих преподавателей вошли в секционный зал. В лицо ударил резкий запах формалина. Просторный зал, выложенный белым кафелем, был наполнен, проходившим через очень высокие окна дневным светом, в тон нашей толпе в белых халатах. Возле окон стояло семь или восемь прозекторских столов, вдоль противоположной стены – ванны, где в формалине лежали мужские и женские трупы, наваленные друг на друга, как после расстрела. Трупы были старые, иссохшие, а потому не страшные, жизнь давно ушла из этих тел, забрав с собою все связанные с ней ассоциации.
Занятий в зале сегодня не планировалось, сегодня была просто ознакомительная экскурсия по кафедре.
Преподавательницей нашей группы стала ассистент кафедры Машкара – невысокая, худощавая женщина пенсионного возраста, работавшая в прошлом в амбулаторном центре хирургии кисти. Большие черные глаза, впалые щеки, спутанные волосы, выбивавшиеся из-под колпака, внешне придавали ей несколько болезненную строгость, она не расставалась с короткой указкой, с помощью которой демонстрировала нам детали анатомического строения человеческого тела. Понимая, что любовь к своему предмету нам в принципе привить очень сложно, но несмотря на это она обязана вложить в наши головы основательные знания той науки, на базе которой будет строиться все дальнейшее медицинское образование, поэтому требовала от нас полного прилежания, без поблажек. Занятия проходили в тесной комнатке, сверху донизу заставленной стеклянными банками с анатомическими препаратами – кунсткамера отдыхает; потемневшие и скукожившиеся от долгого лежания в формалине куски человеческой плоти цветом и еще чем-то напоминали опавшие осенние листья, если издали окинуть общим взглядом полки с банками, не всматриваясь в каждую в отдельности. Какой-то заспиртованный листопад. Изучение анатомии начиналось с костей скелета, потом мышцы, сосуды, строение органов… самым трудным был раздел нервной системы – мозг и периферические нервы.
На черной лестнице, в чердачном помещении, находилась особая кладовая, откуда по студенческим билетам выдавали кости, черепа, иногда естественные, иногда пластмассовые. Берешь, например, бедренную кость и идешь в секционный зал, садишься за мраморный стол, раскрываешь атлас и , сверяясь с картинкой, начинаешь зубрить все бугорки, отростки, борозды, бугристости.. и по – русски, и по латыни. Мало того – ты обязан знать на каком этапе эмбрионального развития появляется данная кость, когда в ней появляются ядра окостенения, как протекает замещение хрящевой ткани… да еще на кафедре гистологии будешь изучать ту же кость, но уже под микроскопом, отгадывая на предметном стекле остеобласты, остеокласты, хрящевые клетки, клетки надкостницы… В общем, и без физики хватает заморочек. Когда приступили к изучению органов, не помню уж на каком семестре, из того же хранилища получали проформалиненные органокомплексы – вырезанные из тела единым блоком от языка до прямой кишки: гортань, трахея, легкие, сердце и вся брюшная полость. На старом студенческом жаргоне такой органокомплекс назывался – «гусак», которого поднимали и несли, обхватив за трахею и пищевод. «Гусака» заказывали только для групповых занятий, не помню, чтоб кто-то брал для себя лично, для индивидуального изучения. На черной лестнице разрешалось курить. Из четырех парней нашей группы курили только я и Джон. Алик Смирнов занимался спортивной гимнастикой и отвергал курение, Юрочка Беляев в детстве рос хилым и болезненным мальчиком, так что он тоже предпочитал держаться подальше от дыма папирос. Из девиц курила только Янка Резникова, будущий офтальмолог. Вместе с нами в группе занимались два негра из Ганы: Асирифи Эдвард Янг и Абан Квези. Квези был сыном богатого вождя, среднее образование получил в Англии, и в Россию его, как и Янга, привела относительно невысокая плата за обучение. Янг происходил из менее благополучной семьи, и был попроще во всех отношениях. Внешне они тоже различались: Асирифи – высокий, мускулистый, Квези – маленький, субтильного телосложения, изящен в движениях, на лице очки в тонкой, золоченой оправе. Он потрясающе танцевал, демонстрируя на наших вечеринках в общаге расовое чувство ритма помноженное на музыкальное образование европейской школы. Был всегда приветлив, проходя мимо меня, смолившего Беломор на черной лестнице, обычно дружелюбно хлопал по плечу, блеснув в улыбке ровным рядом белых, как фарфор, зубов. Белые халаты шли им больше, чем нам.
– Куряем?
– Курим, Абан. Курим.
– Курим, – старательно повторял за мной правильное произношение глагола Абан Квези, но в следующий раз опять употреблял привычное, засевшее в голове – Все куряем?
На первом семестре, на занятиях по анатомии, в группе появилось новое лицо – переведенный к нам из института спортивной медицины им. Лесгафта первокурсник Мамулашвили. Чистый недоумок или, может, специально косил под дебила. На первом занятии, чересчур пристально разглядывая банку с этим препаратом, спросил у Машкары, когда мы начнем изучать женские половые органы? На наше счастье он вскоре исчез, также неожиданно, как и появился.
Первое занятие на трупе в секционном зале было посвящено изучению мышц. Мне досталось препарировать мышцы передней поверхности бедра в области Скарпового треугольника. На этот раз трупы, предоставленные в наше распоряжение, выглядели свежее, хоть были также пропитаны формалином, как и те, что давно лежали в ваннах. На столе лежал очень крупный мужчина с могучим торсом и множеством татуировок на серой, почти бесцветной коже. Первый разрез сделала Машкара, по вертикальной линии от паховой связки до колена, обозначив границы кожно-жировых лоскутов, которые следовало отвернуть, сохранив при этом фасцию. Я принялся за дело, стараясь орудовать скальпелем, как можно нежнее, в чем , конечно, не было никакой необходимости, и провозился с первым этапом достаточно долго, постоянно отирая резиновые перчатки от налипающего жира. Джон, которому достались мышцы предплечья, к тому времени, как я возился с лоскутом, уже препарировал сгибатели. Наверное, ему помогал охотничий опыт – я помнил, как он свежевал подстреленного зайца, распяв его на штакетнике забора своей дачи. Проще всего получилось выделить портняжную мышцу, потом прямую мышцу бедра, потом гребешковую, длинный аддуктор, нежную.. Машкара потребовала выделить сосуды, в месте их выхода из-под паховой связки. У меня получилось найти только артерию. На всю жизнь запомнил, что бедренный нерв выходит в lacuna musculorum, а не в lacuna vasorum. Воистину, лучше один раз увидеть, чем…
– Ну-с, будущие хирурги, будьте так любезны, покажите мне грыжевые ворота бедренной грыжи. – насмешливо потребовала Машкара, передавая мне свою указку.
– Я еще не выделил бедренную вену, – пробурчал я – которая является латеральной стенкой грыжевых ворот. Так что, приблизительно здесь.– и ткнул указкой под паховую связку.
– Приблизительно. А оперировать вы тоже будете приблизительно? В какую сторону будете рассекать ущемляющее кольцо при ущемленной бедренной грыже? Вы знаете, что такое corona mortis?
– Корона смерти. – буркнул я, мучительно вспоминая , в чем состоит редкий вариант прохождения запирательной артерии.
– Ладно. Покажите, где проходит Гюнтеров канал…
Странно, но именно со Скарповым треугольником, доставшимся мне на занятиях по анатомии, у меня потом было связано одно из самых неприятных воспоминаний в моей хирургической практике…
Это было одно из моих первых дежурств в качестве ответственного дежурного хирурга по больнице, то есть старшего в бригаде. Стаж к тому времени у меня был невелик – всего три года…
В мужской смотровой, на полу, на носилках, лежал бледный, как полотно, молодой парень со спущенными брюками. Его только что с криками и матюгами бегом внесли сюда санитары. На правом бедре, в области Скарпового треугольника, под паховой связкой, из колото-резаной раны ручьем изливалась темная венозная кровь. Парня доставила скорая, подобрав его где-то рядом от больницы. Я кинулся к носилкам, рухнул на колени и, кулаком прижимая рану , заорал, чтоб срочно звали реаниматологов. Они примчались, и тут же на полу подкололись в две вены, поставив капельницы. Померили давление – верхнее семьдесят. Операционная у нас располагалась в другом корпусе. Мы подняли носилки на каталку и повезли, с капельницами, с криками, с моими кулаками на ране.. Стоило немного ослабить давление на рану, как темная кровь моментально и властно заливала бедро. Везти надо метров пятьдесят по дорожке больничного парка. Была теплая, летняя ночь, полная луна, рядом через дорогу спокойно уснувший город, которого никак не занимала в этот час дребезжащая каталка с вихляющими колесиками, облепленная со всех сторон людьми в белых халатах. Ошибка скорой состояла в том, что им следовало бы везти парня сразу в операционную, минуя приемный покой.
В операционной все уже были наготове, сразу дали наркоз, приступили к гемотрансфузии, меня, прижимавшего рану кулаками, сменил кто-то из моих помощников и я пошел мыться.
Расширив рану в обе стороны , постоянно промокая салфетками изливающуюся кровь, удалось подойти к полностью пересеченной бедренной вене. Салфетки мгновенно пропитывались кровью, и при их замене кровь также мгновенно заполняла рану, не позволяя толком ничего разглядеть. Ситуация казалась безвыходной – ты туго тампонируешь рану, чтоб остановить кровь, но, чтоб определить источник кровотечения, ты должен вынуть салфетки, а рану сразу заливает кровью, и ты опять ничего не успеваешь увидеть. Жгут в этом месте не наложишь, а давление на сосуды кулаком мало что давало. Тыча вслепую зажимами, я наложил несколько «Бильротов» по протяжению вены, отдавая себе отчет, что так делать не полагается – все должно быть под контролем зрения, но ничего другого не оставалось – кровь хлестала с неослабевающей силой, так что даже салфетки пришлось заменить вафельными полотенцами. Во мне нарастала паника – я не могу остановить кровотечение! Я помнил, что на этом уровне в бедренную вену впадает по задней стенке глубокая вена бедра, такого же калибра, из глубины задней группы мышц. Если повреждена и она, то надо переходить на ампутацию. Парню шестнадцать лет! Очередной зажим (не помнил уж какой по счету), наложенный на периферический конец вены , достиг все-таки цели – кровь перестала течь. Мы осушились, перевязали концы вены, оставили «выпускники» и зашили рану.