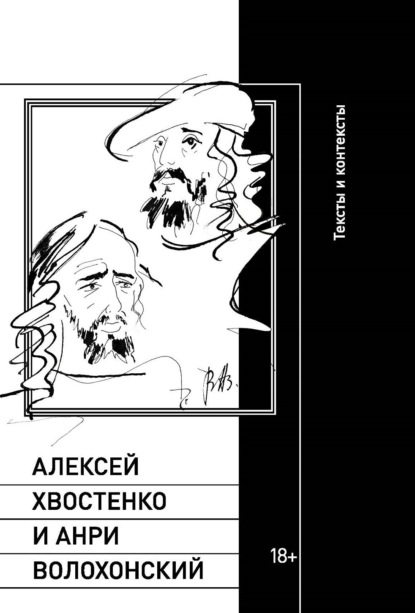По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Алексей Хвостенко и Анри Волохонский. Тексты и контексты
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Как вы учились рисовать?
– Рисовать я начал учиться в Герценовском институте на графическом факультете, потом учился у барона Штиглица, в Мухинском училище[18 - Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В. И. Мухиной. Основано в 1876 году и построено на средства барона А. Л. Штиглица.]. А до этого взял один урок у одного монгола из питерской Академии художеств. Монгол поставил передо мной бюст Маяковского, единственное, что там было, и показал мне, как его зарисовать. Это был первый и единственный урок рисования, который я получил в своей жизни. Это происходило в доме творчества писателей в Комарове, Териоки это называлось раньше, где жил мой отец. Папа был филолог, переводчик и поэт, но как поэт никогда не печатался. Комаровская жизнь помнится довольно смутно – ходили на пляж, собирали ягоды, грибы, ловили рыбу в каких-то озерах. Бруй[19 - Бруй Вильям Петрович – художник. Эмигрировал в 1970 году, с 1971 года активный участник художественной жизни Парижа. В 1994?м в Париже состоялась совместная выставка Бруя и Хвостенко «Хрустальный дворец» (см. ниже). См. также стихотворение Хвостенко «Вильяму Брую на день его рождения в Хрустальном дворце» (наст. изд.).] там жил позже, с ним я встретился только в Париже. До Ахматовой я так и не добрался, хотя Бродский меня заманивал к ней. Но меня как-то не очень тянуло со знаменитыми личностями знакомиться.
– А как же Акимов?
– Я в начале 60?х годов пытался учиться в нескольких институтах, в Институте имени Герцена, в Мухинском училище, куда ходил на подготовительные курсы и поступил на следующий год. А потом я перешел в Театральный институт и учился у покойного Николая Павловича Акимова. Это был великий режиссер и очень хороший художник. Чего-то он рассказывал, показывал, объяснял, втолковывал, но основным уроком была свобода творчества. Там можно было делать все что угодно, даже абстрактные вещи. Акимов привил мне любовь к режиссуре. Но я зашел и вышел, проучился месяца два или три. Когда мы устроили нашу первую выставку, Акимов пришел, посмотрел на мою картину «Портрет бабушки», которую я сделал из разных материалов, подобраных на улице. Сказал, что бабушка не плавает, и стал ее критиковать: «Ничего – красиво, элегантно, но картина будет пылиться!» Я только что прочитал тогда Беккета, «Последнюю магнитофонную ленту»[20 - Пьесу С. Беккета «Последняя лента Крэппа» позднее, в 1973 году, перевел поэт и издатель Хвостенко Владимир Эрль.], рассказал ему содержание этой пьесы, и ему мой пересказ очень понравился, по-моему. Он ушел, и после этого мы больше никогда не виделись.
– Как появился ваш соавтор Волохонский?
– С поэтом и философом Анри Волохонским мы всю жизнь работаем вместе. Начинали мы с песен, потом стали писать вместе басни, затем пьесы, первой из которых стал «Первый гриб». Мы написали ее в расчете поставить на сцене, носили даже в ТЮЗ к Зяме Корогодскому[21 - Корогодский Зиновий Яковлевич (1926–2004) – театральный режиссер, в 1962–1986 художественный руководитель Ленинградского театра юного зрителя (ТЮЗ).]. Пьеса везде понравилась, но ставить ее отказались, сказав, что она полна анахронизмов и еще каких-то намеков, неприличных для советской власти. Анахронизмов в чисто языковом, лингвистическом плане. В общем, так ее и не поставили нигде. И Корогодский предложил нам с Анри написать ему пьесу по «Марсианским хроникам» Брэдбери, был такой писатель-фантаст американский. Мы этого, конечно, делать не стали. На этом наше знакомство с Корогодским закончилось. Содружество АХВ продолжается до сих пор, недавно в Москве вышла книжка текстов наших песен[22 - Хвостенко А. Л., Волохонский А. Г. Берлога пчел. Тверь: Kolonna Publications, 2004.].
– Церковь греческая еще стояла?
– Стояла. Я видел, как ее ломали, – у меня какие-то стихи даже есть на эту тему[23 - Стихотворение «Напасти Песков» из цикла «Памятник летчику Мациневичу» (Хвостенко А. Л. Верпа. С. 188–189).]. Бродский тоже чего-то написал. Тогда ведь все жили рядом – я на Греческом, а Бродский на Пестеля. Екатерининский садик, сквер у Зимнего стадиона. Основная тусовка происходила в «Сайгоне». Сайгон и Малая Садовая, где собирались поэты и прочая левацкая публика, существовали одновременно[24 - Кафетерий на Малой Садовой улице и кафе «Сайгон» на углу Невского и Владимирского проспектов – главные точки ленинградской «кофейной культуры» (термин Т. Л. Никольской) 1960–1970?х годов.]. До этого собирались на кухнях. Тогда компания, которую Костя Кузьминский называл «ахматовские сироты», не была главной, были и другие поэты. В Москве были смогисты, лианозовцы, Зверев, Яковлев, Харитонов, все ныне покойные. В Питере были Хеленукты во главе с Эрлем, Володей Горбуновым. У меня был собственный кружок под названием «Верпа». «Верпа» – это Анри Волохонский, я и Леня Ентин[25 - Ентин Леонид Григорьевич (1938–2016) – поэт, драматург. В соавторстве с Хвостенко написал абсурдистскую пьесу «Ботва» (1966). Поддерживал общение с Ю. Галансковым и А. Гинзбургом, в 1977 году был арестован по сфабрикованному уголовному делу и приговорен к году тюрьмы. В 1978?м эмигрировал. Жил и скончался в Париже.]. Результатом стала книжка «Институт Верпы», которую издала в Нью-Йорке Юля Беломлинская, а за ней митьки в «Красном матросе». Того же времени поэмы «Подозритель» и «Эпиграф». Поэма «Слон На» была напечатана в Питере совсем недавно, несколько лет назад, покойным Аллоем[26 - Аллой Владимир Ефимович (1945–2001) – публицист, издатель, основатель издательства «Феникс», в котором вышла книга Хвостенко «Колесо времени» (1999).], который покончил с собой при странных обстоятельствах: вернулся в Париж, купил квартиру, машину, перевез оборудование, поехал в Питер закончить свои дела и повесился. Жена Таня до сих пор продолжает его дело, выпускает исторические книжки.
– Многие уходили тогда в детскую литературу – Голявкин, Григорьев, Холин, Сапгир. Был очень популярен Хармс, обэриуты. Почему для вас был важнее классицизм?
– Мой отец очень дружил с Маршаком, сотрудничал с ним как переводчик, и у меня было много его книг, подписанных им самим. Для меня самый важный поэт всегда был Хлебников. Он больше всего на меня повлиял. Что касается обэриутов, то, впервые прочитав их в самиздате, я был удивлен схожестью с тем, что я делаю. Так что не могу сказать, что они оказали на меня какое-либо влияние, – к тому времени я уже делал собственные вещи. Разумеется, классицизм – Державин, Сумароков оказали на меня большое влияние. Еще Катулл, Тибулл, Проперций, Марциал. Безусловно, Данте, Петрарка. Больше всего, конечно, Шекспир. Вслед за Ларошфуко я пишу максимы.
– Один из ваших опусов называется «Опыт постороннего творческого процесса». Позиция наблюдателя жизни вам ближе, чем ее участника?
– Я бы сказал, скорее исследователя. Или открывателя. Вообще я намеренно зашифровываю свои стихи, чтобы они имели многозначность. Чтобы прочитать их было непросто. Чтобы в каждой строчке был заключен не один, а несколько смыслов. У меня есть серия стихов под названием «Трехголосые двустишья», где я пытаюсь в двух строчках дать три смысла стихотворению.
– Как трехсмысленность совмещается с импровизацией?
– Импровизация, конечно, стоит на первом месте. Я очень любил джаз. Круг джазменов в Питере довольно обособленный. Первый профессиональный джазовый оркестр был у Вайнштейна[27 - Вайнштейн Иосиф Владимирович (1918–2001) – джазмен, основатель джазового оркестра при гостинице «Европейская» в Ленинграде в 1938 году, впоследствии (с 1955) – джазового оркестра Ленгосэстрады, о котором говорит Хвостенко.]. Там играли мои приятели Слава Чевычелов, Рома Кунсман, Гена Гольдштейн. Рома переселился в Израиль, где стал правоверным евреем и не мог играть по субботам. А для музыканта главная работа – пятница и суббота. Так он и перестал джаз играть. Затем он переехал в Америку. Но еще в Питере, когда мы случайно встретились на улице, он сказал, что увлекся Хиндемитом и сочиняет совсем другую музыку. Гольдштейн приезжал ко мне сюда в Париж, хотел почему-то, чтобы я сочинил какую-то музыку на его тексты – он написал какие-то английские песенки. Казалось бы, должно быть наоборот, и я ему сказал: «Слушай, Ген, все-таки ты музыкант, а не я! Я – поэт». Там же играл Сева Новгородцев, который на моей первой пластинке даже наиграл немножко на флейте в последней пьесе[28 - Альбом «Прощание со степью» (1981), песня «Игра на флейте». Альбом записывался в Лондоне, где Сева Новгородцев (псевдоним Всеволода Борисовича Левенштейна) с 1977 года вел на Русской службе «Би-би-си» легендарные радиопередачи о рок-музыке.]. Я ведь почти три года прожил в Лондоне, снова «болтаясь меж двумя столицами». Это вечная моя судьба – мотаться между всеми столицами мира.
– Многие ваши песни имели барочную основу.
– Классика для меня в первую очередь – барочная музыка, Бах, венецианцы. Оттуда появились и песни, но вдохновил меня на их сочинение Глеб Горбовский, написавший «Когда качаются фонарики ночные». Мы с ним дружили года с 60-го, он одно время даже жил у меня, спасаясь от клопов. Они его одолели, и он пришел жить ко мне на 5?ю Советскую, пока у него травили насекомых.
– Вы переезжаете в Москву не впервые. Помните свой первый переезд?
– Да, я женился тогда на Алисе Тилле и поменял свою комнату на Греческом проспекте в Питере на комнату в Мерзляковском переулке в Москве. Потом, когда я эмигрировал[29 - Эмигрировал в 1977 году.], я оставил эту комнату Алисе. И она благополучно из этой комнаты сделала квартиру, так что считает, что часть этой квартиры принадлежит мне – одна комната, по крайней мере.
– Существует извечная проблема выбора Москвы и Питера. Как вам удавалось жить «меж двумя столицами»?
– Для меня не было такой проблемы. В Москве я находил замечательных поэтов и особенно художников. Я всегда считал, что московские художники выше, серьезнее, основательнее, чем питерские. Что касается питерской школы, то она в основном базировалась на так называемых «ахматовских сиротах», но была довольно далека от меня. Хотя я очень дружил с Бродским, когда мы были молодые люди еще совсем и жили рядом, но постепенно разошлись, и, несмотря на все мое уважение к его труду, вся его школа мне стала довольно далека. Гораздо ближе мне стал Заболоцкий, обэриуты, московская школа – Холин, Сапгир.
– В Москве был Геннадий Айги.
– Айги был слишком для меня заумный, а его поэзия – малосодержательна. Его поэзия знаковая скорее, чем содержательная, нет месседжа настоящего, сообщения в ней нет, на мой взгляд. А такие поэты, как Стас Красовицкий, Хромов, Виноградов, вообще московская школа, всегда вызывали во мне восхищение. Были и другие поэты в Питере, которые, конечно, оставили глубокий след в моем творчестве, – Уфлянд, в первую очередь, и Глеб Горбовский. Горбовский – в песенном, а Уфлянд в чисто поэтическом. Уфлянд недавно выступал в Питере, Горбовский сейчас стал уже старый человек. Конечно, в нем нет того запала – и то, что он пишет, как-то немножко неинтересно читать.
– Чем вы объясняете расхождение с Бродским? Ваша жизнь шла параллельно: оба поэты, соседи, тунеядцы.
– Постепенно все это произошло. Не могу сказать, что мы сразу разошлись, step by step. Прежде всего, нас жизнь развела сама по себе, мое увлечение другой совершенно поэзией тоже. Других вещей не было. Честно говоря, с некоторых пор я стал считать, что стихи Бродского – вообще не поэзия. Это некий ритмический набор слов, который передает состояние автора и его эмоциональный настрой. И больше ничего.
– А это разве не может быть названо поэзией?
– Может, конечно! Но для меня – нет.
– Почему в таком случае вам ближе Холин?
– А Холин – другое дело. Холин изобретателен. Холин вечно что-то выдумывает. Точно так же, как и Сапгир. У Холина была целая поэма, «Земной шар умер», где перечисляются все гении, меня он тоже вспоминает несколько раз в разных контекстах. Тогда все считали себя гениями. Гений – и никаких сомнений. СМОГ – самое молодое общество гениев. Сейчас – век возрождения, и все начали писать. Когда человек говорит, что закрывает мировое искусство, спорить с такими людьми не надо, пускай закрывает. С Холиным меня познакомил Сапгир. Я одно время жил в подвале, который ему выделило общество пожарников. Сам Холин в мастерской не жил, только приходил иногда. И он мне каждый день выдавал по серебряному рублю, чтобы я сидел и писал стихи. Я писал и даже сделал ему какую-то картину в подарок. А Сапгира ко мне в Питере привел покойный Алик Гинзбург. С ним мы дружили до самой смерти, он приезжал и выступал в моей мастерской, которую я превратил в клуб «Симпозион», оказавшийся сборищем русских людей. Холин устроил вечер у Стацинского, а я написал статью об этом в «Русскую мысль», которая так и называлась: «Умер земной шар».
– Выходит, у Бродского мало смыслового плана?
– Пожалуй, да. Он неизобретателен, вот что я хочу сказать. Он классицист. Он встал один раз на какие-то рельсы и с них не съезжал никогда. Он мне еще в молодые годы, когда нам было двадцать с небольшим лет, сказал: «Хвост, ты увидишь, я получу Нобелевскую премию!» И он ее получил. Он делал все, чтобы ее получить. А для того, чтобы это сделать, нужно работать в одном направлении. Он так и трудился.
– Лимонов тоже хотел, но не получил.
– Лимонов, может быть, хотел, но не смог. Нобелевский лауреат должен вести особый образ жизни, это точно совершенно – и палитра его деятельности должна быть очень широкой, он должен преподавать, он должен читать лекции, просвещать, еще что-то делать.
– Вас, как и Бродского, судили за тунеядство. Но для Бродского с этого суда началась мировая слава, на его защиту встала вся интеллигенция, вы же так и остались битником.
– Меня судили за тунеядство раньше, и Бродский прибегал хлопотать, чтобы меня простили. Были фельетоны, где мы все фигурировали – Бродский, Ентин, я, Роман Каплан[30 - Каплан Роман Аркадиевич (1937–2021) – переводчик, искусствовед, эмигрировал в 1972 году; в 1986?м основал в Нью-Йорке знаменитый ресторан «Самовар». Имеется в виду фельетон М. Медведева «Навозная муха» в газете «Вечерний Ленинград» (№ 138 от 13 июня 1963 г.): «Под стать Каплану и его ближайшее окружение. Леонид Ентин, Иосиф Бродский, Алексей Хвостенко – окололитературные мальчики, мнящие себя непризнанными гениями. Все они, конечно, ярые фанатики модернизма в искусстве и сами пишут бездарные формалистические стишки». – Благодарю А. Н. Новоселову за помощь в розыске фельетона. – И. К.].
– В Москве был тогда опубликован фельетон «Бездельники карабкались на Парнас»[31 - Иващенко Ю. Бездельники карабкаются на Парнас // Известия. 1960. 2 сент. Фельетон о журнале А. Гинзбурга «Синтаксис».].
– Да, еще «Помойка номер восемь»[32 - Жрецы помойки № 8 // Московский комсомолец. 1960. 29 сент.] – про Рабина и компанию. Первый мой суд закончился смешно – тем, что меня приговорили к поступлению в университет. Меня спросили: «Чем вы занимаетесь сейчас?» – «Я пишу стихи». – «Как, вы пишете стихи и не имеете никакого образования?» Я сказал, что считаю необязательным иметь образование. Они ответили, что обязательно нужно иметь образование: «Давайте договоримся с вами так: вы пойдете на какое-нибудь филологическое отделение и будете изучать филологию». Я сказал: «Ну хорошо – тогда я постараюсь поступить в университет, на филфак». На этом мы и договорились. В то время, когда меня арестовали, я писал стихи и на филфак поступал уже после всех художественных образований. А потом меня два раза еще арестовывали по тунеядству, но до суда дело не доходило, а отправляли в психушку и там держали. В первый раз, на Пряжке, я попал на койку, на которой лежал до меня Бродский, и там провел месяц целый. Второй раз мне еще больше повезло: я целых полгода провел в другой психушке, в Ленинградской областной больнице психиатрической, где попал на инсулиновую шокотерапию за то же самое, за тунеядство.
– Сложно было жить не работая?
– Так я зарабатывал довольно много, но все это были заработки левые – то работал фотографом на пляже, то мыловаром в прачечной, то еще что-то такое. Фотографом я работал в Крыму на пляже, а деньги пропивал в Коктебеле на Киселевке[33 - Дом художника и руководителя Инициативной группы защиты прав инвалидов Юрия Ивановича Киселева (1932–1995) в Коктебеле, с 1956?го по 1981 год место отдыха неформальной молодежи и творческой интеллигенции. См. ниже.]. Там все кому не лень работали. Иногда меня приглашали и в дом Волошина, попеть что-нибудь, например, и я пел.
– А как вы впервые оказались в Москве?
– Впервые я попал в Москву через Тарусу, куда мы приехали с одной девушкой и ночевали в стогу сена, а утром крестьянин нас вилами оттуда выковыривал. В Тарусе я был один раз, на выставке моих друзей в 61?м году, там выставлялись Эдик Штейнберг, Валя Воробьев и компания. Воробьев выдумывает, что я там все лето провел[34 - См.: Воробьев В. Враг народа. М.: Новое литературное обозрение, 2002. С. 189. См. также: Воробьев В. Гений подпольного Хвоста // Воробьев В. Леваки. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 133–134.]. Там я был один день. Ночевал в стогу сена с какой-то девушкой, а утром меня крестьяне выкалывали оттуда вилами. С тех пор я там и не был никогда. Тогда там была одна из первых левацких выставок, где были Воробьев, Яковлев, Штейнберг, Гробман. Потом в Питере мы сделали квартирную выставку на 7?й Советской улице с Михновым, Богдановым и Юрой Галецким. В комнате на Тверской, где жила бывшая к тому времени жена Сапгира, Кира, я устроил свою первую в Москве квартирную выставку. Одна выставка в Питере и одна в Москве. Больше я выставок не делал.
– Тридцать лет назад питерский андеграунд был легализован на выставках в ДК Газа и «Невский». Где тогда были вы?
– Так получилось, что я не участвовал в питерских больших выставках по тем или иным причинам, хотя и мог. Меня никогда не было, лето я всегда проводил в Крыму, халтурил, фотографировал заезжих курортников. Доходное было занятие, три фотографии – рубль. В день я иногда зарабатывал по триста рублей. Но потом отправлялся в Коктебель и начинал поить всю местную публику на знаменитой Киселевке. Там жил художник Юра Киселев, а я приезжал и пьянствовал. Все это продолжалось до самого моего отъезда. В доме Волошина был свой круг, Киселевка была более демократичным местом. Туда мог приехать кто угодно, и все помогали дом достраивать и перестраивать. Кого там только не бывало, Олег Целков приезжал со своей Тонькой, Толстый[35 - Котляров Владимир Соломонович (Толстый, 1937–2013) – художник-перформансист, киноактер, мейл-артист; эмигрировал в 1979 году, выпускал в Париже альманах «Мулета» и газету «Вечерний звон».] что-то там делал, а я в основном спаивал гостей. Но с Толстым я познакомился уже в Париже. Кончилось тем, что зимой, когда Юры не было, дом спалили.
– География ваших песен – от Москвы до самых до окраин.
– Я много ездил по стране, где только не был. Жил в Салехарде, единственном городе, который стоит на Полярном круге, чем местные жители очень гордились. Жители там были ссыльные немцы поволжские, а основной контингент приезжал на Север по найму, за большие надбавки. В Салехарде на радио я сам не выступал, но там прочитали одно мое стихотворение. Дикторша по кличке Марихуана прочитала стихотворение про войну котов и мышей, и я получил 15 рублей 30 копеек, единственный мой официальный гонорар в Советском Союзе. Мы там вдвоем с Юрой Ярмолинским[36 - Ярмолинский Юрий – художник, режиссер; инициатор «Committee for Aleksei Khvostenko», автор цикла документальных фильмов «Вокруг Хвоста» (https://www.youtube.com/watch?v=yof25P4O1YE; https://www.youtube.com/watch?v=KkDMxccA57A; https://www.youtube.com/watch?v=sjo2u1xQwL0 – просм. 28.08.2023). Пятницкий Владимир Павлович (1938–1978) – московский художник, один из авторов знаменитых анекдотов «под Хармса» «Веселые ребята». Писателю Геннадию Яковлевичу Снегиреву (1933–2004) посвящена песня Хвостенко «Эпиталама Геннадию Снегиреву» (см. ниже).] разрисовывали какие-то рестораны, какие-то клубы. Иногда к нам приезжали помощники. Воркута – одни лагеря, Лабытнанги – вообще одна зона большая. Улицы Ленина и Карла Маркса пересекались, а кругом заборы с колючей проволокой. Там был ресторан «Семь лиственниц», куда мы ездили за водкой из Салехарда, с доставкой было туговато. Зимой еще можно было по снегу через Обь переезжать на вездеходах, таких танках облегченных. А летом начинали приходить пароходы. Так мы и мотались по всей стране.
– Пляжным фотографом быть несколько легче!
– Целый год, если не больше, провел в Средней Азии, в Самарканде. Я наблюдал сбор хлопка в Узбекистане, в Ферганской долине. В Самарканде мы вчетвером, Володя Пятницкий, Ваня Тимашев по кличке Бог, я и Гена Снегирев, расписывали ба?ям, старикам местным, их бесконечные анфилады комнат. Бывшему самаркандскому прокурору мы расписывали айван, террасу внутреннюю во дворе дома. Он рассказал нам, что стал самым богатым человеком, когда был директором какого-то детского дома. Я подумал, что же там украсть можно? А оказалось, они просто детей продавали своим в рабство. Девочки ценились намного дороже, чем мальчики, они всегда оставались сильнее. Так что феодальная система была там та же самая. Трудно сказать, была там советская власть или нет, все они оставались мусульманами.
– Когда б вы знали, из какого сора растут стихи.
– Когда мы работали в Джамбае, маленьком городишке, где местные жители, в основном ссыльные крымские татары, чайхану какую-то расписывали, то жили в доме дехканина, крестьянина на местном языке, одноэтажном бараке на двадцать кроватей. Кончилось это тем, что нас посадили на пятнадцать суток в зиндан, в тюрьму. В яму нас посадили чайханщики, потому что не хотели нам платить. Спровоцировали, подослав какого-то типа, который назвался ревизором и сказал, что ему ужасно нравится то, что мы делаем: «Сейчас я перенесу к вам весь буфет». Ну, мы, конечно, напились там изрядно, и я заснул. А когда проснулся, пришел милиционер со словами: «Вас всех просит к себе начальник милиции». Тут меня прихватил радикулит, и я говорю: «Я ни за что не пойду». – «Ну, пускай кто-нибудь один пойдет!» И стал по очереди всех вытягивать. В зиндане мы сидели пятнадцать суток. Там я и сочинил песню «Я говорю вам: жизнь красна…»[37 - «Эпиталама Геннадию Снегиреву».]. Снегирев закрутил роман с девочкой-архитектором из Ташкента, которая в то время жила в Самарканде, и хотел даже жениться. При мне он описывал их будущую жизнь брачную: «Я буду лежать на печке и писать роман под названием „Хуй“, а ты будешь варить щи. Она: „Нет, я не хочу!“ – „Ну, тогда наоборот – ты будешь лежать на печке и писать роман под названием „Хуй“, а я буду варить щи». Первыми слушателями были местные заключенные. А Снегирев так вообще заговорил всех своими рассказами. Когда выпускали, нас встречали с почетом, пригласили на той[38 - Пир, праздник (тюрк.).] и угощали пловом с гашишем. Поешь плову и улетаешь. В общем, так они и уехали. Кажется, он даже увез ее с собой и купил какой-то дом в Костромской области. Уже в Москве он ко мне пришел советоваться, жениться ему или не жениться. Вызвал меня на серьезные переговоры и повел Новым Арбатом в кафе «Чародейка». А мне было очень плохо летом, после перепития какого-то очередного. Он говорит: «Прими, это тебе поможет!» Я принял и там заснул, вырубился напрочь. И вместо всякого совета и разговора я все проспал. Просыпаюсь, мы со Снегиревым вдвоем, какая-то тетка подметает. Не знаю, чем вся эта история закончилась, с тех пор мы никогда не виделись. Думаю, что получилось по песне: они не ужились вместе.
– Пьют все, не все осваиваются на новом месте. Может, не нужно их вообще отрывать от родного города?
– Трудно сказать. Вадик Делоне[39 - Делоне Владимир Николаевич (1947–1983) – поэт, диссидент; эмигрировал в 1975 году с женой Ириной Михайловной Белогородской.], которого выслали из страны, очень тяжело переживал эту ситуацию и пил, конечно, ужасно. Выперли его, он пил-пил и умер. Умер довольно странным образом, как мне рассказывала его жена, Ира. Они сидели с гостями, а потом он устал и пошел спать. Он ей говорит: «Поставь мне пластинку Хвоста послушать». У меня тогда вышла моя первая пластинка в Лондоне, «Прощание со степью»[40 - «Прощание со степью» – альбом песен Алексея Хвостенко, переиздан в России фирмой «Отделение „Выход“» в 1996 году.], и я ему ее подарил. В Люксембургском саду мы с Вадиком довольно часто бухали, у нас знакомая жила напротив этого садика. Ирка поставила первую сторону и пошла к гостям в другую комнату. Вадик лежал на кровати. Когда закончилась первая сторона, она зашла перевернуть, сняла иголку, подошла к Вадику – а он не дышит, рука холодная совершенно. Он умер, слушая мою пластинку «Прощание со степью». Во сне, естественной смертью.
– Рисовать я начал учиться в Герценовском институте на графическом факультете, потом учился у барона Штиглица, в Мухинском училище[18 - Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В. И. Мухиной. Основано в 1876 году и построено на средства барона А. Л. Штиглица.]. А до этого взял один урок у одного монгола из питерской Академии художеств. Монгол поставил передо мной бюст Маяковского, единственное, что там было, и показал мне, как его зарисовать. Это был первый и единственный урок рисования, который я получил в своей жизни. Это происходило в доме творчества писателей в Комарове, Териоки это называлось раньше, где жил мой отец. Папа был филолог, переводчик и поэт, но как поэт никогда не печатался. Комаровская жизнь помнится довольно смутно – ходили на пляж, собирали ягоды, грибы, ловили рыбу в каких-то озерах. Бруй[19 - Бруй Вильям Петрович – художник. Эмигрировал в 1970 году, с 1971 года активный участник художественной жизни Парижа. В 1994?м в Париже состоялась совместная выставка Бруя и Хвостенко «Хрустальный дворец» (см. ниже). См. также стихотворение Хвостенко «Вильяму Брую на день его рождения в Хрустальном дворце» (наст. изд.).] там жил позже, с ним я встретился только в Париже. До Ахматовой я так и не добрался, хотя Бродский меня заманивал к ней. Но меня как-то не очень тянуло со знаменитыми личностями знакомиться.
– А как же Акимов?
– Я в начале 60?х годов пытался учиться в нескольких институтах, в Институте имени Герцена, в Мухинском училище, куда ходил на подготовительные курсы и поступил на следующий год. А потом я перешел в Театральный институт и учился у покойного Николая Павловича Акимова. Это был великий режиссер и очень хороший художник. Чего-то он рассказывал, показывал, объяснял, втолковывал, но основным уроком была свобода творчества. Там можно было делать все что угодно, даже абстрактные вещи. Акимов привил мне любовь к режиссуре. Но я зашел и вышел, проучился месяца два или три. Когда мы устроили нашу первую выставку, Акимов пришел, посмотрел на мою картину «Портрет бабушки», которую я сделал из разных материалов, подобраных на улице. Сказал, что бабушка не плавает, и стал ее критиковать: «Ничего – красиво, элегантно, но картина будет пылиться!» Я только что прочитал тогда Беккета, «Последнюю магнитофонную ленту»[20 - Пьесу С. Беккета «Последняя лента Крэппа» позднее, в 1973 году, перевел поэт и издатель Хвостенко Владимир Эрль.], рассказал ему содержание этой пьесы, и ему мой пересказ очень понравился, по-моему. Он ушел, и после этого мы больше никогда не виделись.
– Как появился ваш соавтор Волохонский?
– С поэтом и философом Анри Волохонским мы всю жизнь работаем вместе. Начинали мы с песен, потом стали писать вместе басни, затем пьесы, первой из которых стал «Первый гриб». Мы написали ее в расчете поставить на сцене, носили даже в ТЮЗ к Зяме Корогодскому[21 - Корогодский Зиновий Яковлевич (1926–2004) – театральный режиссер, в 1962–1986 художественный руководитель Ленинградского театра юного зрителя (ТЮЗ).]. Пьеса везде понравилась, но ставить ее отказались, сказав, что она полна анахронизмов и еще каких-то намеков, неприличных для советской власти. Анахронизмов в чисто языковом, лингвистическом плане. В общем, так ее и не поставили нигде. И Корогодский предложил нам с Анри написать ему пьесу по «Марсианским хроникам» Брэдбери, был такой писатель-фантаст американский. Мы этого, конечно, делать не стали. На этом наше знакомство с Корогодским закончилось. Содружество АХВ продолжается до сих пор, недавно в Москве вышла книжка текстов наших песен[22 - Хвостенко А. Л., Волохонский А. Г. Берлога пчел. Тверь: Kolonna Publications, 2004.].
– Церковь греческая еще стояла?
– Стояла. Я видел, как ее ломали, – у меня какие-то стихи даже есть на эту тему[23 - Стихотворение «Напасти Песков» из цикла «Памятник летчику Мациневичу» (Хвостенко А. Л. Верпа. С. 188–189).]. Бродский тоже чего-то написал. Тогда ведь все жили рядом – я на Греческом, а Бродский на Пестеля. Екатерининский садик, сквер у Зимнего стадиона. Основная тусовка происходила в «Сайгоне». Сайгон и Малая Садовая, где собирались поэты и прочая левацкая публика, существовали одновременно[24 - Кафетерий на Малой Садовой улице и кафе «Сайгон» на углу Невского и Владимирского проспектов – главные точки ленинградской «кофейной культуры» (термин Т. Л. Никольской) 1960–1970?х годов.]. До этого собирались на кухнях. Тогда компания, которую Костя Кузьминский называл «ахматовские сироты», не была главной, были и другие поэты. В Москве были смогисты, лианозовцы, Зверев, Яковлев, Харитонов, все ныне покойные. В Питере были Хеленукты во главе с Эрлем, Володей Горбуновым. У меня был собственный кружок под названием «Верпа». «Верпа» – это Анри Волохонский, я и Леня Ентин[25 - Ентин Леонид Григорьевич (1938–2016) – поэт, драматург. В соавторстве с Хвостенко написал абсурдистскую пьесу «Ботва» (1966). Поддерживал общение с Ю. Галансковым и А. Гинзбургом, в 1977 году был арестован по сфабрикованному уголовному делу и приговорен к году тюрьмы. В 1978?м эмигрировал. Жил и скончался в Париже.]. Результатом стала книжка «Институт Верпы», которую издала в Нью-Йорке Юля Беломлинская, а за ней митьки в «Красном матросе». Того же времени поэмы «Подозритель» и «Эпиграф». Поэма «Слон На» была напечатана в Питере совсем недавно, несколько лет назад, покойным Аллоем[26 - Аллой Владимир Ефимович (1945–2001) – публицист, издатель, основатель издательства «Феникс», в котором вышла книга Хвостенко «Колесо времени» (1999).], который покончил с собой при странных обстоятельствах: вернулся в Париж, купил квартиру, машину, перевез оборудование, поехал в Питер закончить свои дела и повесился. Жена Таня до сих пор продолжает его дело, выпускает исторические книжки.
– Многие уходили тогда в детскую литературу – Голявкин, Григорьев, Холин, Сапгир. Был очень популярен Хармс, обэриуты. Почему для вас был важнее классицизм?
– Мой отец очень дружил с Маршаком, сотрудничал с ним как переводчик, и у меня было много его книг, подписанных им самим. Для меня самый важный поэт всегда был Хлебников. Он больше всего на меня повлиял. Что касается обэриутов, то, впервые прочитав их в самиздате, я был удивлен схожестью с тем, что я делаю. Так что не могу сказать, что они оказали на меня какое-либо влияние, – к тому времени я уже делал собственные вещи. Разумеется, классицизм – Державин, Сумароков оказали на меня большое влияние. Еще Катулл, Тибулл, Проперций, Марциал. Безусловно, Данте, Петрарка. Больше всего, конечно, Шекспир. Вслед за Ларошфуко я пишу максимы.
– Один из ваших опусов называется «Опыт постороннего творческого процесса». Позиция наблюдателя жизни вам ближе, чем ее участника?
– Я бы сказал, скорее исследователя. Или открывателя. Вообще я намеренно зашифровываю свои стихи, чтобы они имели многозначность. Чтобы прочитать их было непросто. Чтобы в каждой строчке был заключен не один, а несколько смыслов. У меня есть серия стихов под названием «Трехголосые двустишья», где я пытаюсь в двух строчках дать три смысла стихотворению.
– Как трехсмысленность совмещается с импровизацией?
– Импровизация, конечно, стоит на первом месте. Я очень любил джаз. Круг джазменов в Питере довольно обособленный. Первый профессиональный джазовый оркестр был у Вайнштейна[27 - Вайнштейн Иосиф Владимирович (1918–2001) – джазмен, основатель джазового оркестра при гостинице «Европейская» в Ленинграде в 1938 году, впоследствии (с 1955) – джазового оркестра Ленгосэстрады, о котором говорит Хвостенко.]. Там играли мои приятели Слава Чевычелов, Рома Кунсман, Гена Гольдштейн. Рома переселился в Израиль, где стал правоверным евреем и не мог играть по субботам. А для музыканта главная работа – пятница и суббота. Так он и перестал джаз играть. Затем он переехал в Америку. Но еще в Питере, когда мы случайно встретились на улице, он сказал, что увлекся Хиндемитом и сочиняет совсем другую музыку. Гольдштейн приезжал ко мне сюда в Париж, хотел почему-то, чтобы я сочинил какую-то музыку на его тексты – он написал какие-то английские песенки. Казалось бы, должно быть наоборот, и я ему сказал: «Слушай, Ген, все-таки ты музыкант, а не я! Я – поэт». Там же играл Сева Новгородцев, который на моей первой пластинке даже наиграл немножко на флейте в последней пьесе[28 - Альбом «Прощание со степью» (1981), песня «Игра на флейте». Альбом записывался в Лондоне, где Сева Новгородцев (псевдоним Всеволода Борисовича Левенштейна) с 1977 года вел на Русской службе «Би-би-си» легендарные радиопередачи о рок-музыке.]. Я ведь почти три года прожил в Лондоне, снова «болтаясь меж двумя столицами». Это вечная моя судьба – мотаться между всеми столицами мира.
– Многие ваши песни имели барочную основу.
– Классика для меня в первую очередь – барочная музыка, Бах, венецианцы. Оттуда появились и песни, но вдохновил меня на их сочинение Глеб Горбовский, написавший «Когда качаются фонарики ночные». Мы с ним дружили года с 60-го, он одно время даже жил у меня, спасаясь от клопов. Они его одолели, и он пришел жить ко мне на 5?ю Советскую, пока у него травили насекомых.
– Вы переезжаете в Москву не впервые. Помните свой первый переезд?
– Да, я женился тогда на Алисе Тилле и поменял свою комнату на Греческом проспекте в Питере на комнату в Мерзляковском переулке в Москве. Потом, когда я эмигрировал[29 - Эмигрировал в 1977 году.], я оставил эту комнату Алисе. И она благополучно из этой комнаты сделала квартиру, так что считает, что часть этой квартиры принадлежит мне – одна комната, по крайней мере.
– Существует извечная проблема выбора Москвы и Питера. Как вам удавалось жить «меж двумя столицами»?
– Для меня не было такой проблемы. В Москве я находил замечательных поэтов и особенно художников. Я всегда считал, что московские художники выше, серьезнее, основательнее, чем питерские. Что касается питерской школы, то она в основном базировалась на так называемых «ахматовских сиротах», но была довольно далека от меня. Хотя я очень дружил с Бродским, когда мы были молодые люди еще совсем и жили рядом, но постепенно разошлись, и, несмотря на все мое уважение к его труду, вся его школа мне стала довольно далека. Гораздо ближе мне стал Заболоцкий, обэриуты, московская школа – Холин, Сапгир.
– В Москве был Геннадий Айги.
– Айги был слишком для меня заумный, а его поэзия – малосодержательна. Его поэзия знаковая скорее, чем содержательная, нет месседжа настоящего, сообщения в ней нет, на мой взгляд. А такие поэты, как Стас Красовицкий, Хромов, Виноградов, вообще московская школа, всегда вызывали во мне восхищение. Были и другие поэты в Питере, которые, конечно, оставили глубокий след в моем творчестве, – Уфлянд, в первую очередь, и Глеб Горбовский. Горбовский – в песенном, а Уфлянд в чисто поэтическом. Уфлянд недавно выступал в Питере, Горбовский сейчас стал уже старый человек. Конечно, в нем нет того запала – и то, что он пишет, как-то немножко неинтересно читать.
– Чем вы объясняете расхождение с Бродским? Ваша жизнь шла параллельно: оба поэты, соседи, тунеядцы.
– Постепенно все это произошло. Не могу сказать, что мы сразу разошлись, step by step. Прежде всего, нас жизнь развела сама по себе, мое увлечение другой совершенно поэзией тоже. Других вещей не было. Честно говоря, с некоторых пор я стал считать, что стихи Бродского – вообще не поэзия. Это некий ритмический набор слов, который передает состояние автора и его эмоциональный настрой. И больше ничего.
– А это разве не может быть названо поэзией?
– Может, конечно! Но для меня – нет.
– Почему в таком случае вам ближе Холин?
– А Холин – другое дело. Холин изобретателен. Холин вечно что-то выдумывает. Точно так же, как и Сапгир. У Холина была целая поэма, «Земной шар умер», где перечисляются все гении, меня он тоже вспоминает несколько раз в разных контекстах. Тогда все считали себя гениями. Гений – и никаких сомнений. СМОГ – самое молодое общество гениев. Сейчас – век возрождения, и все начали писать. Когда человек говорит, что закрывает мировое искусство, спорить с такими людьми не надо, пускай закрывает. С Холиным меня познакомил Сапгир. Я одно время жил в подвале, который ему выделило общество пожарников. Сам Холин в мастерской не жил, только приходил иногда. И он мне каждый день выдавал по серебряному рублю, чтобы я сидел и писал стихи. Я писал и даже сделал ему какую-то картину в подарок. А Сапгира ко мне в Питере привел покойный Алик Гинзбург. С ним мы дружили до самой смерти, он приезжал и выступал в моей мастерской, которую я превратил в клуб «Симпозион», оказавшийся сборищем русских людей. Холин устроил вечер у Стацинского, а я написал статью об этом в «Русскую мысль», которая так и называлась: «Умер земной шар».
– Выходит, у Бродского мало смыслового плана?
– Пожалуй, да. Он неизобретателен, вот что я хочу сказать. Он классицист. Он встал один раз на какие-то рельсы и с них не съезжал никогда. Он мне еще в молодые годы, когда нам было двадцать с небольшим лет, сказал: «Хвост, ты увидишь, я получу Нобелевскую премию!» И он ее получил. Он делал все, чтобы ее получить. А для того, чтобы это сделать, нужно работать в одном направлении. Он так и трудился.
– Лимонов тоже хотел, но не получил.
– Лимонов, может быть, хотел, но не смог. Нобелевский лауреат должен вести особый образ жизни, это точно совершенно – и палитра его деятельности должна быть очень широкой, он должен преподавать, он должен читать лекции, просвещать, еще что-то делать.
– Вас, как и Бродского, судили за тунеядство. Но для Бродского с этого суда началась мировая слава, на его защиту встала вся интеллигенция, вы же так и остались битником.
– Меня судили за тунеядство раньше, и Бродский прибегал хлопотать, чтобы меня простили. Были фельетоны, где мы все фигурировали – Бродский, Ентин, я, Роман Каплан[30 - Каплан Роман Аркадиевич (1937–2021) – переводчик, искусствовед, эмигрировал в 1972 году; в 1986?м основал в Нью-Йорке знаменитый ресторан «Самовар». Имеется в виду фельетон М. Медведева «Навозная муха» в газете «Вечерний Ленинград» (№ 138 от 13 июня 1963 г.): «Под стать Каплану и его ближайшее окружение. Леонид Ентин, Иосиф Бродский, Алексей Хвостенко – окололитературные мальчики, мнящие себя непризнанными гениями. Все они, конечно, ярые фанатики модернизма в искусстве и сами пишут бездарные формалистические стишки». – Благодарю А. Н. Новоселову за помощь в розыске фельетона. – И. К.].
– В Москве был тогда опубликован фельетон «Бездельники карабкались на Парнас»[31 - Иващенко Ю. Бездельники карабкаются на Парнас // Известия. 1960. 2 сент. Фельетон о журнале А. Гинзбурга «Синтаксис».].
– Да, еще «Помойка номер восемь»[32 - Жрецы помойки № 8 // Московский комсомолец. 1960. 29 сент.] – про Рабина и компанию. Первый мой суд закончился смешно – тем, что меня приговорили к поступлению в университет. Меня спросили: «Чем вы занимаетесь сейчас?» – «Я пишу стихи». – «Как, вы пишете стихи и не имеете никакого образования?» Я сказал, что считаю необязательным иметь образование. Они ответили, что обязательно нужно иметь образование: «Давайте договоримся с вами так: вы пойдете на какое-нибудь филологическое отделение и будете изучать филологию». Я сказал: «Ну хорошо – тогда я постараюсь поступить в университет, на филфак». На этом мы и договорились. В то время, когда меня арестовали, я писал стихи и на филфак поступал уже после всех художественных образований. А потом меня два раза еще арестовывали по тунеядству, но до суда дело не доходило, а отправляли в психушку и там держали. В первый раз, на Пряжке, я попал на койку, на которой лежал до меня Бродский, и там провел месяц целый. Второй раз мне еще больше повезло: я целых полгода провел в другой психушке, в Ленинградской областной больнице психиатрической, где попал на инсулиновую шокотерапию за то же самое, за тунеядство.
– Сложно было жить не работая?
– Так я зарабатывал довольно много, но все это были заработки левые – то работал фотографом на пляже, то мыловаром в прачечной, то еще что-то такое. Фотографом я работал в Крыму на пляже, а деньги пропивал в Коктебеле на Киселевке[33 - Дом художника и руководителя Инициативной группы защиты прав инвалидов Юрия Ивановича Киселева (1932–1995) в Коктебеле, с 1956?го по 1981 год место отдыха неформальной молодежи и творческой интеллигенции. См. ниже.]. Там все кому не лень работали. Иногда меня приглашали и в дом Волошина, попеть что-нибудь, например, и я пел.
– А как вы впервые оказались в Москве?
– Впервые я попал в Москву через Тарусу, куда мы приехали с одной девушкой и ночевали в стогу сена, а утром крестьянин нас вилами оттуда выковыривал. В Тарусе я был один раз, на выставке моих друзей в 61?м году, там выставлялись Эдик Штейнберг, Валя Воробьев и компания. Воробьев выдумывает, что я там все лето провел[34 - См.: Воробьев В. Враг народа. М.: Новое литературное обозрение, 2002. С. 189. См. также: Воробьев В. Гений подпольного Хвоста // Воробьев В. Леваки. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 133–134.]. Там я был один день. Ночевал в стогу сена с какой-то девушкой, а утром меня крестьяне выкалывали оттуда вилами. С тех пор я там и не был никогда. Тогда там была одна из первых левацких выставок, где были Воробьев, Яковлев, Штейнберг, Гробман. Потом в Питере мы сделали квартирную выставку на 7?й Советской улице с Михновым, Богдановым и Юрой Галецким. В комнате на Тверской, где жила бывшая к тому времени жена Сапгира, Кира, я устроил свою первую в Москве квартирную выставку. Одна выставка в Питере и одна в Москве. Больше я выставок не делал.
– Тридцать лет назад питерский андеграунд был легализован на выставках в ДК Газа и «Невский». Где тогда были вы?
– Так получилось, что я не участвовал в питерских больших выставках по тем или иным причинам, хотя и мог. Меня никогда не было, лето я всегда проводил в Крыму, халтурил, фотографировал заезжих курортников. Доходное было занятие, три фотографии – рубль. В день я иногда зарабатывал по триста рублей. Но потом отправлялся в Коктебель и начинал поить всю местную публику на знаменитой Киселевке. Там жил художник Юра Киселев, а я приезжал и пьянствовал. Все это продолжалось до самого моего отъезда. В доме Волошина был свой круг, Киселевка была более демократичным местом. Туда мог приехать кто угодно, и все помогали дом достраивать и перестраивать. Кого там только не бывало, Олег Целков приезжал со своей Тонькой, Толстый[35 - Котляров Владимир Соломонович (Толстый, 1937–2013) – художник-перформансист, киноактер, мейл-артист; эмигрировал в 1979 году, выпускал в Париже альманах «Мулета» и газету «Вечерний звон».] что-то там делал, а я в основном спаивал гостей. Но с Толстым я познакомился уже в Париже. Кончилось тем, что зимой, когда Юры не было, дом спалили.
– География ваших песен – от Москвы до самых до окраин.
– Я много ездил по стране, где только не был. Жил в Салехарде, единственном городе, который стоит на Полярном круге, чем местные жители очень гордились. Жители там были ссыльные немцы поволжские, а основной контингент приезжал на Север по найму, за большие надбавки. В Салехарде на радио я сам не выступал, но там прочитали одно мое стихотворение. Дикторша по кличке Марихуана прочитала стихотворение про войну котов и мышей, и я получил 15 рублей 30 копеек, единственный мой официальный гонорар в Советском Союзе. Мы там вдвоем с Юрой Ярмолинским[36 - Ярмолинский Юрий – художник, режиссер; инициатор «Committee for Aleksei Khvostenko», автор цикла документальных фильмов «Вокруг Хвоста» (https://www.youtube.com/watch?v=yof25P4O1YE; https://www.youtube.com/watch?v=KkDMxccA57A; https://www.youtube.com/watch?v=sjo2u1xQwL0 – просм. 28.08.2023). Пятницкий Владимир Павлович (1938–1978) – московский художник, один из авторов знаменитых анекдотов «под Хармса» «Веселые ребята». Писателю Геннадию Яковлевичу Снегиреву (1933–2004) посвящена песня Хвостенко «Эпиталама Геннадию Снегиреву» (см. ниже).] разрисовывали какие-то рестораны, какие-то клубы. Иногда к нам приезжали помощники. Воркута – одни лагеря, Лабытнанги – вообще одна зона большая. Улицы Ленина и Карла Маркса пересекались, а кругом заборы с колючей проволокой. Там был ресторан «Семь лиственниц», куда мы ездили за водкой из Салехарда, с доставкой было туговато. Зимой еще можно было по снегу через Обь переезжать на вездеходах, таких танках облегченных. А летом начинали приходить пароходы. Так мы и мотались по всей стране.
– Пляжным фотографом быть несколько легче!
– Целый год, если не больше, провел в Средней Азии, в Самарканде. Я наблюдал сбор хлопка в Узбекистане, в Ферганской долине. В Самарканде мы вчетвером, Володя Пятницкий, Ваня Тимашев по кличке Бог, я и Гена Снегирев, расписывали ба?ям, старикам местным, их бесконечные анфилады комнат. Бывшему самаркандскому прокурору мы расписывали айван, террасу внутреннюю во дворе дома. Он рассказал нам, что стал самым богатым человеком, когда был директором какого-то детского дома. Я подумал, что же там украсть можно? А оказалось, они просто детей продавали своим в рабство. Девочки ценились намного дороже, чем мальчики, они всегда оставались сильнее. Так что феодальная система была там та же самая. Трудно сказать, была там советская власть или нет, все они оставались мусульманами.
– Когда б вы знали, из какого сора растут стихи.
– Когда мы работали в Джамбае, маленьком городишке, где местные жители, в основном ссыльные крымские татары, чайхану какую-то расписывали, то жили в доме дехканина, крестьянина на местном языке, одноэтажном бараке на двадцать кроватей. Кончилось это тем, что нас посадили на пятнадцать суток в зиндан, в тюрьму. В яму нас посадили чайханщики, потому что не хотели нам платить. Спровоцировали, подослав какого-то типа, который назвался ревизором и сказал, что ему ужасно нравится то, что мы делаем: «Сейчас я перенесу к вам весь буфет». Ну, мы, конечно, напились там изрядно, и я заснул. А когда проснулся, пришел милиционер со словами: «Вас всех просит к себе начальник милиции». Тут меня прихватил радикулит, и я говорю: «Я ни за что не пойду». – «Ну, пускай кто-нибудь один пойдет!» И стал по очереди всех вытягивать. В зиндане мы сидели пятнадцать суток. Там я и сочинил песню «Я говорю вам: жизнь красна…»[37 - «Эпиталама Геннадию Снегиреву».]. Снегирев закрутил роман с девочкой-архитектором из Ташкента, которая в то время жила в Самарканде, и хотел даже жениться. При мне он описывал их будущую жизнь брачную: «Я буду лежать на печке и писать роман под названием „Хуй“, а ты будешь варить щи. Она: „Нет, я не хочу!“ – „Ну, тогда наоборот – ты будешь лежать на печке и писать роман под названием „Хуй“, а я буду варить щи». Первыми слушателями были местные заключенные. А Снегирев так вообще заговорил всех своими рассказами. Когда выпускали, нас встречали с почетом, пригласили на той[38 - Пир, праздник (тюрк.).] и угощали пловом с гашишем. Поешь плову и улетаешь. В общем, так они и уехали. Кажется, он даже увез ее с собой и купил какой-то дом в Костромской области. Уже в Москве он ко мне пришел советоваться, жениться ему или не жениться. Вызвал меня на серьезные переговоры и повел Новым Арбатом в кафе «Чародейка». А мне было очень плохо летом, после перепития какого-то очередного. Он говорит: «Прими, это тебе поможет!» Я принял и там заснул, вырубился напрочь. И вместо всякого совета и разговора я все проспал. Просыпаюсь, мы со Снегиревым вдвоем, какая-то тетка подметает. Не знаю, чем вся эта история закончилась, с тех пор мы никогда не виделись. Думаю, что получилось по песне: они не ужились вместе.
– Пьют все, не все осваиваются на новом месте. Может, не нужно их вообще отрывать от родного города?
– Трудно сказать. Вадик Делоне[39 - Делоне Владимир Николаевич (1947–1983) – поэт, диссидент; эмигрировал в 1975 году с женой Ириной Михайловной Белогородской.], которого выслали из страны, очень тяжело переживал эту ситуацию и пил, конечно, ужасно. Выперли его, он пил-пил и умер. Умер довольно странным образом, как мне рассказывала его жена, Ира. Они сидели с гостями, а потом он устал и пошел спать. Он ей говорит: «Поставь мне пластинку Хвоста послушать». У меня тогда вышла моя первая пластинка в Лондоне, «Прощание со степью»[40 - «Прощание со степью» – альбом песен Алексея Хвостенко, переиздан в России фирмой «Отделение „Выход“» в 1996 году.], и я ему ее подарил. В Люксембургском саду мы с Вадиком довольно часто бухали, у нас знакомая жила напротив этого садика. Ирка поставила первую сторону и пошла к гостям в другую комнату. Вадик лежал на кровати. Когда закончилась первая сторона, она зашла перевернуть, сняла иголку, подошла к Вадику – а он не дышит, рука холодная совершенно. Он умер, слушая мою пластинку «Прощание со степью». Во сне, естественной смертью.