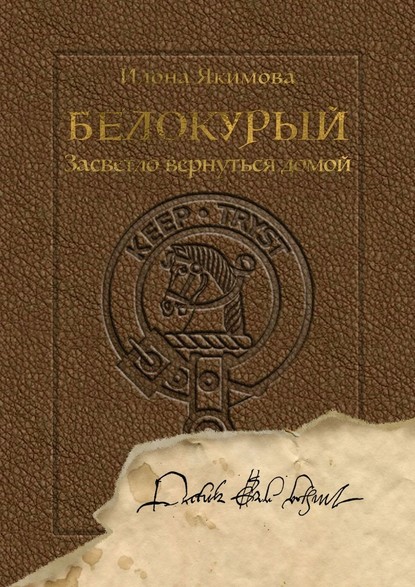По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Белокурый. Засветло вернуться домой
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Дни и ночи сливались в сумерки, которым не было конца и края.
Но потом начало светать.
Шотландия, Мидлотиан, весна 1548
Стрельчатые арки проемов, словно скрещенные стебли ирисов, побелка потолка меж чудовищных ребер свода. Церковь Святой Девы Марии в Хаддингтоне была едва ли не самой большой приходской церковью Мидлотиана – почти собор, лишь чуть-чуть не добирающий длиной до эдинбургского Сент-Джайлса.
– Ваше величество уверены, что это годная идея? – голос мсье Дуазеля был полон глубокого скептицизма. Право, когда он в начале зимы размышлял об одиночестве королевы-матери, о хрупкости и женственности, о необходимости поддержать, ему и в голову не приходило тогда, на что эта нежная дама способна. А ведь состоял он при шотландском дворе уже больше года, мог бы и догадаться…
– Даже если и нет, – хладнокровно отвечала Мари де Гиз, прихватывая подол юбки, чтоб удобней протиснуться в узкий ход, – каким иным, по-вашему, способом, господин посол, я могу воодушевить людей, если не личным примером?
Когда в середине января Грей де Вилтон занял Хаддингтон и послал Ричарда Палмера рыть вокруг города траншеи и строить укрепления, никто и не предполагал, что попытки шотландцев вернуть город затянутся столь надолго и будут до такой степени бесплодны. Потери – и только, Вилтон же, напротив, мог позволить себе выйти из города с рейдерской партией и взять штурмом Далкит, словно поблизости, в Масселбурге, и вовсе не было войск регента с самим Арраном во главе. Позор и унижение – вот что терпела королева-мать день ото дня, и душу ее сжигала ярость Гизов, не могущая найти себе утоления в сражении, а потому воплощающаяся в битве духа.
Королева-мать, качнув фартингейлом, стала подниматься по винтовой лестнице на колокольню церкви. Не первый раз приезжала она сюда – во францисканское аббатство Хаддингтона, в Нанро, и в церковь Девы Марии – осматривать осаду и укрепления Хаддингтона с высоты, и за время этих поездок не менее полутора десятка ее слуг погибло или пострадало под обстрелом англичан. Но королеву это не останавливало, хотя она искренне оплакивала каждую смерть. Ей нужно было видеть неутихающее сражение за Хаддингтон, раз она не могла сама выйти на поле боя.
Хмурясь и покусывая ус, Дуазель последовал за женщиной на колокольню.
Дела их были плохи, и от того, что королева-мать с охотой выставляла себя мишенью для английских канониров, поправиться не обещали. Англичанами были воздвигнуты крепости в Эймуте, Роксбурге, Хоуме, на Инчколме и в Браути, чуть позже – в Лаудере, Данглассе, Инчкейте. Действия войск Сомерсета простирались вплоть до Ламингтона в Клидсдейле, Салтона в Ист-Лотиане, Данди в графстве Ангус. Четырьмя днями позже захвата Далкита люди Грея де Вилтона вновь вышли в рейд – на сей раз в Масселбург, сожгли городок и рыбацкие деревни на побережье, увели с собой скот, пустили пал на поля, вырубили сады. Выжженная земля – вот что оставляли за собой войска герцога Сомерсета, у себя на родине прозванного «Добрым». В конце мая Эдуард Сеймур прямо писал коменданту Хаддингтона Джеймсу Уилфорду о том, что «церковь Девы Марии должна быть разрушена, и прилегающая к ней местность – разорена полностью». И где же они, слова его воззвания к шотландцам по зиме: «поскольку мы волею Бога живем на одном острове, и нет народов, столь схожих по правилам жизни, нравам, обычаям, укладу, то следует быть нам, как братьям, на острове Великой Британии… разве это возможно – одному королевству иметь разных правителей? Ибо цель наша – не завоевать Шотландию, но соединить браком два королевства на едином острове в одно – в любви, согласии, мире и милосердии». Не меч я принес вам, но мир, однако мир вновь оборачивался мечом для упорно не желающих мира.
Но к чему бы ни взывал добрый герцог, в июне долгожданные французы наконец высадились в Лейте – сто двадцать судов, шестнадцать галер, бригантина и три тяжелых корабля. Командиру экспедиционного корпуса Д'Эссе от государя было велено принимать приказы Марии де Гиз «как мои собственные» – протектор королевства Шотландия Генрих Валуа вступил в игру.
Англия, Лондон, лето 1548
Письма летели из конца в конец света, пересекая болота, поля, реки и даже сам Канал. Генрих Валуа писал к Марии де Гиз, писал к ней же коннетабль Монморанси, писал к матери и сестре юный герцог Франсуа де Лонгвиль – о том, что если б не возраст и не ответственность перед своим людьми, непременно прибыл бы в Шотландию лично защитить обеих дам собственным мечом и копьем. Строчки расплывались в глазах, Мари де Гиз плакала в спальне, слезы неостановимо лились сами собой… привет из прошлого, боль матери, утратившей ребенка, сыну тринадцать, а она знает его лицо только по миниатюрам, которые каждый год присылает Антуанетта де Гиз, бабка храброго лонгвильского герцога, вырастившая того, как свое младшее дитя. Молитва, четки, распятие, образ Богородицы, и королева-мать садится за письменный стол, готовя собственноручный ответ.
Летели письма из конца в конец страны и даже через границу – к врагу. Досточтимый правитель королевства Шотландия, граф Арран, бесплодно стоящий осадой под Хаддингтоном, писал в Англию, намекая, что может еще раз переменить сторону, если ожидаемая французская помощь не придет. Но вот незадача – сын его находится в заложниках у Генриха Валуа, в ожидании богатой невесты и в пажах при дворе! Писал де Ноайль из Лондона в Стерлинг к Дуазелю и Д'Эссе, сообщая последние слухи при дворе короля Эдуарда – о том, что Сомерсет, слишком занятый Грубым сватовством, накренился, но выровнялся, но Джон Дадли, граф Уорвик, и Паджет, первый секретарь, едва ли оставят попытки под него подкопаться.
И летели письма с севера Шотландии, из-под пера хладнокровного брихинского епископа – на юг, в Лондон, в Сент-Джайлс, в руки его племянника, пребывающего равно в тоске, в бессилии своего бесправия, в ярости, более естественной для дикого зверя, заточенного в клетку, нежели для изгнанника, покорного судьбе. Чем дольше находился он в стане врага, которого презирал в глубине души, даже подчиняясь, чем более ощущал, как ток настоящей жизни – боя, схватки, сражения – проходит там, вдали от него, тем горячей ненавидел он причину своего изгнания, женщину, которая уязвила сердце, отвергла руку, лишила чести. Но не мог и не восхищаться ею. Мари была хороша даже под пером лишенного романтичности в слоге Джона Хепберна Брихина.
«Далее мы наблюдали вот что. Французы прошли мимо Данбара в виду английских дозорных и высадились в Лейте. По словам очевидцев, было их что-то восьми тысяч, в том числе, наемники – немцы, швейцарцы и датчане, но по прибытии насчитали меньше, у страха, равно как у надежды, глаза велики. Командующий Д'Эссе помчался к королеве-матери в Стерлинг, оставив всю работу по выгрузке флорентийцам Строцци – богу галер Леону и брату его Пьетро, полевому командиру большого опыта. Преподнеся дары и припав к руке королевы, мсье Д'Эссе так же легко выступил было на Хаддингтон, но де Вилтона не очаруешь парижским шармом, тот отошел от Масселбурга и укрылся в городе, за стены, оставив в наивном французе стойкое убеждение, что „испугался“, о чем Д'Эссе спешно и доложил де Гиз. Можешь представить себе ярость нашей кроткой госпожи! Та ведь отправляла его на осаду, не на прогулку… о дни, в которые никто не хотел воевать, но только славословить свою доблесть! В конечном итоге французская вдова поднимала войска в бой сама. Доносят, что она в сопровождении только лишь своих дам, яко царица амазонок, направилась в Эдинбург, пройдя все дома нобилей на Королевской миле пешком, говоря с нашими на родном языке, который акцент делает еще милее в ее устах, удивляясь, что, верно, эти люди зашли под кров никак не уклониться от битвы, но только лишь передохнуть, ибо природная доблесть шотландцев прославлена в веках. Со своими соотечественниками де Гиз говорила по-французски и в тоне совершенно ином. Делайте, с презрением молвила она, что угодно, и поступайте, как вам угодно – мне все равно. Два разных этих способа дали в сумме действие именно то, которого следовало достичь – обе нации кинулись на осаду Хаддингтона с равным воодушевлением. Ты был прав, эта леди – боец в юбке. И, пожалуй, она куда лучший король, чем был ее муж…»
Заслужить похвалу Брихина дорогого стоило. Босуэлл улыбнулся и продолжил читать. Несмотря на то, что имел мало желания сочувствовать бывшей любовнице, он не мог не отметить: Мари приходится несладко, но держится она отменно. Впрочем, эти чувства быстро смывала жгучая горечь разочарования – ему следовало бы быть там, самому руководить осадой, защищать родные края, если бы та самая достойная леди соблаговолила вернуть его домой, сняв обвинения. Но нет, придется возвращаться не через мир между ними, а через кровь и войну. Придется вынудить ее принять графа Босуэлла, если королева не желает по собственной воле согласиться с тем, что он нужен ей.
Пентесилея. амазонка-воительница. Ее видели всюду – и на Хай-стрит в Эдинбурге, и в Холируде, и даже в лагерях французских войск, любезной, в ровном настроении, в скромном облачении вдовы, в дорожном костюме, ибо теперь она путешествовала большей частью верхом. Данбар был отдан в руки французов, Мильорино Убальдини начал восстанавливать и перестраивать его немедленно. Французы укрепляли Лейт, Милхейвен, Инчгарви, замки Блекнесс и Стерлинг, пока сооружались новые крепости в Инвереске, Инчкейте, Лаффнессе. Форт против английского форта и крепость против каждой крепости, занятой людьми Сомерсета. Из числа слуг собственного дома Мари де Гиз собрала всех, кто может держать оружие, направила на осаду Хаддингтона. Вместе со словами напутствия в лагерь осаждающих от нее поставляли хлеб, вино, ячмень, мясо.
И мало кого, как ее, поминали в те дни в церквях Мидлотиана словами благодарения.
Англия, Лондон, сентябрь 1548
Барон Садли овдовел. Бедняжка Екатерина Парр родила слабую девочку, окрещенную Марией, и в начале осени скончалась в горячке, упрекая мужа в том, что он отравил ей жизнь своим беспутным поведением. Барон Садли был искренне опечален – речи больной, омраченной рассудком женщины сильно повредили ему во мнении общества в целом и короля-племянника лично, а ведь он сердечно любил покойную и даже разбил сад в своем имении исключительно для ее услады. Впрочем, оказавшись единственным наследником жены в части земель и средств, Томас Сеймур слегка приумерил скорбь.
Что до леди Елизаветы Тюдор, то она также была больна, ходили неясные слухи о какой-то повитухе, якобы вызванной в дом Дэнни в Честнат, к молодой светловолосой девушке в маске… слухи эти столь яро возмутили достойную дочь старого Гарри, что во гневе Тюдоров – точно рассчитанном и изящно выраженном – четырнадцатилетняя леди Елизавета писала лично протектору Сомерсету и всему Тайному совету своего брата, настаивая на медицинском освидетельствовании и публичном опровержении слухов, порочащих ее честь и достоинство. Эдуард Сеймур не ответил ни нет, ни да, ибо ситуация была со всех сторон щекотливая. Жизнерадостный вдовец, его брат, тем временем предлагал леди Елизавете свой дом в Лондоне, ежели она соберется навестить столицу, и выспрашивал у казначея юной дамы о расположении ее доходных земель, раздавая советы, как было бы удобно их поменять на иные, ближайшие к его собственным угодьям. Утруждая себя хлопотами по устройству следующего витка придворной карьеры, Том Сеймур ныл, двурушничал, лгал, зубоскалил – и повисал на ушах Босуэллу с той тщательностью, как умеют только люди, занятые исключительно собственной персоной. День, проведенный вне общества Тома Сеймура, граф почитал в ту пору величайшей удачей. Впрочем, лучше и такой собеседник, чем вовсе никакого, иначе Патрик Хепберн оставался наедине с собственными мыслями, тяжбами, долгами, бесплодными сожалениями и лисьими укусами совести – внезапно совести, да – и этот хор греческой трагедии, возникающий в голове все более назойливо и некстати, отнюдь не веселил его и нрава не улучшал. Де Ноайль, пообещав французских денег, платил от случая к случаю, и рассчитывать на милость Генриха Валуа теперь, когда король ввязался в шотландскую авантюру, сильно не приходилось. Герцог Сомерсет, лишив его Хейлса, дав взамен нору в Морпете, также был занят северным вопросом – и никакой тысячи крон от короля Эдуарда все еще видно не было, как не видно было и людей под штандарт Босуэлла хотя бы для самого скромного рейда. И только Джон Бартон, благослови Бог старого пьяницу, исправно выходил в море, громя голландцев в Канале. Император Карл сперва обращался с призывом к Аррану – умерить пиратство – затем, не достигнув успеха, к протектору Сомерсету, как к человеку, фактически завоевавшему Ист-Лотиан, затем – даже к Генриху Валуа, раз он провозглашен протектором Шотландии… Но «Блуднице Лейта» нипочем были любые короли, и в итоге император спас свое добро только тем, что стал отправлять с голландскими купцами конвой военных судов. Джон Бартон приуныл, ибо чутье у старого селки было отменное, и встал на рейде английского Бервика со всеми тремя судами, включая «Славу Мидлотиана» и «Бродягу Севера», дабы избежать преждевременного и напрасного, как он пояснил, повреждения драгоценного имущества его милости. Его милость долго и вдохновенно выражался по-гэльски в ответ на эту весть, ибо кошель графа Босуэлла пустовал уже давно.
Агнесс, леди Морэм, промолчала в ответ на его внезапное письмо. Зато Джон Хепберн Брихин гонцов слал исправно, они находили дорогу в Сент-Джайлс, несмотря на любые превратности пути и погоды.
«В битве за Хаддингтон, – писал дорогой младший дядя, – англичане потеряли несколько сотен мертвыми, также взято изрядное число пленных. Королева-мать лично прибыла в наш лагерь для бесед с солдатами и поздравлений. „Поскольку, – сказала она, – мое государство держится на вас и вашей службе, только правильно, что и похвала, и награда исходят от меня лично“. Но первый приступ осады опять не дал ничего, кроме сиюминутного воодушевления, мы имеем дело не только с умным врагом, но и с союзником, который не станет утруждать себя без выгоды. Французы не намерены брать город, пока не будет подписан новый шотландско-французский договор. На первой неделе июля де Гиз покинула Эдинбург и верхом отправилась в Хердманстон. В аббатстве Нанро был созван Парламент для одобрения нового мира между нами и Валуа. Три сословия согласились на брак, протекторат, передачу крепостей французам в залог, отплытие маленькой королевы за Канал. Королева-мать выглядит усталой, поблекшей, измученной, как женщина, живущая лишь постом и молитвой, однако в равной степени – одухотворенной. Из Нанро она отправилась вновь в лагерь наших и французских войск, пробыла там несколько дней, а вечером в понедельник поднялась на колокольню церкви Девы Марии в Хаддингтоне, как делала уже не раз. Около десятка ее слуг было тогда убито при взрыве от обстрела из пушек, однако де Гиз не выказала ни страха, ни отчаяния при этом зрелище, только скорбь. После мессы по погибшим королева отбыла в Дамбартон – сделать последние приготовления к отплытию дочери во Францию. Графу Аррану пожалован титул герцога Шательро – лишь бы он ратифицировал брак между Марией Стюарт и дофином Франциском, и это свершится в течение нескольких дней. Все дела положено было передать в руки Генриха Валуа».
– Кончено, – сказал Патрик Хепберн, прочтя об этом, отправив письмо в камин, – вот сучка, она все-таки легла под французов…
Босуэлл почти всегда говорил о Марии в третьем лице, если случалось упомянуть в личной беседе.
– Она ж и сама француженка, чего же ты ждал еще? – хохотнул барон Садли, привычно просиживающий свои новые штаны в старом кресле Босуэлла. – Что она будет вечно вздыхать в разлуке с твоими причиндалами? И почему тебя так бесит Генрих Валуа? Нас – понятно, но тебя?
– Потому что он делает мою работу – ту, к которой я недурно приспособлен.
– То есть, нагибает вдовую королеву Шотландии, хочешь ты сказать? – улыбнулся Том Сеймур, но Хепберн не одарил его даже взглядом, не отрываясь от созерцания ливня за окном. Ему казалось сейчас, что там, вместе с водой, утекает и время жизни, бездарно растрачиваемое в ожидании. Так оно и было.
– Томас-простак… даже шутки твои не изящней бреда пьяного виллана. Если бы он лез под юбку моей Мари, я бы только порадовался за парня – видал бы ты его итальянскую жену! Так нет же, он лезет под юбку моей стране с таким проворством, что дух захватывает. Что бы обо мне не говорили, я – последний человек, желающий видеть Шотландию вотчиной лягушатников.
И сассенахов тоже, подумал он, но промолчал. Приятельство с Томом Сеймуром еще не значило безопасности в беседе с Томом Сеймуром.
– Твой брат нажимает напрасно. Королева – женщина, за Шотландией нужно ухаживать, а не насиловать. Так он добьется только того, что союз с французами станет вдвое крепче, чем был.
– Так скажи ему.
«Зачем?» – подумал Белокурый и отвечал:
– Скажи ему сам, Томас. Протектор Сомерсет – далеко не то же, что граф Хартфорд некогда. В последнее время твой брат слышит только себя.
– Тогда за каким дьяволом ты отсылаешь меня к нему для разговора? – проворчал барон Садли.
Босуэлл не ответил и продолжал, глядя в окно поверх головы собеседника:
– Шотландию не взять войной. Сколько бы крови ни было пролито, сколько бы человечьего мяса ни было скормлено червям, мы все равно поднимемся снова, на любом кладбище, на любом пустыре – как вереск, как чертополох. И всякий, кто думает иное, – Босуэлл помолчал, но Садли точно услыхал в этом молчании «герцог Сомерсет», – несчастный глупец. Он тратит жизни англичан и шотландцев впустую. Точней, мостя дорогу к брачному ложу маленькой королевы и французского дофина. А в эти дни, под Хаддингтоном, он собственноручно застелил им постель…
Надменное лицо правильных черт, суровая складка губ, лютые глаза рыси. Занятно, думал Том Сеймур, какое злобное животное может вырасти из смазливого мальчишки всего лишь за двадцать лет.
Он жил в Англии один – так странно, как и пообещал покойной сестре. Печальные, пророческие слова. Думал ли Патрик Хепберн в самом деле о ком-то из своих ушедших тогда – неизвестно, но Розмари Уотсон, вдова купца-авантюриста, его тогдашняя метресса с улицы Свечников, что за собором Святого Павла, боялась его не меньше, чем обожала – никогда еще женщине не приходилось заниматься любовью со столь глубоко молчащим человеком. Она чувствовала себя механической игрушкой, куклой в его руках, и его зрелая, холодная красота, всегда черный костюм, быстрая, мерцающая усмешка были для нее не меньшей причиной еженедельного покаяния, чем спазмы похоти на грубой льняной простыне. Когда любовница вдвое моложе тебя самого, для мужчины это хотя и повод для гордости, но и напоминание о близком финале – не худшее, чем воскресная проповедь канцлера епископа Гардинера. Босуэлл по долгу человека светского больше, чем по убеждению, выслушивал теперь столь изрядные количества религиозного исступленного бреда, как никогда ранее. Да, он жил один, весьма скромно, несмотря на людей и средства, по присяжным статьям предоставленных кузену мальчиком Эдуардом – ибо те и другие были, подобно условной его верности, предоставлены на словах. Из тридцати человек его дома две трети составляли англичане, и им он слишком явно предпочитал своих ближних шотландцев и появляющихся тут порой перебежчиков со Спорных земель – и местные слуги любили его мало, примерно как девочка Розмари. Из гостей часто навещали Босуэлла барон Садли да братья Хоуп, с последними он беседовал и проводил время охотно, и был даже слишком любезен – для публики, непосвященной в его историю, отчего произошли о северном графе слухи весьма двусмысленные. Патрик Хоуп, наиболее дерзкий из близнецов, рискнул спросить Босуэлла о том напрямую, чем немало повеселил последнего, но и в этом случае Хепберн воздержался от оглашения подлинной причины своего расположения к молодым людям. По-настоящему жил он тогда только письмами Джона Брихина, только известьями с границы, только просчетом шансов на возврат.
Заключение Хаддингтонского мира подействовало на протектора Сомерсета живительнейшим образом – он вдруг вспомнил про обещанную Босуэллу тысячу крон. Теперь, когда первый восторг от прибытия французской подмоги прошел, когда союзники ожидаемо начали задирать друг друга, когда горожане Эдинбурга стали уставать от квартирующих у них гвардейцев Д'Эссе – настолько, что дело дошло и до убийства французского солдата… самое время настало разорвать в клочья мнимую тишину Приграничья, уставленного английскими гарнизонами. И кто для этого потребен лучше, чем местный уроженец, исходивший те края вдоль и поперек? Об этом герцог и спросил уроженца, призвав его для совета, бывшего достаточно дружеским, чтобы не напоминать, что один из собеседников платит другому скверно и нерегулярно.
– Послушайте-ка, Босуэлл… вот вам удачный момент проявить себя, послужить нашему государю. Хаддингтон до сей поры в осаде, и за мужество и опыт барона Вилтона я ручаюсь, как за себя, однако я был бы не против, если б сила нападающих преуменьшилась. Скажите мне, возможно ли оттянуть войска Аррана беспорядками в Спорных землях, к примеру? Жаль, в настоящее время на границе мир, ибо главари местных шаек сочли для себя уместным соединиться против нас.
Армстронги, думал меж тем Босуэлл, вы же взяли Мангертона задешево, он присягнул Тюдорам еще два года назад? Но если это случай оказаться на своей стороне Лиддела – почему нет? А уж он найдет, как повернуть его к своей выгоде.
– Мир на границе вечным не бывает, – молвил он и прибавил. – Допустим, я мог бы поднять Грэмов…
Как умело подавал он ту же интонацию теперь, интонацию, к которой Сомерсет, говоря откровенно, привык за долгие годы знакомства, как тягловый вол – к похлопыванию рукоятью кнута по хребту. Сколько мне это будет стоить? – уже и не нужно было произносить вслух. Связаться с Большаком Грэмом – дело нескольких дней. Перебежчики из «конченых» Незерби внезапно упали в ноги барону Дакру с жалобой на лорда Роберта Максвелла, хранителя шотландской Западной марки, который собирает силы вместе с французами с явным намерением вторгнуться в Спорные земли. Восемьдесят восемь человек в седло? Ограничимся сотней, небрежно отвечал Босуэлл графу Уорвику на прямой вопрос и ведь действительно вышел в рейд. Страдали те, кто стоял поперек все эти годы – Дугласы, Керры, Хоумы. Гонцы прыскали между Вестморлендом, откуда Босуэлл заходил в Шотландию, и Бранксхольмом постоянно, порой едва сходя с седла, чтоб оправиться и хлебнуть эля. Они увиделись с Уолтером Скоттом уже на Спорных землях, в доме Большака Грэма, под золотое слово Хепберна с обещанием безопасности легендарному шотландскому рейдеру.
– Уот, старина, ты меня знаешь – и если станешь грызть молодого Фернихёрста или старого Ангуса, кликни меня, я подойду с сассенахской стороны без промедления.
Уолтер рассматривал его, склонив голову к плечу, ощерив узкую пасть:
– Ты ведешь себя так, Лиддесдейл, словно под тобой земля горит, и нет ничего святого… – сказал умудренный опытом старый волк, и был не так уж не прав.
Рыжина подпалин сошла с висков Бранксхольма-Бокле, уступив место платиновой седине. Оскал открывал больше десен, чем клыков.
– Я старею, Уот, я хочу вернуться домой.
Но потом начало светать.
Шотландия, Мидлотиан, весна 1548
Стрельчатые арки проемов, словно скрещенные стебли ирисов, побелка потолка меж чудовищных ребер свода. Церковь Святой Девы Марии в Хаддингтоне была едва ли не самой большой приходской церковью Мидлотиана – почти собор, лишь чуть-чуть не добирающий длиной до эдинбургского Сент-Джайлса.
– Ваше величество уверены, что это годная идея? – голос мсье Дуазеля был полон глубокого скептицизма. Право, когда он в начале зимы размышлял об одиночестве королевы-матери, о хрупкости и женственности, о необходимости поддержать, ему и в голову не приходило тогда, на что эта нежная дама способна. А ведь состоял он при шотландском дворе уже больше года, мог бы и догадаться…
– Даже если и нет, – хладнокровно отвечала Мари де Гиз, прихватывая подол юбки, чтоб удобней протиснуться в узкий ход, – каким иным, по-вашему, способом, господин посол, я могу воодушевить людей, если не личным примером?
Когда в середине января Грей де Вилтон занял Хаддингтон и послал Ричарда Палмера рыть вокруг города траншеи и строить укрепления, никто и не предполагал, что попытки шотландцев вернуть город затянутся столь надолго и будут до такой степени бесплодны. Потери – и только, Вилтон же, напротив, мог позволить себе выйти из города с рейдерской партией и взять штурмом Далкит, словно поблизости, в Масселбурге, и вовсе не было войск регента с самим Арраном во главе. Позор и унижение – вот что терпела королева-мать день ото дня, и душу ее сжигала ярость Гизов, не могущая найти себе утоления в сражении, а потому воплощающаяся в битве духа.
Королева-мать, качнув фартингейлом, стала подниматься по винтовой лестнице на колокольню церкви. Не первый раз приезжала она сюда – во францисканское аббатство Хаддингтона, в Нанро, и в церковь Девы Марии – осматривать осаду и укрепления Хаддингтона с высоты, и за время этих поездок не менее полутора десятка ее слуг погибло или пострадало под обстрелом англичан. Но королеву это не останавливало, хотя она искренне оплакивала каждую смерть. Ей нужно было видеть неутихающее сражение за Хаддингтон, раз она не могла сама выйти на поле боя.
Хмурясь и покусывая ус, Дуазель последовал за женщиной на колокольню.
Дела их были плохи, и от того, что королева-мать с охотой выставляла себя мишенью для английских канониров, поправиться не обещали. Англичанами были воздвигнуты крепости в Эймуте, Роксбурге, Хоуме, на Инчколме и в Браути, чуть позже – в Лаудере, Данглассе, Инчкейте. Действия войск Сомерсета простирались вплоть до Ламингтона в Клидсдейле, Салтона в Ист-Лотиане, Данди в графстве Ангус. Четырьмя днями позже захвата Далкита люди Грея де Вилтона вновь вышли в рейд – на сей раз в Масселбург, сожгли городок и рыбацкие деревни на побережье, увели с собой скот, пустили пал на поля, вырубили сады. Выжженная земля – вот что оставляли за собой войска герцога Сомерсета, у себя на родине прозванного «Добрым». В конце мая Эдуард Сеймур прямо писал коменданту Хаддингтона Джеймсу Уилфорду о том, что «церковь Девы Марии должна быть разрушена, и прилегающая к ней местность – разорена полностью». И где же они, слова его воззвания к шотландцам по зиме: «поскольку мы волею Бога живем на одном острове, и нет народов, столь схожих по правилам жизни, нравам, обычаям, укладу, то следует быть нам, как братьям, на острове Великой Британии… разве это возможно – одному королевству иметь разных правителей? Ибо цель наша – не завоевать Шотландию, но соединить браком два королевства на едином острове в одно – в любви, согласии, мире и милосердии». Не меч я принес вам, но мир, однако мир вновь оборачивался мечом для упорно не желающих мира.
Но к чему бы ни взывал добрый герцог, в июне долгожданные французы наконец высадились в Лейте – сто двадцать судов, шестнадцать галер, бригантина и три тяжелых корабля. Командиру экспедиционного корпуса Д'Эссе от государя было велено принимать приказы Марии де Гиз «как мои собственные» – протектор королевства Шотландия Генрих Валуа вступил в игру.
Англия, Лондон, лето 1548
Письма летели из конца в конец света, пересекая болота, поля, реки и даже сам Канал. Генрих Валуа писал к Марии де Гиз, писал к ней же коннетабль Монморанси, писал к матери и сестре юный герцог Франсуа де Лонгвиль – о том, что если б не возраст и не ответственность перед своим людьми, непременно прибыл бы в Шотландию лично защитить обеих дам собственным мечом и копьем. Строчки расплывались в глазах, Мари де Гиз плакала в спальне, слезы неостановимо лились сами собой… привет из прошлого, боль матери, утратившей ребенка, сыну тринадцать, а она знает его лицо только по миниатюрам, которые каждый год присылает Антуанетта де Гиз, бабка храброго лонгвильского герцога, вырастившая того, как свое младшее дитя. Молитва, четки, распятие, образ Богородицы, и королева-мать садится за письменный стол, готовя собственноручный ответ.
Летели письма из конца в конец страны и даже через границу – к врагу. Досточтимый правитель королевства Шотландия, граф Арран, бесплодно стоящий осадой под Хаддингтоном, писал в Англию, намекая, что может еще раз переменить сторону, если ожидаемая французская помощь не придет. Но вот незадача – сын его находится в заложниках у Генриха Валуа, в ожидании богатой невесты и в пажах при дворе! Писал де Ноайль из Лондона в Стерлинг к Дуазелю и Д'Эссе, сообщая последние слухи при дворе короля Эдуарда – о том, что Сомерсет, слишком занятый Грубым сватовством, накренился, но выровнялся, но Джон Дадли, граф Уорвик, и Паджет, первый секретарь, едва ли оставят попытки под него подкопаться.
И летели письма с севера Шотландии, из-под пера хладнокровного брихинского епископа – на юг, в Лондон, в Сент-Джайлс, в руки его племянника, пребывающего равно в тоске, в бессилии своего бесправия, в ярости, более естественной для дикого зверя, заточенного в клетку, нежели для изгнанника, покорного судьбе. Чем дольше находился он в стане врага, которого презирал в глубине души, даже подчиняясь, чем более ощущал, как ток настоящей жизни – боя, схватки, сражения – проходит там, вдали от него, тем горячей ненавидел он причину своего изгнания, женщину, которая уязвила сердце, отвергла руку, лишила чести. Но не мог и не восхищаться ею. Мари была хороша даже под пером лишенного романтичности в слоге Джона Хепберна Брихина.
«Далее мы наблюдали вот что. Французы прошли мимо Данбара в виду английских дозорных и высадились в Лейте. По словам очевидцев, было их что-то восьми тысяч, в том числе, наемники – немцы, швейцарцы и датчане, но по прибытии насчитали меньше, у страха, равно как у надежды, глаза велики. Командующий Д'Эссе помчался к королеве-матери в Стерлинг, оставив всю работу по выгрузке флорентийцам Строцци – богу галер Леону и брату его Пьетро, полевому командиру большого опыта. Преподнеся дары и припав к руке королевы, мсье Д'Эссе так же легко выступил было на Хаддингтон, но де Вилтона не очаруешь парижским шармом, тот отошел от Масселбурга и укрылся в городе, за стены, оставив в наивном французе стойкое убеждение, что „испугался“, о чем Д'Эссе спешно и доложил де Гиз. Можешь представить себе ярость нашей кроткой госпожи! Та ведь отправляла его на осаду, не на прогулку… о дни, в которые никто не хотел воевать, но только славословить свою доблесть! В конечном итоге французская вдова поднимала войска в бой сама. Доносят, что она в сопровождении только лишь своих дам, яко царица амазонок, направилась в Эдинбург, пройдя все дома нобилей на Королевской миле пешком, говоря с нашими на родном языке, который акцент делает еще милее в ее устах, удивляясь, что, верно, эти люди зашли под кров никак не уклониться от битвы, но только лишь передохнуть, ибо природная доблесть шотландцев прославлена в веках. Со своими соотечественниками де Гиз говорила по-французски и в тоне совершенно ином. Делайте, с презрением молвила она, что угодно, и поступайте, как вам угодно – мне все равно. Два разных этих способа дали в сумме действие именно то, которого следовало достичь – обе нации кинулись на осаду Хаддингтона с равным воодушевлением. Ты был прав, эта леди – боец в юбке. И, пожалуй, она куда лучший король, чем был ее муж…»
Заслужить похвалу Брихина дорогого стоило. Босуэлл улыбнулся и продолжил читать. Несмотря на то, что имел мало желания сочувствовать бывшей любовнице, он не мог не отметить: Мари приходится несладко, но держится она отменно. Впрочем, эти чувства быстро смывала жгучая горечь разочарования – ему следовало бы быть там, самому руководить осадой, защищать родные края, если бы та самая достойная леди соблаговолила вернуть его домой, сняв обвинения. Но нет, придется возвращаться не через мир между ними, а через кровь и войну. Придется вынудить ее принять графа Босуэлла, если королева не желает по собственной воле согласиться с тем, что он нужен ей.
Пентесилея. амазонка-воительница. Ее видели всюду – и на Хай-стрит в Эдинбурге, и в Холируде, и даже в лагерях французских войск, любезной, в ровном настроении, в скромном облачении вдовы, в дорожном костюме, ибо теперь она путешествовала большей частью верхом. Данбар был отдан в руки французов, Мильорино Убальдини начал восстанавливать и перестраивать его немедленно. Французы укрепляли Лейт, Милхейвен, Инчгарви, замки Блекнесс и Стерлинг, пока сооружались новые крепости в Инвереске, Инчкейте, Лаффнессе. Форт против английского форта и крепость против каждой крепости, занятой людьми Сомерсета. Из числа слуг собственного дома Мари де Гиз собрала всех, кто может держать оружие, направила на осаду Хаддингтона. Вместе со словами напутствия в лагерь осаждающих от нее поставляли хлеб, вино, ячмень, мясо.
И мало кого, как ее, поминали в те дни в церквях Мидлотиана словами благодарения.
Англия, Лондон, сентябрь 1548
Барон Садли овдовел. Бедняжка Екатерина Парр родила слабую девочку, окрещенную Марией, и в начале осени скончалась в горячке, упрекая мужа в том, что он отравил ей жизнь своим беспутным поведением. Барон Садли был искренне опечален – речи больной, омраченной рассудком женщины сильно повредили ему во мнении общества в целом и короля-племянника лично, а ведь он сердечно любил покойную и даже разбил сад в своем имении исключительно для ее услады. Впрочем, оказавшись единственным наследником жены в части земель и средств, Томас Сеймур слегка приумерил скорбь.
Что до леди Елизаветы Тюдор, то она также была больна, ходили неясные слухи о какой-то повитухе, якобы вызванной в дом Дэнни в Честнат, к молодой светловолосой девушке в маске… слухи эти столь яро возмутили достойную дочь старого Гарри, что во гневе Тюдоров – точно рассчитанном и изящно выраженном – четырнадцатилетняя леди Елизавета писала лично протектору Сомерсету и всему Тайному совету своего брата, настаивая на медицинском освидетельствовании и публичном опровержении слухов, порочащих ее честь и достоинство. Эдуард Сеймур не ответил ни нет, ни да, ибо ситуация была со всех сторон щекотливая. Жизнерадостный вдовец, его брат, тем временем предлагал леди Елизавете свой дом в Лондоне, ежели она соберется навестить столицу, и выспрашивал у казначея юной дамы о расположении ее доходных земель, раздавая советы, как было бы удобно их поменять на иные, ближайшие к его собственным угодьям. Утруждая себя хлопотами по устройству следующего витка придворной карьеры, Том Сеймур ныл, двурушничал, лгал, зубоскалил – и повисал на ушах Босуэллу с той тщательностью, как умеют только люди, занятые исключительно собственной персоной. День, проведенный вне общества Тома Сеймура, граф почитал в ту пору величайшей удачей. Впрочем, лучше и такой собеседник, чем вовсе никакого, иначе Патрик Хепберн оставался наедине с собственными мыслями, тяжбами, долгами, бесплодными сожалениями и лисьими укусами совести – внезапно совести, да – и этот хор греческой трагедии, возникающий в голове все более назойливо и некстати, отнюдь не веселил его и нрава не улучшал. Де Ноайль, пообещав французских денег, платил от случая к случаю, и рассчитывать на милость Генриха Валуа теперь, когда король ввязался в шотландскую авантюру, сильно не приходилось. Герцог Сомерсет, лишив его Хейлса, дав взамен нору в Морпете, также был занят северным вопросом – и никакой тысячи крон от короля Эдуарда все еще видно не было, как не видно было и людей под штандарт Босуэлла хотя бы для самого скромного рейда. И только Джон Бартон, благослови Бог старого пьяницу, исправно выходил в море, громя голландцев в Канале. Император Карл сперва обращался с призывом к Аррану – умерить пиратство – затем, не достигнув успеха, к протектору Сомерсету, как к человеку, фактически завоевавшему Ист-Лотиан, затем – даже к Генриху Валуа, раз он провозглашен протектором Шотландии… Но «Блуднице Лейта» нипочем были любые короли, и в итоге император спас свое добро только тем, что стал отправлять с голландскими купцами конвой военных судов. Джон Бартон приуныл, ибо чутье у старого селки было отменное, и встал на рейде английского Бервика со всеми тремя судами, включая «Славу Мидлотиана» и «Бродягу Севера», дабы избежать преждевременного и напрасного, как он пояснил, повреждения драгоценного имущества его милости. Его милость долго и вдохновенно выражался по-гэльски в ответ на эту весть, ибо кошель графа Босуэлла пустовал уже давно.
Агнесс, леди Морэм, промолчала в ответ на его внезапное письмо. Зато Джон Хепберн Брихин гонцов слал исправно, они находили дорогу в Сент-Джайлс, несмотря на любые превратности пути и погоды.
«В битве за Хаддингтон, – писал дорогой младший дядя, – англичане потеряли несколько сотен мертвыми, также взято изрядное число пленных. Королева-мать лично прибыла в наш лагерь для бесед с солдатами и поздравлений. „Поскольку, – сказала она, – мое государство держится на вас и вашей службе, только правильно, что и похвала, и награда исходят от меня лично“. Но первый приступ осады опять не дал ничего, кроме сиюминутного воодушевления, мы имеем дело не только с умным врагом, но и с союзником, который не станет утруждать себя без выгоды. Французы не намерены брать город, пока не будет подписан новый шотландско-французский договор. На первой неделе июля де Гиз покинула Эдинбург и верхом отправилась в Хердманстон. В аббатстве Нанро был созван Парламент для одобрения нового мира между нами и Валуа. Три сословия согласились на брак, протекторат, передачу крепостей французам в залог, отплытие маленькой королевы за Канал. Королева-мать выглядит усталой, поблекшей, измученной, как женщина, живущая лишь постом и молитвой, однако в равной степени – одухотворенной. Из Нанро она отправилась вновь в лагерь наших и французских войск, пробыла там несколько дней, а вечером в понедельник поднялась на колокольню церкви Девы Марии в Хаддингтоне, как делала уже не раз. Около десятка ее слуг было тогда убито при взрыве от обстрела из пушек, однако де Гиз не выказала ни страха, ни отчаяния при этом зрелище, только скорбь. После мессы по погибшим королева отбыла в Дамбартон – сделать последние приготовления к отплытию дочери во Францию. Графу Аррану пожалован титул герцога Шательро – лишь бы он ратифицировал брак между Марией Стюарт и дофином Франциском, и это свершится в течение нескольких дней. Все дела положено было передать в руки Генриха Валуа».
– Кончено, – сказал Патрик Хепберн, прочтя об этом, отправив письмо в камин, – вот сучка, она все-таки легла под французов…
Босуэлл почти всегда говорил о Марии в третьем лице, если случалось упомянуть в личной беседе.
– Она ж и сама француженка, чего же ты ждал еще? – хохотнул барон Садли, привычно просиживающий свои новые штаны в старом кресле Босуэлла. – Что она будет вечно вздыхать в разлуке с твоими причиндалами? И почему тебя так бесит Генрих Валуа? Нас – понятно, но тебя?
– Потому что он делает мою работу – ту, к которой я недурно приспособлен.
– То есть, нагибает вдовую королеву Шотландии, хочешь ты сказать? – улыбнулся Том Сеймур, но Хепберн не одарил его даже взглядом, не отрываясь от созерцания ливня за окном. Ему казалось сейчас, что там, вместе с водой, утекает и время жизни, бездарно растрачиваемое в ожидании. Так оно и было.
– Томас-простак… даже шутки твои не изящней бреда пьяного виллана. Если бы он лез под юбку моей Мари, я бы только порадовался за парня – видал бы ты его итальянскую жену! Так нет же, он лезет под юбку моей стране с таким проворством, что дух захватывает. Что бы обо мне не говорили, я – последний человек, желающий видеть Шотландию вотчиной лягушатников.
И сассенахов тоже, подумал он, но промолчал. Приятельство с Томом Сеймуром еще не значило безопасности в беседе с Томом Сеймуром.
– Твой брат нажимает напрасно. Королева – женщина, за Шотландией нужно ухаживать, а не насиловать. Так он добьется только того, что союз с французами станет вдвое крепче, чем был.
– Так скажи ему.
«Зачем?» – подумал Белокурый и отвечал:
– Скажи ему сам, Томас. Протектор Сомерсет – далеко не то же, что граф Хартфорд некогда. В последнее время твой брат слышит только себя.
– Тогда за каким дьяволом ты отсылаешь меня к нему для разговора? – проворчал барон Садли.
Босуэлл не ответил и продолжал, глядя в окно поверх головы собеседника:
– Шотландию не взять войной. Сколько бы крови ни было пролито, сколько бы человечьего мяса ни было скормлено червям, мы все равно поднимемся снова, на любом кладбище, на любом пустыре – как вереск, как чертополох. И всякий, кто думает иное, – Босуэлл помолчал, но Садли точно услыхал в этом молчании «герцог Сомерсет», – несчастный глупец. Он тратит жизни англичан и шотландцев впустую. Точней, мостя дорогу к брачному ложу маленькой королевы и французского дофина. А в эти дни, под Хаддингтоном, он собственноручно застелил им постель…
Надменное лицо правильных черт, суровая складка губ, лютые глаза рыси. Занятно, думал Том Сеймур, какое злобное животное может вырасти из смазливого мальчишки всего лишь за двадцать лет.
Он жил в Англии один – так странно, как и пообещал покойной сестре. Печальные, пророческие слова. Думал ли Патрик Хепберн в самом деле о ком-то из своих ушедших тогда – неизвестно, но Розмари Уотсон, вдова купца-авантюриста, его тогдашняя метресса с улицы Свечников, что за собором Святого Павла, боялась его не меньше, чем обожала – никогда еще женщине не приходилось заниматься любовью со столь глубоко молчащим человеком. Она чувствовала себя механической игрушкой, куклой в его руках, и его зрелая, холодная красота, всегда черный костюм, быстрая, мерцающая усмешка были для нее не меньшей причиной еженедельного покаяния, чем спазмы похоти на грубой льняной простыне. Когда любовница вдвое моложе тебя самого, для мужчины это хотя и повод для гордости, но и напоминание о близком финале – не худшее, чем воскресная проповедь канцлера епископа Гардинера. Босуэлл по долгу человека светского больше, чем по убеждению, выслушивал теперь столь изрядные количества религиозного исступленного бреда, как никогда ранее. Да, он жил один, весьма скромно, несмотря на людей и средства, по присяжным статьям предоставленных кузену мальчиком Эдуардом – ибо те и другие были, подобно условной его верности, предоставлены на словах. Из тридцати человек его дома две трети составляли англичане, и им он слишком явно предпочитал своих ближних шотландцев и появляющихся тут порой перебежчиков со Спорных земель – и местные слуги любили его мало, примерно как девочка Розмари. Из гостей часто навещали Босуэлла барон Садли да братья Хоуп, с последними он беседовал и проводил время охотно, и был даже слишком любезен – для публики, непосвященной в его историю, отчего произошли о северном графе слухи весьма двусмысленные. Патрик Хоуп, наиболее дерзкий из близнецов, рискнул спросить Босуэлла о том напрямую, чем немало повеселил последнего, но и в этом случае Хепберн воздержался от оглашения подлинной причины своего расположения к молодым людям. По-настоящему жил он тогда только письмами Джона Брихина, только известьями с границы, только просчетом шансов на возврат.
Заключение Хаддингтонского мира подействовало на протектора Сомерсета живительнейшим образом – он вдруг вспомнил про обещанную Босуэллу тысячу крон. Теперь, когда первый восторг от прибытия французской подмоги прошел, когда союзники ожидаемо начали задирать друг друга, когда горожане Эдинбурга стали уставать от квартирующих у них гвардейцев Д'Эссе – настолько, что дело дошло и до убийства французского солдата… самое время настало разорвать в клочья мнимую тишину Приграничья, уставленного английскими гарнизонами. И кто для этого потребен лучше, чем местный уроженец, исходивший те края вдоль и поперек? Об этом герцог и спросил уроженца, призвав его для совета, бывшего достаточно дружеским, чтобы не напоминать, что один из собеседников платит другому скверно и нерегулярно.
– Послушайте-ка, Босуэлл… вот вам удачный момент проявить себя, послужить нашему государю. Хаддингтон до сей поры в осаде, и за мужество и опыт барона Вилтона я ручаюсь, как за себя, однако я был бы не против, если б сила нападающих преуменьшилась. Скажите мне, возможно ли оттянуть войска Аррана беспорядками в Спорных землях, к примеру? Жаль, в настоящее время на границе мир, ибо главари местных шаек сочли для себя уместным соединиться против нас.
Армстронги, думал меж тем Босуэлл, вы же взяли Мангертона задешево, он присягнул Тюдорам еще два года назад? Но если это случай оказаться на своей стороне Лиддела – почему нет? А уж он найдет, как повернуть его к своей выгоде.
– Мир на границе вечным не бывает, – молвил он и прибавил. – Допустим, я мог бы поднять Грэмов…
Как умело подавал он ту же интонацию теперь, интонацию, к которой Сомерсет, говоря откровенно, привык за долгие годы знакомства, как тягловый вол – к похлопыванию рукоятью кнута по хребту. Сколько мне это будет стоить? – уже и не нужно было произносить вслух. Связаться с Большаком Грэмом – дело нескольких дней. Перебежчики из «конченых» Незерби внезапно упали в ноги барону Дакру с жалобой на лорда Роберта Максвелла, хранителя шотландской Западной марки, который собирает силы вместе с французами с явным намерением вторгнуться в Спорные земли. Восемьдесят восемь человек в седло? Ограничимся сотней, небрежно отвечал Босуэлл графу Уорвику на прямой вопрос и ведь действительно вышел в рейд. Страдали те, кто стоял поперек все эти годы – Дугласы, Керры, Хоумы. Гонцы прыскали между Вестморлендом, откуда Босуэлл заходил в Шотландию, и Бранксхольмом постоянно, порой едва сходя с седла, чтоб оправиться и хлебнуть эля. Они увиделись с Уолтером Скоттом уже на Спорных землях, в доме Большака Грэма, под золотое слово Хепберна с обещанием безопасности легендарному шотландскому рейдеру.
– Уот, старина, ты меня знаешь – и если станешь грызть молодого Фернихёрста или старого Ангуса, кликни меня, я подойду с сассенахской стороны без промедления.
Уолтер рассматривал его, склонив голову к плечу, ощерив узкую пасть:
– Ты ведешь себя так, Лиддесдейл, словно под тобой земля горит, и нет ничего святого… – сказал умудренный опытом старый волк, и был не так уж не прав.
Рыжина подпалин сошла с висков Бранксхольма-Бокле, уступив место платиновой седине. Оскал открывал больше десен, чем клыков.
– Я старею, Уот, я хочу вернуться домой.