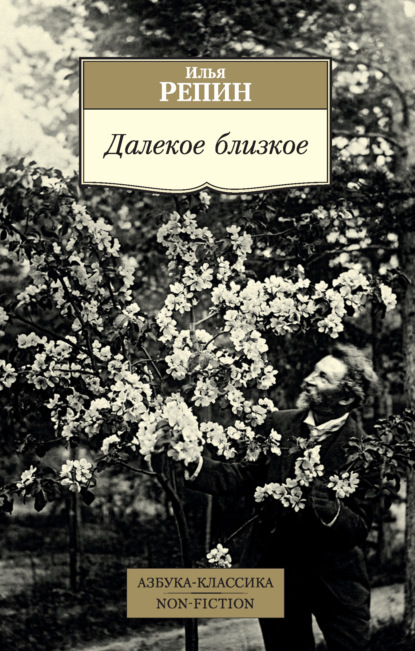По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Далекое близкое
Автор
Жанр
Год написания книги
2019
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Снимают с телеги Устю и меня; мы весело влезаем на крыльцо – чистое, белое, выструганное. Отворяют двери в сени – можно! Но ставни затворены, темно. Доняшка отворяет ставни. Какие чистые белые полы! Мы начинаем бегать по всем комнатам. Какой огромный дом! Неужели это наш? Как весело!.. На стол в святом углу поставили образа и молитвенник и что-то завернутое.
Прилепили перед образом три восковые желтые свечки, и маменька стала приготовляться читать акафист Пресвятой Богородице. Мы знаем, что это продлится долго и будет очень скучно. Доняшка и Гришка уже стоят за нами. Сначала все положили по три земных поклона и слушали непонятные слова; мы ждали знакомых слов, когда надо было класть земной поклон.
А вот: «Радуйся, невесто неневестная!» Мы сразу бултыхнулись к чистому полу. Встали.
Поднявшись, маменька продолжала чтение тем же выразительным голосом, чуть-чуть нараспев. Опять долго. От скуки я оглядываюсь. Вижу, Гришка – уж видно, неуч – быстро и смешно машет рукой, сложенной в щепоть, делает короткие кивки и скоро отбрасывает прядь своей рыжей скобки, сползающей ему на глаза… а в это время следует только смирно стоять, – деревня!
– Аллилуйя!.. – произносит нараспев маменька, и я опять бросаюсь в земной поклон рядом с Устей.
Поднимаемся дружно. Опять длинное чтение. Я оглядываюсь на Доняшку, она крепко прижимает два перста ко лбу. Мы все крестились двуперстным знамением, хотя и не были староверы. Но маменька говорила, что креститься щепотью грех: табак нюхают щепотью. И я стал крепко прижимать ко лбу два перста. Кстати раздалось опять: «Радуйся, невесто неневестная!» – земной поклон.
Снова долгое чтение. Я оглянулся на Гришку и чуть не прыснул со смеху: он так смешно дремал стоя. При этом еще щепоть на высоте рта как-то дергалась вместе с рукой, которая никак не могла сделать крестное знамение, глаза смешно слипались, а брови поднимались высоко-высоко и морщили лоб, – потешно…
Наконец, к моей радости, маменька пропела «аллилуйя», и я поскорей бултыхнулся, чтобы не смеяться, и продолжаю лежать, уткнувшись в пол, чтобы не заметили. Потом потихоньку – от полу – заглядываю вбок на Устю. Она серьезно сдвинула брови, стоит ровно и смотрит на меня сердито. Я поднимаюсь, оправляюсь…
«Радуйся, невесто неневестная!» После должного поклона я боюсь уже оглядываться и решаюсь собрать все силы и ждать конца. Мы знали, что, когда начнут читать «О всепетая мати, рождшая», тогда, значит, скоро конец. Но долго еще чередовались «аллилуйя» и «радуйся, невесто неневестная».
Но вот и желанная «всепетая»; вот и конец. Гришка, уже бодрый, принес в цебарке[15 - Цебарка – ведро (укр.).] воды с Донца. Большой старинный медный крест и кропило лежали на столе – я их раньше не приметил.
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа», – торжественно произносит маменька и троекратно погружает в цебарку крест.
«Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое!» – запевает маменька, мы все подхватываем и торжественно двигаемся ко всем углам комнат. Маменька кропит и поет хорошо. Гришка фальшивит, страшно спешит и поминутно крестится, отбрасывая скобку от глаз.
Переходим в другую комнату, в третью, и везде-везде – и на пол, и на потолки, и во все окна – маменька кропит святой водою.
Так обошли весь дом. Вернулись опять к образу; здесь все подходили к кресту, и маменька всех нас кропила в затылок. Потекла вода за шею; надо было ото лба святой водой смачивать щеки и все лицо.
После акафиста мы набегались всласть на светлых полах в чисто выбеленных комнатах.
В нашей хатке, на постоялом дворе у бабеньки, нам стало уже скучно, и мы всё приставали к маменьке, чтобы нас опять взяли в новый дом и чтобы нам скорей переезжать туда жить.
Постоялый двор
В большом доме у бабеньки в чистых горницах было очень чисто и богато. Крашеные желтые полы, огромные образа в серебряных ризах с золотыми венцами. В красивом комоде за стеклами висели серебряные ложечки, врезанные в дерево. Блестящий гладкий комод с необыкновенной, волнисто изогнутой крышкой особенно поражал меня чистотой, металлической ручкой и золотыми украшениями над дырочками для ключей. Только я не любил страшной картины, висевшей в черной раме на средней стене одной из горниц. Там был намалеван молодой курчавый панич, держащий за волосы громадную мертвую голову с пробитым лбом. Такое страшилище эта голова – синяя-пресиняя, и панич также синий и страшный! Маменька говорила, что это Давид с головой великана Голиафа. Я боялся даже проходить мимо этой картины. Да нас редко и пускали в горницы, разве в праздники, когда мы ходили поздравлять бабеньку.
Через большой коридор мы часто проходили на кухню и здесь иногда видели, как обедают проезжие извозчики.
Бывало, зимой, по?д вечер, в большой мороз, тетка Мотря, плотно закутанная, с фонарем в руках давно уже поджидает у ворот приезжающих: когда остановится тяжелый обоз возов в двадцать, она подходит ближе и мягко, нараспев зазывает:
– Заезжайте, почтенные, заезжайте!
Остановились. Заиндевелые, тяжело одетые люди приближаются к ней.
– Куда вы поедете дальше на ночь глядя! Сейчас Генеральская гора, пока взобьетесь; а в городе дворы дороже и хуже. У нас, смотрите, какие ворота крепкие, двор большой, сараи просторные. Уж будете довольны, будете покойны. Супец с картофелькой, борщочку достаточно. Заезжайте, купцы, заезжайте, что там раздумывать! Сена пуд и мера овса у нас копеечкой дешевле, чем в городе.
– Что же, Митюха, заезжать, что ль? Аль уж в городе, на горе?, ночевать? – говорит старший.
– Да на гору-то сподручнее бы утречком взобраться – крута да и долга, проклятая, я ее помню по спуску. Заезжать так заезжать.
Решают: «Ворочай, робя, в ворота!»
И каждый весело скрипит валенками к своему возу.
Въезжают, не торопясь размещаются под сараями, выпрягают лошадей. Долго берут по весу овес из нашей лавки, сено из сенника с больших весов, набивают рептухи и несут, закладывают лошадям. Убравшись, приходят в кухню.
Тут мы их смотрим: русские, издалека. Говорят, сулу[16 - Сула – судак.] везут в Харьков из Ростова. Русские все больше колдуны, лица красные от мороза, бородатые, чубчики подстрижены – староверы, значит; но есть и молодые.
Разматывают пояса, снимают армяки, кладут все это на нары, на примость. Какая грязь на полу в кухне! Вот еще снегу нанесли, полушубками запахло…
Крестятся на образа и быстро отхватывают короткие поклоники. Заходят за общий стол и подвигаются по общей длинной скамейке плотно один к другому.
Печка в кухне огромная. Сколько там громадных чугунов, горшков!
Кухарка едва вытаскивает рогачом чугун, наливает уполовником в огромную миску и ставит на деревянный стол без всякой скатерти.
Около каждой миски усаживаются пять человек и большими деревянными ложками черпают, сейчас же подставляя огромную «скибку» черного хлеба под ложку, чтобы не расплескать на стол.
Едят долго. У каждого за щекой огромный кусок хлеба в виде большой круглой шишки наружу; она тает по мере прихлебывания и пережевывания.
Атмосфера разогревается от пара и пота; снимаются кое-кем забытые на шее шарфы, и утираются вспотевшие лбы длинным полотенцем. Полотенце кладется, одно на троих-четверых, на колени.
У всякого общества свои правила приличия, свой этикет. У извозчиков считается неприличным выходить из-за стола, не окончив ужина. А между тем людям, прошедшим по морозу верст двадцать пять – тридцать пешком, разогревшимся от горячей пищи и теплого помещения, а главное, съевшим, не торопясь, такое большое количество жидкой пищи, наступает поочередно неминучая необходимость выйти на воздух…
В их практике заранее условлено в таких случаях толкнуть товарища локтем. Тот знает, что надо сказать.
– Ахрёмка, в твоем рептухе мерин дырку прорвал, много сена под ноги топчет – ты бы, малый, вышел посмотреть, поправил!
Ахрёмка быстро перелезает через скамейку и идет поспешно к лошадям.
Вернувшись через десять-пятнадцать минут и услыхав, как условно кашлянул Никита, он говорит:
– Никита, а Никита? У твоего чалого сена уже почти нет, не пора ли ему повесить торбу?
Никита быстро удаляется, а Ахрёмка садится и продолжает хлебать борщ.
Мы очень хорошо все это знали, выразительно переглядывались и старались не смеяться.
Некоторые молодые извозчики, с ремешками вокруг головы, нам очень нравились своими серьезными лицами.
Когда почти все товарищи осведомились и поправили своих коней, а супцом и борщочком нахлебались до отвала, кухарка вытаскивала огромный кусок вареной говядины из чугуна с борщом, клала его на плоское деревянное блюдо и начинала без всякой вилки кромсать кухонным ножом на куски, придерживая мясо просто засаленной рукой. Разделивши его на куски, она подвигает блюдо поближе к пяти товарищам. Извозчики тянутся руками к мясу, берут куски и, опять подставляя хлеб под кусок, откусывают зубами сочную говядину.
Не торопясь наелись гости досыта; потные красные лица хорошо вытерли рушниками. Встают товарищи чинно, как и в начале стола, молятся на образа большим двуперстным крестом и благодарят хозяйку за хлеб за соль.
Нам все это хорошо знакомо, и мы только следим, все ли правильно сделано, что полагается.
Только теперь нарушалось молчание и начинались интересные разговоры в ответ на расспросы Гришки и тетки Мотри.
Некоторые снимали валенки, начинали развертывать онучи и укладывались на нарах. Скоро оттуда раздавался здоровый храп. А другие еще долго беседовали о разных разностях – народ бывалый.