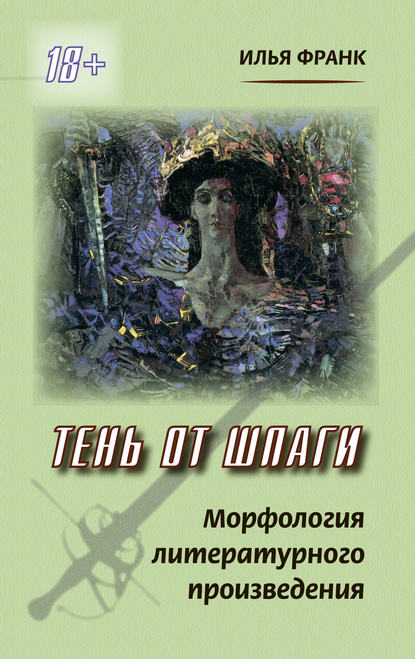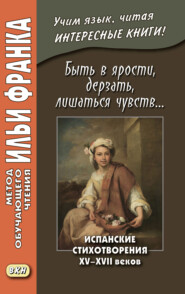По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Тень от шпаги. Морфология литературного произведения
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Робинзон Крузо, спасающий Пятницу от дикарей. Иллюстрация. 1865 год
Робинзон и Пятница убивают обоих преследователей (причем второму из них Пятница отсекает голову), Робинзон отводит Пятницу в свою пещеру.
Робинзон Крузо, оказавшись на своем острове в результате того, что жил бездумно, своевольно, а именно гонясь за приключениями и прибылью, попадает впросак, оказывается у разбитого корыта. Поймет ли он что-то новое в жизни? Сможет ли продолжать жить? (Вот о чем этот первый европейский роман Нового – буржуазного – времени!)
Наш герой кое-что понял в жизни, об этом в романе говорится неоднократно. Что именно он понял? Он понял, как работает чудо, скажем, в современных условиях:
«Это было незадолго до начала проливных дождей, о которых я уже говорил. Я давно забыл про это, не помнил даже, на каком месте; я вытряхнул мешок. Но вот прошло около месяца, и я увидел на полянке несколько зеленых стебельков, только что вышедших из земли. Сначала я думал, что это какое-нибудь невиданное мной растение. Но каково ж было мое изумление, когда, спустя еще несколько недель, зеленые стебельки (их было всего штук десять-двенадцать) выпустили колосья, оказавшиеся колосьями отличного ячменя, того самого, который растет в Европе и у нас в Англии.
Невозможно передать, в какое смятение повергло меня это открытие! До тех пор мной никогда не руководили религиозные мотивы. Религиозных понятий у меня было очень немного, и все события моей жизни – крупные и мелкие – я приписывал простому случаю, или, как все мы говорим легкомысленно, воле Божьей. Я никогда не задавался вопросом, какие цели преследует Провидение, управляя ходом событий в этом мире. Но когда я увидел этот ячмень, выросший, как я знал, в несвойственном ему климате, а главное, неизвестно как попавший сюда, я был потрясен до глубины души и стал верить, что это Бог чудесным образом произрастил его без семян только для того, чтобы прокормить меня на этом диком безотрадном острове.
Мысль эта немного растрогала меня и вызвала на глаза мои слезы; я был счастлив сознанием, что такое чудо совершилось ради меня. Но удивление мое этим не кончилось: вскоре я заметил, что рядом, на той же полянке, между стеблями ячменя показались редкие стебельки растения, оказавшиеся стебельками риса; я их легко распознал, так как во время пребывания в Африке часто видел рис на полях.
Я не только подумал, что этот рис и этот ячмень посланы мне самим Провидением, но не сомневался, что он растет здесь еще где-нибудь. Я обошел всю эту часть острова, где уже бывал раньше, обшарил все уголки, заглядывал под каждую кочку, но нигде не нашел ни риса, ни ячменя. Тогда то, наконец, я вспомнил про мешок с птичьим кормом, который я вытряхнул на землю подле своего жилища. Чудо исчезло, а вместе с открытием, что все это самая естественная вещь, я должен сознаться, значительно поостыла и моя горячая благодарность к Промыслу. А между тем то, что случилось со мной, было почти так же непредвиденно, как чудо, и уж во всяком случае заслуживало не меньшей признательности. В самом деле: не перст ли Провидения виден был в том, что из многих тысяч ячменных зерен, попорченных крысами, десять или двенадцать зернышек уцелели и, стало быть, все равно что упали мне с неба. Надо же было мне вытряхнуть мешок на этой лужайке, куда падала тень от скалы и где семена могли сразу же взойти. Ведь стоило мне бросить их немного подальше, и они были бы выжжены солнцем».
А ближе к концу романа, научившись – в результате своего необычного и трагического опыта – читать «книгу жизни», Робинзон замечает:
«Что такие намеки и предупреждения (hints and notices[2 - Пришлось подправить перевод, так как советский редактор (видимо, борясь с религией) «сгладил» текст, вместо «намеков и предупреждений» (то есть знаков, поступающих извне) поставил «предчувствия».]. – И. Ф.) даны нам, – этого, я думаю, не станет отрицать ни один мало-мальски наблюдательный человек. Не можем мы сомневаться и в том, что они являются некими откровениями невидимого мира…»
Портрет дамы, или Лошадиный глаз
У Льва Николаевича Толстого и Федора Михайловича Достоевского есть один общий любопытный элемент сюжета, напоминающий элемент сюжета волшебной сказки. Герой сначала видит изображение женщины на картине, а затем встречает эту женщину в действительной жизни.
Вот как это происходит с Левиным в романе Толстого «Анна Каренина»:
«Пройдя небольшую столовую с темными деревянными стенами, Степан Аркадьич с Левиным по мягкому ковру вошли в полутемный кабинет, освещенный одною с большим темным абажуром лампой. Другая лампа-рефрактор горела на стене и освещала большой во весь рост портрет женщины, на который Левин невольно обратил внимание. Это был портрет Анны, деланный в Италии Михайловым. В то время как Степан Аркадьич заходил за трельяж и говоривший мужской голос замолк, Левин смотрел на портрет, в блестящем освещении выступавший из рамы, и не мог оторваться от него. Он даже забыл, где был, и, не слушая того, что говорилось, не спускал глаз с удивительного портрета. Это была не картина, а живая прелестная женщина с черными вьющимися волосами, обнаженными плечами и руками и задумчивою полуулыбкой на покрытых нежным пушком губах, победительно и нежно смотревшая на него смущавшими его глазами. Только потому она была не живая, что она была красивее, чем может быть живая.
– Я очень рада, – услыхал он вдруг подле себя голос, очевидно обращенный к нему, голос той самой женщины, которою он любовался на портрете. Анна вышла ему навстречу из-за трельяжа, и Левин увидел в полусвете кабинета ту самую женщину портрета в темном, разноцветно-синем платье…»
Левин на миг влюбляется в Анну:
«Следя за интересным разговором, Левин все время любовался ею – и красотой ее, и умом, образованностью, и вместе простотой и задушевностью. Он слушал, говорил и все время думал о ней, о ее внутренней жизни, стараясь угадать ее чувства. И, прежде так строго осуждавший ее, он теперь, по какому-то странному ходу мыслей, оправдывал ее и вместе жалел и боялся, что Вронский не вполне понимает ее».
Между прочим, эти слова вполне можно отнести и к самому автору (тем более что Левин – alter ego самого Толстого). Это Толстой все время думает об Анне, стараясь угадать ее чувства, это он оправдывает ее и жалеет, это он со страхом и тоской наблюдает непонимание Анны Вронским. Анна – Муза Толстого, его Прекрасная Дама.
В романе говорится о трех портретах Анны. Первый висит в доме Карениных, то есть принадлежит ее мужу:
«Над креслом висел овальный, в золотой раме, прекрасно сделанный знаменитым художником портрет Анны. Алексей Александрович взглянул на него. Непроницаемые глаза насмешливо и нагло смотрели на него, как в тот последний вечер их объяснения. Невыносимо нагло и вызывающе подействовал на Алексея Александровича вид отлично сделанного художником черного кружева на голове, черных волос и белой прекрасной руки с безымянным пальцем, покрытым перстнями. Поглядев на портрет с минуту, Алексей Александрович вздрогнул так, что губы затряслись и произвели звук “брр”, и отвернулся».
Портрет Анны и на Каренина смотрит как живой. Портрет был написан, естественно, до объяснения с Анной, а смотрит так, словно был создан непосредственно во время объяснения и даже продолжает это объяснение. Портрет будто меняется со временем, а значит, живет.
Второй портрет Анны – тот, что пишет Вронский:
«И как голодное животное хватает всякий попадающийся предмет, надеясь найти в нем пищу, так и Вронский совершенно бессознательно хватался то за политику, то за новые книги, то за картины.
Так как смолоду у него была способность к живописи и так как он, не зная, куда тратить свои деньги, начал собирать гравюры, он остановился на живописи, стал заниматься ею и в нее положил тот незанятый запас желаний, который требовал удовлетворения.
У него была способность понимать искусство и верно, со вкусом подражать искусству, и он подумал, что у него есть то самое, что нужно для художника, и, несколько времени поколебавшись, какой он выберет род живописи: – религиозный, исторический жанр или реалистический, он принялся писать. Он понимал все роды и мог вдохновляться и тем и другим; но он не мог себе представить того, чтобы можно было вовсе не знать, какие есть роды живописи, и вдохновляться непосредственно тем, что есть в душе, не заботясь, будет ли то, что он напишет, принадлежать к какому-нибудь известному роду. Так как он не знал этого и вдохновлялся не непосредственно жизнью, а посредственно, жизнью, уже воплощенною искусством, то он вдохновлялся очень быстро и легко и так же быстро и легко достигал того, что то, что он писал, было очень похоже на тот род, которому он хотел подражать.
Более всех других родов ему нравился французский, грациозный и эффектный, и в таком роде он начал писать портрет Анны в итальянском костюме, и портрет этот казался ему и всем, кто его видел, очень удачным».
Третий портрет Анны – портрет, который Вронский заказывает художнику Михайлову (и который потом оказывает столь сильное воздействие на Левина):
«Портрет с пятого сеанса поразил всех, в особенности Вронского, не только сходством, но и особенною красотою. Странно было, как мог Михайлов найти ту ее особенную красоту. “Надо было знать и любить ее, как я любил, чтобы найти это самое милое ее душевное выражение”, – думал Вронский, хотя он по этому портрету только узнал это самое милое ее душевное выражение. Но выражение это было так правдиво, что ему и другим казалось, что они давно знали его.
– Я сколько времени бьюсь и ничего не сделал, – говорил он про свой портрет, – а он посмотрел и написал. Вот что значит техника.
– Это придет, – утешал его Голенищев, в понятии которого Вронский имел и талант и, главное, образование, дающее возвышенный взгляд на искусство».
Вронский не дописывает портрета:
«Портрет Анны, – одно и то же и писанное с натуры им и Михайловым, должно бы было показать Вронскому разницу, которая была между ним и Михайловым; но он не видал ее. Он только после Михайлова перестал писать свой портрет Анны, решив, что это теперь было излишне».
И Михайлов, настоящий художник, действительно видящий и понимающий Анну, – alter ego Толстого. Михайлов пишет портрет Анны – Толстой пишет роман об Анне.
Вронский же представляет собой все то, от чего Толстой отталкивается. И то, что он не оканчивает портрета, очень важно. У Вронского портрет Анны не выходит. Не выходит портрет – погибает та, которая должна была быть на нем изображена. Потому что мы здесь имеем дело с волшебной сказкой. Точнее сказать, с мифом.
Вот как Толстой окончательно сводит счеты с соперником Михайлова в искусстве (а заодно и со своим):
«Михайлов между тем, несмотря на то, что портрет Анны очень увлек его, был еще более рад, чем они, когда сеансы кончились и ему не надо было больше слушать толки Голенищева об искусстве и можно забыть про живопись Вронского. Он знал, что нельзя запретить Вронскому баловать живописью; он знал, что он и все дилетанты имели полное право писать, что им угодно, но ему было неприятно. Нельзя запретить человеку сделать себе большую куклу из воска и целовать ее. Но если б этот человек с куклой пришел и сел пред влюбленным и принялся бы ласкать свою куклу, как влюбленный ласкает ту, которую он любит, то влюбленному было бы неприятно. Такое же неприятное чувство испытывал Михайлов при виде живописи Вронского; ему было и смешно, и досадно, и жалко, и оскорбительно».
Анне Вронского – не жить. Это кукла.
Толстой помещает себя в свой роман и в качестве художника, пишущего портрет героини (Михайлов), и в качестве мужчины, восхищающегося героиней и жалеющего ее (Левин). И все же примечательно, что есть вещи, которые объединяют Левина с Вронским. Одной из них является любовь Кити сначала к Вронскому, а потом к Левину. Да и Анна, познакомившись с Левиным, видит в Левине нечто общее с Вронским: «несмотря на резкое различие, с точки зрения мужчин, между Вронским и Левиным, она, как женщина, видела в них то самое общее, за что и Кити полюбила и Вронского и Левина».
У Михайлова живо выходит Анна на портрете, Левин на короткое время влюбляется в Анну и сострадает ей, однако с живой Анной, с Анной как женщиной имеет дело все же Вронский. И в то же время она – Муза и Прекрасная Дама самого писателя.
Вронский – это тоже Толстой, и он тоже. Вронский – это мечта подростка о ладном и удачливом мужчине, которым он хотел бы быть. И Левин, далеко не всегда ловко вписывающийся в жизненные повороты, действительно завидует Вронскому. Если Анна – женщина мечты, то Вронский – мужчина мечты. А потому соперник, с которым надо расправиться.
Прекрасная Дама – воплощение самой жизни, сама «живая жизнь» – не только прекрасна, но и вызывает страх. Может быть, потому, что ее так легко погубить неосторожным движением. Вронский – тот двойник автора, которому суждено совершить это неосторожное движение.
Вронский (не от английского ли слова “wrong” его фамилия, особенно если принять во внимание, сколько всего английского в романе, вплоть до английских вариантов имен персонажей и массы английских фраз) ломает хребет лошади во время скачки – и ломает жизнь Анны Карениной. Как заметил Набоков, и в сцене «падения» Анны, и в сцене скачек у Вронского дрожит нижняя челюсть:
«То, что почти целый год для Вронского составляло исключительно одно желанье его жизни, заменившее ему все прежние желания; то, что для Анны было невозможною, ужасною и тем более обворожительною мечтою счастия, – это желание было удовлетворено. Бледный, с дрожащею нижнею челюстью, он стоял над нею и умолял успокоиться, сам не зная, в чем и чем.
– Анна! Анна! – говорил он дрожащим голосом. – Анна, ради Бога!..
Но чем громче он говорил, тем ниже она опускала свою когда-то гордую, веселую, теперь же постыдную голову, и она вся сгибалась и падала с дивана, на котором сидела, на пол, к его ногам; она упала бы на ковер, если б он не держал ее».
И этот момент романа повторится (с вариацией) в сцене самоубийства Анны, аукнется настоящим спинным переломом:
«Но она не спускала глаз с колес подходящего второго вагона. И ровно в ту минуту, как середина между колесами поравнялась с нею, она откинула красный мешочек и, вжав в плечи голову, упала под вагон на руки и легким движением, как бы готовясь тотчас же встать, опустилась на колена. И в то же мгновение она ужаснулась тому, что делала. “Где я? Что я делаю? Зачем?” Она хотела подняться, откинуться; но что-то огромное, неумолимое толкнуло ее в голову и потащило за спину».
А вот как подобное происходит с лошадью (Фру-Фру):
«Канавку она перелетела, как бы не замечая. Она перелетела ее, как птица; но в это самое время Вронский, к ужасу своему, почувствовал, что, не поспев за движением лошади, он, сам не понимая как, сделал скверное, непростительное движение, опустившись на седло. Вдруг положение его изменилось, и он понял, что случилось что-то ужасное. Он не мог еще дать себе отчет о том, что случилось, как уже мелькнули подле самого его белые ноги рыжего жеребца, и Махотин на быстром скаку прошел мимо. Вронский касался одной ногой земли, и его лошадь валилась на эту ногу. Он едва успел выпростать ногу, как она упала на один бок, тяжело хрипя, и, делая, чтобы подняться, тщетные усилия своей тонкою потною шеей, она затрепыхалась на земле у его ног, как подстреленная птица. Неловкое движение, сделанное Вронским, сломало ей спину. Но это он понял гораздо после. Теперь же он видел только то, что Махотин быстро удалялся, а он, шатаясь, стоял один на грязной неподвижной земле, а пред ним, тяжело дыша, лежала Фру-Фру и, перегнув к нему голову, смотрела на него своим прелестным глазом. Все еще не понимая того, что случилось, Вронский тянул лошадь за повод. Она опять вся забилась, как рыбка, треща крыльями седла, выпростала передние ноги, но, не в силах поднять зада, тотчас же замоталась и опять упала на бок. С изуродованным страстью лицом, бледный и с трясущеюся нижнею челюстью, Вронский ударил ее каблуком в живот и опять стал тянуть за поводья. Но она не двигалась, а, уткнув храп в землю, только смотрела на хозяина своим говорящим взглядом».
Сама «живая жизнь», которую так легко сломать, которую так жалко, смотрит тут «своим говорящим взглядом». Этот странный взгляд, словно отделенный от конкретного тела и смотрящий сквозь роман на читателя, проявляется в сквозном образе романа – блестящих глазах, в частности, глазах Анны, ощущающих самих себя, собственное видение: