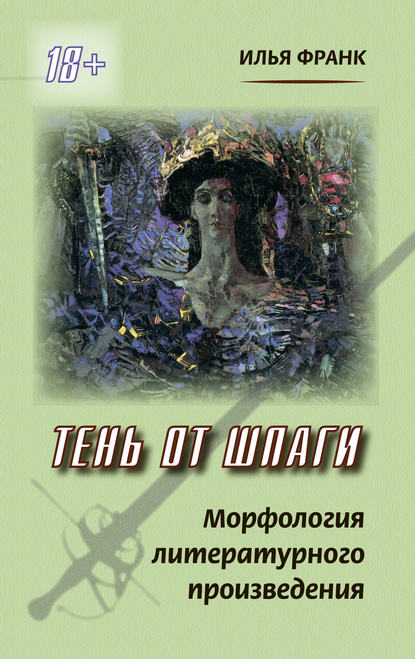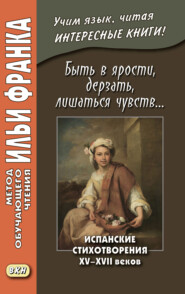По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Тень от шпаги. Морфология литературного произведения
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Стрельников погибает, а Живаго оказывается в его квартире. В романе Германа Мелвилла «Моби Дик» (1851) туземец Квикег погибает, а Измаил выплывает и спасается в очень специфической лодке, изготовленной по просьбе Квикега. Дело в том, что, заболев, Квикег поручает корабельному плотнику сделать для себя нетонущий гроб, гроб-челнок. Квикег выздоравливает, но гроб пригождается Измаилу: когда Белый кит топит судно, Измаила спасает этот гроб-челнок Квикега, что и дает возможность нам услышать от него историю о неудавшейся попытке убить Белого кита.
Стрельников застрелился, Живаго находит его и видит следующее:
«Юрий Андреевич развел огонь в плите, взял ведро и пошел к колодцу за водою. В нескольких шагах от крыльца, вкось поперек дорожки, упав и уткнувшись головой в сугроб, лежал застрелившийся Павел Павлович. Снег под его левым виском сбился красным комком, вымокши в луже натекшей крови. Мелкие, в сторону брызнувшие капли крови скатались со снегом в красные шарики, похожие на ягоды мерзлой рябины».
Это страшный привет от «рыжелистой рябины», от Хозяйки зверей – дарительницы и жизни, и смерти.
Двойное имя (как здесь – Павел Павлович), кстати сказать, нередко подчеркивает двойничество.
Роль двойника не только в том, чтобы помочь герою в его судьбе. Двойник-антипод может быть даже враждебен герою. Но после встречи с ним герой начинает ощущать «его предназначение», то есть получает умение читать книгу жизни, начинает постигать свою линию своей судьбы в сочетании с линиями судеб других людей. Так, например, Генрих, герой романа Новалиса «Генрих фон Офтердинген» (1800), спустившись в пещеру, встречает там неожиданно отшельника, сидящего над книгой, которая написана на незнакомом Генриху языке. Перелистывая затем эту книгу и рассматривая картинки, Генрих находит «свое собственное изображение среди других фигур». И, видимо, рассказ о своей жизни, как уже прожитой, так и еще предстоящей ему.
А до этого Генриху снится, что он, пройдя через ход в скале, встречает голубой цветок:
«Но то, что его полновластно притягивало, было высоким светло-голубым цветком, стоявшим у самого источника и прикасавшимся к нему своими широкими блестящими листьями. Кругом росли бесчисленные и разнообразные цветы, удивительный аромат наполнял воздух. Он не видел ничего, кроме голубого цветка, и рассматривал его долго, с несказанной нежностью. Наконец он захотел к нему приблизиться, и тогда цветок вдруг начал двигаться и изменяться, листья заблестели сильнее и прижались к растущему стеблю, цветок склонился к нему навстречу, и лепестки раскрылись широким воротником, в котором светилось нежное лицо».
В «свое собственное изображение среди других фигур» вглядывается и Юрий Живаго. Этого много в романе Пастернака. Вот, например, Юрий Живаго перед самой смертью:
«Юрию Андреевичу вспомнились школьные задачи на исчисление срока и порядка пущенных в разные часы и идущих с разною скоростью поездов, и он хотел припомнить общий способ их решения, но у него ничего не вышло, и, не доведя их до конца, он перескочил с этих воспоминаний на другие, еще более сложные размышления.
Он подумал о нескольких, развивающихся рядом существованиях, движущихся с разною скоростью одно возле другого, и о том, когда чья-нибудь судьба обгоняет в жизни судьбу другого, и кто кого переживает. Нечто вроде принципа относительности на житейском ристалище представилось ему, но, окончательно запутавшись, он бросил и эти сближения».
Сравните это с началом повести Новалиса «Ученики в Саисе», посвященной Изиде:
«Причудливы стези людские. Кто наблюдает их в поисках сходства, тот распознает, как образуются странные начертания, принадлежащие, судя по всему, к неисчислимым, загадочным письменам, приметным повсюду: на крыльях, на яичной скорлупе, в тучках, в снежинках, в кристаллах, в камнях различной формы, на замерзших водах, в недрах и на поверхности гор, в растительном и животном царстве, в человеке, в небесных огнях, в расположении смоляных и стеклянных шариков, чувствительных к прикосновению, в металлических опилках вокруг магнита и в необычных стечениях обстоятельств. Кажется, вот-вот обретешь ключ к чарующим письменам, постигнешь этот язык, однако смутное чаянье избегает четких схем, как бы отказывается отлиться в ключ более совершенный. Наши чувства как бы пропитаны всеобщим растворителем. Лишь на мгновение твердеют наши влечения и помыслы. Таково происхождение чаяний, однако слишком быстро все тает вновь, как прежде, перед взором».
Задумывается над линиями судьбы, над «странным сцеплением обстоятельств» и Петр Гринёв из повести Пушкина «Капитанская дочка»:
«Я не мог не подивиться странному сцеплению обстоятельств: детский тулуп, подаренный бродяге, избавлял меня от петли…»
«Странная мысль пришла мне в голову: мне показалось, что Провидение, вторично приведшее меня к Пугачеву, подавало мне случай привести в действо мое намерение».
«Милая Марья Ивановна! – сказал я наконец. – Я почитаю тебя своею женою. Чудные обстоятельства соединили нас неразрывно: ничто на свете не может нас разлучить».
Примечательно, что в конце повести мы видим отрезанную голову, которая успевает кивнуть нашему герою: «он присутствовал при казни Пугачева, который узнал его в толпе и кивнул ему головою, которая через минуту, мертвая и окровавленная, показана была народу». Пушкина интересовали подобные штуки. Мертвого двойника, который вдруг оживает и подает знак герою, мы встречаем и в других произведениях Пушкина («Каменный гость», «Медный всадник», «Утопленник»). В «Медном всаднике» и «Утопленнике» этот живой мертвец возникает из водной стихии, из бури (как возникает из снежной бури и Пугачев в «Капитанской дочке», помогая довести кибитку Гринёва до жилья, до постоялого двора. Кстати сказать, на постоялом дворе Гринёв становится невольным свидетелем «воровского разговора» между мужиком-вожатым и хозяином двора. В этом непонятном для героя жаргоне проявляется особый язык, язык мифический, птичий, звериный. Из такого обрядового языка, как известно, и происходит поэзия). Вот, например, медный всадник:
……………… Показалось
Ему, что грозного царя,
Мгновенно гневом возгоря,
Лицо тихонько обращалось…
В «Утопленнике»:
Долго мертвый меж волнами
Плыл качаясь, как живой;
Проводив его глазами,
Наш мужик пошел домой.
<…>
Уж с утра погода злится,
Ночью буря настает,
И утопленник стучится
Под окном и у ворот.
Да и пушкинская «Песнь о вещем Олеге» о том же – о роковом мертвеце, в котором пробуждается жизнь:
Из мертвой главы гробовая змия,
Шипя, между тем выползала…
В. М. Васнецов. Олег у костей коня. 1899 год
У Квикега из романа Мелвилла тоже странный вид, особенно вид головы. Она похожа на голову идола или мертвеца. Измаил в ужасе, увидав «нечеловеческий цвет его лица», а также его бритую голову: «лысая багровая голова была как две капли воды похожа на заплесневелый череп».
В дальнейшем Измаил и Квикег братаются (как братаются Рогожин и князь Мышкин, обменявшись крестами, как братаются Гринёв и Пугачев, обменявшись тулупами, – звериный аспект Пугачева, кстати сказать, состоит не только в его «заячьем тулупе», он неоднократно и многообразно подчеркивается в повести), нанимаются вместе на китобойное судно, становятся, по ощущению Измаила, как бы «сиамскими близнецами»:
«Поскольку я сидел с моим дикарем в одном вельботе, работая позади него вторым от носа веслом, в мои веселые обязанности входило также помогать ему теперь, когда он выполняет свой замысловатый танец на спине кита. Все, наверное, видели, как итальянец-шарманщик водит на длинном поводке пляшущую мартышку. Точно так же и я с крутого корабельного борта водил Квикега среди волн на так называемом “обезьяньем поводке”, который прикреплен был к его тугому парусиновому поясу.
Это было опасное дельце для нас обоих! Ибо – это необходимо заметить, прежде чем мы пойдем дальше, – “обезьяний поводок” был прикреплен с обоих концов: к широкому парусиновому поясу Квикега и к моему узкому кожаному. Так что мы с ним были повенчаны на это время и неразлучны, что бы там ни случилось; и если бы бедняга Квикег утонул, обычай и честь требовали, чтобы я не перерезал веревку, а позволил бы ей увлечь меня за ним в морскую глубь. Словом, мы с ним были точно сиамские близнецы на расстоянии. Квикег был мне кровным, неотторжимым братом, и мне уж никак было не отделаться от опасных родственных обязанностей, порожденных наличием пеньковых братских уз».
Обратите внимание, что Квикег здесь получает ипостась обезьяны. И сравните с обезьяной из стихотворения Владислава Ходасевича «Обезьяна», где звериный двойник-антипод, заглянув в глаза поэта, вызывает в нем видение, похожее на то, что сопровождало Изиду у Нерваля или девушку у Джойса:
Была жара. Леса горели. Нудно
Тянулось время. На соседней даче
Кричал петух. Я вышел за калитку.
Там, прислонясь к забору, на скамейке
Дремал бродячий серб, худой и черный.
Серебряный тяжелый крест висел
На груди полуголой. Капли пота
По ней катились. Выше, на заборе,
Сидела обезьяна в красной юбке
И пыльные листы сирени
Жевала жадно. Кожаный ошейник,
Оттянутый назад тяжелой цепью,
Давил ей горло. Серб, меня заслышав,
Очнулся, вытер пот и попросил, чтоб дал я
Воды ему. Но чуть ее пригубив, —
Не холодна ли, – блюдце на скамейку
Поставил он, и тотчас обезьяна,
Макая пальцы в воду, ухватила
Двумя руками блюдце.
Она пила, на четвереньках стоя,
Локтями опираясь на скамью.
Досок почти касался подбородок,
Над теменем лысеющим спина
Высоко выгибалась. Так, должно быть,
Стоял когда-то Дарий, припадая
К дорожной луже, в день, когда бежал он
Пред мощною фалангой Александра.
Всю воду выпив, обезьяна блюдце
Долой смахнула со скамьи, привстала