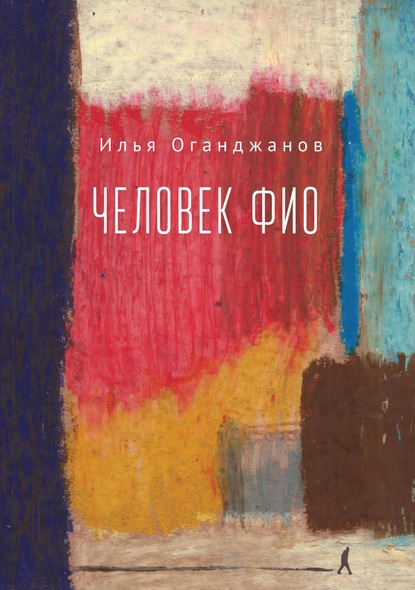По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Человек ФИО
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Осторожно ступая по вспученному линолеуму, прибитому к полу мелкими загнутыми гвоздочками, я вышел из комнаты в полутёмный ремонтный зал с пустующими подъёмниками, эстакадой и штабелями лысых шин. Пахну?ло машинным маслом, сварочной гарью и резиной.
Я наспех умылся над грязной раковиной. Обжигающая ледяная вода с шипением, перекрученной струйкой вырывалась из медного краника с разболтанным пластмассовым вентилем и ударяла в чугунную раковину, оглашая звонким эхом безжизненный зал. Бодрый, будто и не было бессонной ночи, путаных жарких споров и бесплодного бдения над чистым листом бумаги, я шагнул во двор.
От яркого света больно глазам. Я прикладываю ладонь козырьком ко лбу и, почти задыхаясь от какого-то необъяснимого переполняющего меня восторга, глотаю сладко ранящую утреннюю свежесть.
У ворот автосервиса высится пирамидальный тополь. Его верхушка раскачивается в головокружительном небе, серебристые с изнанки листья подрагивают, словно мерцая, и робко перешёптываются на ветру. Как он попал сюда из своих южных широт? Как прижился на этом усеянном болтами и гайками дворе? Среди раскуроченных кузовов, погнутых проржавелых дисков, дырявых канистр, пробитых покрышек и грязных тряпок, которыми слесаря обтирают почерневшие, промасленные, будто неживые руки?.. Кажется, это какая-то ошибка. И сейчас всё исчезнет. Повеет влажным солёным ветром, и вдалеке откроется и грозно задышит море. И, круто забирая выше и выше, будет виться и петлять узкая улочка, залитая палящим солнцем. И мы с родителями идём по ней в поисках комнаты. В горячем воздухе разлит приторный аромат акаций и бугенвилей. Из окон тянет запахом жареной рыбы, тушёного лука, помидоров, баклажанов и варёной кукурузы. К морю спускаются отдыхающие – парами и компаниями, загорелые, в шортах, купальниках, шлёпанцах, с надувными матрасами и перекинутыми через плечо цветастыми полотенцами. Пригибаясь под тяжестью двух чемоданов, отец упрямо тянет нас вверх, от дома к дому с табличками «СДАЁТСЯ» на заборе. Мама послушно семенит за ним, оборачиваясь ко мне с немой мольбой в глазах. И я изо всех сил стараюсь не отставать, еле волоча растёртые до крови ноги в сандалиях, купленных в «Детском мире» на вырост…
В стволе тополя торчит нож. Я выдёргиваю его, отхожу на десять шагов, прицеливаюсь и бросаю. Но, как всегда, мимо.
День выдался удачный. Изрядно подгулявший сибиряк купил сразу сорок билетов – «Москва же – сорок сороков», – сунул их в карман не по сезону жаркой кожаной куртки и, пошатываясь, исчез в толпе. Следом скучающая мадам неопределённого возраста, на шпильках устрашающей высоты, в каплевидных зеркальных солнцезащитных очках и в платье с чересчур откровенным вырезом, короткими толстыми пальчиками отрывала по билетику «на женское счастье» и перламутровым ноготком стирала игровое поле, и так дошла бы до конца ленты, если бы не смурной бомж, с настойчивой галантностью облапивший её за расплывшуюся талию. Потом была компания нерешительных прыщавых юнцов с крашеной блондинкой в джинсовой варёной мини-юбке, после первого проигрыша они закурили, купили пива и, насупленные, уселись в сторонке на корточки; девица тоже присела, высоко заголив матовые гладкие ляжки, и, отхлебнув из горла?, стала взасос целоваться с кудлатым парнем, нагло кося на меня мутным глазом. Застенчивый азиат, выиграв свой же доллар, крепко зажал его в смуглом, обезьяньем кулачке, и в зрачках его вспыхнул дикий безумный огонёк. Тётка, в криво надвинутой на лоб соломенной шляпе с обвислыми полями, выпаливала: «Э-эх, сынок, где наша не пропадала, давай-ка ещё билетик!» Какой-то правдолюбец, отойдя на безопасное расстояние, кричал, что это одно надувательство и он будет жаловаться, и сердито подтягивал лоснящиеся на коленках мешковатые штаны. Приплясывая и барабаня, ходили кругами блаженные кришнаиты, спелёнатые в летучие хламиды до пят, и елейными голосами уговаривали купить Бхагавадгиту. Охранники привычно грозились разбить о мою голову громкоговоритель…
К полудню билеты закончились. Я пожалел, что взял всего одну ленту, и поехал за новой партией. По пути заглянул к Жорке. Палатка была закрыта. Наверно, проспал. Я торопился и решил, что бог с ним с обедом, к вечеру зайду за Жоркой, тогда и поем.
Но и вечером в палатке никого не оказалось. Жара спала, и умиротворяюще веяло прохладой. Я устало прикрыл веки и подставил лицо слабому ласковому ветру, с довольством сунув руки в карманы, оттопыренные от выигрышных билетов и смятых долларов.
За спиной послышался царапающий шорох метлы. Дворничиха обычно принималась за уборку до закрытия рынка, тогда ей кое-что перепадало из брошенных бракованных вещей.
– Привет, тёть Клав. Не видела, Жорка был сегодня?
– Был да весь вышел…
– Ушёл, что ли, уже?
– За им Мамед приезжал. И этот евонный амбал нашего Жорика с разбитой мордой из палатки за шкирок выволок и в ихний месре?дес зашквырнул.
Ленинградский проспект стоял в пробке. Машины ревели и сигналили, почти не двигаясь с места, зажатые в могучих тисках сталинских многоэтажек. «Услуга за услугу, услуга за услугу», – повторял я, точно мантру. Об этих Жоркиных неучтённых одиннадцати порциях знали только мы трое…
Над крышами домов разливался багровый закат. Небо тихо гасло, и громады кучевых облаков покрывались лилово-фиолетовыми трупными пятнами. Я невольно ускорил шаг. Надо было ещё придумать, где переночевать.
Легко и беззаботно
– Понимаешь, я хотел бы снять комнату, чтобы жить отдельно… В общем, мне нужны деньги.
– Деньги всем нужны. И стоило штаны на лекциях просиживать? Умные люди давно делом заняты, а ты над книжками чахнешь. Ну будет, не хмурься. Давай ко мне ночным продавцом. Работа не пыльная, ночь через ночь – хватит и на комнату и на погулять.
У брата с друзьями было несколько торговых палаток, или попросту – ларьков, в начале девяностых эти коробочки росли по Москве как грибы. Палатка брата стояла в центре, на Новослободской. Место людное, прибыльное. Особенно ночью.
– Пить будешь? – Саня, мой напарник, знал, что не буду, но всё равно предлагал. Водка у него была своя – он приторговывал втайне от брата. Первое время косился на меня, присматривался, а когда понял, что не сдам, успокоился и предложил выпить. Он работал днём, а ночью спал в палатке на сдвинутых стульях или уходил к своей любовнице. «Баба она мягкая, ласковая, только несчастная. Муж у неё абрек какой-то, шляется по кабакам, дома не ночует, вот она и затосковала». Оставшись один, я представлял тоскующее на смятых простынях запретное тело несчастной Саниной любовницы, ловил на себе призывный взгляд её масляных глаз, дрожа склонялся к изголовью кровати и куда-то уплывал, тонул в сладком дурмане, краем уха прислушиваясь: не щёлкнет ли замок, не хлопнет ли дверь – это муж, муж… нет-нет, ничего страшного, успокойся, просто очередной покупатель барабанит в окошко. Саня возвращался усталый, с тусклым злым блеском в глазах. Пристраивался боком на сдвинутых стульях, выкуривал сигарету, адски мерцавшую в сумраке палатки, и засыпал. Когда он однажды не вернулся, никто его не искал – он был детдомовский. На гвозде осталась висеть его ветровка. Она так и висела, пока палатку не снесли, чтобы на её месте построить торговый центр. Брат тогда открыл магазин, быстро прогорел, развёлся и устроился к приятелю в ресторан администратором.
Но всё это было потом. А пока я поправляю ценники на полках с сигаретами, пивом, колой, жвачкой, чипсами, сникерсами, с палёной водкой и голландским спиртом Royal, и Саня, посапывая, спит, обняв сам себя, поджав ноги и втянув голову в плечи, словно свернувшийся клубком большой бездомный щенок.
Из палатки виднелась площадь и семенившие по ней люди. Издалека в сумерках они казались совсем маленькими, но вдруг начинали расти, и всё росли и росли, пока в окошко не просовывалась рука с шелестящими гайдаровскими тыщами. А потом снова уменьшались, уменьшались и наконец совсем исчезали. В дождливые ночи покупателей почти не было, разве что случайный прохожий забредал за сигаретами. В непроглядном небе горели электрические астры фонарей, и под ними фальшивой позолотой блестели лужи.
Сначала я думал записывать всё, что происходит, самое интересное. Это ведь и была подлинная жизнь, которую надо знать писателю. Но ничего интересного не происходило. Каждую ночь одно и то же – пиво, водка, чипсы, сигареты… Я часами просиживал над раскрытой тетрадкой. Белый лист бумаги лежал передо мной пустой заснеженной площадью. Зимой в чуткой ночной тишине я научился по скрипу определять, кто идёт – мужчина или женщина и сколько шагов им осталось до палатки: самый отдалённый скрип слышался за тринадцать шагов – если шёл мужчина, и за десять – если женщина. Потом лист превращался в накрахмаленную простыню, в экран кинопроектора, ещё бог знает во что, но так и оставался чистым листом бумаги, на котором лежала моя вихрастая тень.
Около девяти вечера приезжал брат с друзьями и девочками. Они притоптывали и подёргивались под магнитолу, ревевшую из открытой машины, пили из пластиковых стаканчиков водку, хрустко закусывая чипсами, стреляли пробками от «Советского шампанского» и поливали им девочек. Девочки истошно визжали и свысока, с высоты своих дешёвых цокающих шпилек взирали на прохожих.
– Чего разорались, кошёлки, – по-хозяйски покрикивал Макс и хлопал их по тугим задницам, обтянутым мини-юбками. Девочки взвизгивали и строили глазки чернявому Максу, примерно вравшему своей вечно чем-то обеспокоенной матери, что они с друзьями идут в кино, в театр, на концерт, и поэтому он будет поздно, и чтобы она его не ждала. Макс самозабвенно любил женщин и мог с утра до вечера, картинно жестикулируя, разглагольствовать о прелестях блондинок и брюнеток, полненьких и худышек, молоденьких и зрелых. Он говорил, что знает о них обо всех кое-что такое, секрет один. «Вот они и вешаются на меня как кошки. Будешь правильно себя вести – расскажу». Но так и не рассказал. Когда у него обнаружили СПИД, он удавился в туалете на ручке двери.
– Засадит мне сегодня кто-нибудь или тут не осталось ни одного грёбаного мужика?! – кричала на всю площадь пьяная Алка. Меня это не касалось, я был на работе. А друзья брата ухмылялись и отводили глаза. Один Лёва смотрел на неё открыто, с брезгливым презрением. Он уже несколько недель так на всё смотрел, потому что получил визу и собирался валить в Штаты на пээмжэ.
– Су?чье отродье, маменькины сынки, чёртовы импотенты, грязные пидо…
Не выдержав, Юра-десантура грубо толкнул её за палатку. Все сделали вид, что ничего не заметили, и продолжали пить за Лёву, его американское будущее и непременную общую встречу у статуи Свободы.
Алка вышла, пошатываясь, ластясь к широкоплечему Юре. Присмиревшая, взлохмаченная, с фингалом и размазанной по губам помадой, будто она капризно скривила рот. Юра вообще был решительный и кулаки пускал в ход по первому требованию. Когда сносили палатку, он схлестнулся с рабочими. Их было четверо, кряжистые мрачные мужики. Они долго, методично, с оттягом били его ногами, пока он не затих.
Погудев у палатки, вся компания ехала веселиться в ресторан или в гостиницу, где снимали номер и продолжали поливать девочек кружевным липким шампанским. Заявлялись под утро. Хмельные, помятые. Поёживаясь от предрассветного холода, выпивали водки на посошок, делили ночную выручку, отсчитав мне, сколько причитается, и отправлялись по домам спать.
Они жили легко и беззаботно, и казалось, так будет всегда.
О жизни и смерти, и ещё – о любви
Всё на свете – только воспоминание о тебе. И залитая солнцем яблоня за моим окном, и бабочка-капустница над ней, и небо в прорехах цветущей кроны. И сердце робко стучится в эту безответную гулкую синь, замирая от счастья и страха, что сейчас где-то там, за облаками, похожими на изваяние битвы богов и титанов, откроется дверь и ты скажешь мне: «Здравствуй, почему так долго?»
Я хожу по комнате, смотрю в окно. Иногда мне кажется, я смотрю на мир твоими глазами – на яблоню, бабочку, небо – и слышу твой высокий взволнованный голос: «Сердце никуда не стучится, оно бьётся, бьётся как рыба об лёд и вдруг соскальзывает в полынью, замирая от счастья и страха – на миг, на мгновение, навсегда».
Я хожу по комнате и слышу твой голос: «Какая разница, о чём писать? Главное – найти такие особенные слова, прозрачные, как весенний воздух на рассвете. И тогда не придётся ничего сочинять, и можно написать простую историю о жизни и смерти, и ещё – о любви».
За окном звенят тонкие комариные струны, шмель гудит на басах, стрекочут кузнечики, а мне чудится, будто это потрескивают в печи дрова и завывает труба в деревенском доме моей двоюродной тёти, у которой я гостил на зимних каникулах.
И родные, и знакомые звали мою тётю девичьим именем Анечка. Она поздно вышла замуж и вскоре овдовела. Жила одиноко в деревне, куда переехала из Москвы после смерти мужа. «Это был человек удивительный», – так неизменно начинались её разговоры о муже, главной добродетелью которого был мягкий и добрый нрав. На все вопросы «Почему ты уехала?» она отвечала: «Так надо. Видно, судьба такая».
Была у неё одна страсть – невероятные истории, которых она знала столь же невероятное количество. Перед сном я, затаив дыхание, слушал её рассказы. Она со значением предваряла их словами одного своего старинного и, по-моему, небезразличного ей знакомого: «Всё, что я могу сделать в жизни, – "рассказывать истории". Говорю я правду или нет – не важно».
Я хожу по комнате и вспоминаю, как в детстве, выйдя зимним утром на скрипучее крыльцо, не решался спуститься во двор – всё вокруг представлялось таким хрупким: кусты и деревья в морозном хрустале, заснеженное поле за скособоченным ревматичным забором, дымок над трубой соседского дома, изменчивой тропкой, убегающий ввысь… Возможно, таким же утром умерла тётя Анечка, пролежав несколько дней больная в стылом доме, не в силах подняться и затопить печь.
Как и моя тётя, ты любила невероятные истории. И чуть ли не на первом свидании объявила мне:
– Пожалуйста, никаких признаний, никаких «навеки» и «до гроба» – любовь должна быть такой не на словах, а на деле.
– Тебе, наверное, хочется, чтобы вся жизнь состояла из одних первых встреч?
– Может быть, всего из одной встречи…
Приморский городок просыпался рано. Шёпот прибоя тонул в кашле простуженных моторов, громыхании бидонов и праздном лепете тополей. Он вставал вместе со всеми и шёл на пляж. Его отправили к бабушке на каникулы – загорать, купаться и набираться сил. Остывший за ночь песок щекотал босые ступни. Море большим сильным зверем шевелилось и урчало у ног. Он не боялся его, он прекрасно плавал и каждый день заплывал всё дальше. Сквозь толщу воды виднелись заросшие водорослями камни, на глубине мелькали рыбы, скользили медузы, но постепенно дно погружалось во тьму, становясь всё непроницаемей и притягательней.
Как-то раз он заплыл так далеко, что дома и деревья на берегу сделались маленькими-маленькими, совсем игрушечными. И было непонятно, как жить в этом крошечном мире. Волны, такие ласковые у берега, жадно чавкали и грубо толкали его, точно злобные старшеклассники, солнечные лучи искрились на воде и пускали в глаза предательские слепящие стрелы, страх скользил по животу мерзкой медузой. И когда у него не осталось больше сил бороться с огромной водой и тело налилось свинцом от усталости, что-то ткнулось ему в бок. Это был дельфин. Дельфин отвёз его на берег и, вынырнув из воды, защёлкал и пронзительно закричал на прощанье.
С тех пор по утрам дельфин приплывал к берегу. Завидев чёрный плавник, он радостно бросался в воду. Дельфин уносил его к самому горизонту, и дома и деревья исчезали из виду.
Но все каникулы когда-нибудь заканчиваются. И он уехал, потому что все мальчики должны учиться в школе, должны учиться уезжать и не должны плакать. А дельфин по-прежнему приплывал к берегу, выныривал из воды, щёлкал и пронзительно кричал. Возможно, это был тот дельфин, что сбежал от жестоких дрессировщиков из дельфинария? Увы, этого никто не узнает… Однажды утром дельфина нашли мёртвым на песке. Говорят, выбросился на берег, от тоски.
Бывало, я рассказывал тебе не тётины истории, слышанные в детстве, а придуманные мной, но они оставляли тебя равнодушной: «Да, всякое случается, ничего удивительного».
Такой-то город, лето такого-то года. Группа иностранных туристов. Щёлкают фотоаппаратами, словно отстреливаясь от невидимого врага. Вот одна пара снимается на фоне того, на фоне сего, в кадр случайно попадает прохожий – мужчина средних лет среднего роста среднего достатка. «Кто это, кто это?» – спрашивают потом родные-друзья-знакомые, перебирая фотографии. «Так, прохожий». Но если приглядеться, в нём можно узнать того мальчика, которого спас дельфин. Мальчик вырос, стал мужчиной, прожил незаметную жизнь и о том случае на море вспоминал редко, как о чём-то произошедшем с другим человеком. Снимок пережил всех, кто был на нем запечатлён, и внуки той пары иностранных туристов, рассматривая фотографии давно почивших бабушки и дедушки, указывали на неизвестного мужчину и недоумевали: «Кто это, кто это?» И некому было ответить: «Так, прохожий».
В школе у нас была преподавательница математики, слепая от рождения. Она проходила по коридору медленной тяжёлой походкой, крепко зажав под мышкой книги Брайля, на уроке быстро водила бескровными пальцами по их большим картонным страницам с выколотыми таинственными знаками и, устремив к потолку слепые белки, словно шаман, диктовала теоремы, а один из нас крошащимся мелом записывал за ней на доске формулы, похожие на скелеты людей и животных. Она узнавала нас по голосам, шагам, по дыханию: «Не вертитесь, Петров, не болтайте, оставьте косички Кузнецовой в покое». Словно видела всех насквозь. В классе поговаривали: стоит ей прикоснуться к человеку – и она узнает все его потаённые мысли.