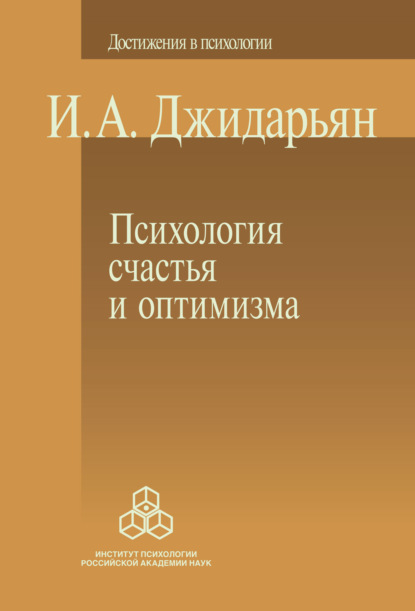По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Психология счастья и оптимизма
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Терпимое отношение русского человека к несчастью обуславливало и, в свою очередь, обуславливалось тем главным смыслом, который всегда был преобладающим в представлениях нашего народа о счастье-несчастье и остается, по существу, таким и сегодня. Этот смысл связывается, прежде всего, и главным образом с пониманием несчастья как удара судьбы, как проявление беды, от которой никто не застрахован, поэтому трудно представить, чтобы в русском народе с его менталитетом мог появиться и стать популярным, как среди североамериканцев, афоризм «Если ты умный, то почему бедный?», на который любят сегодня ссылаться и наши обогатившиеся (за счет ли собственного ума?) граждане. Само слово «счастье» в русском языке происходит от корня «часть», т. е. удел, судьба. Соответственно, несчастье – это не удел, не судьба. Однако одновременно просматриваются и некоторые различия между этими понятиями. Так, если достижение счастья все же связывается с определенными усилиями и заслугами самого человека, то в несчастье эта личностная компонента обычно сводится до минимума.
Понятно, что доброжелательно-сочувственная тональность русского сознания к несчастью определила и характерную для русских людей откровенность в отношении к своим бедам и страданиям, которые обычно не скрываются от других. Русским людям свойственна привычка «поведать» о своих несчастьях, рассказать о своем горе или постигшей беде, не сомневаясь при этом, что их поймут, искренне утешат и помогут чем смогут. Этим они отличаются от некоторых других народов, в культуре и традициях которых существует поверье, что говорить о несчастье не следует: можешь привлечь и накликать новую беду.
Мотив сочувствия, как можно судить по самым разным источникам, глубоко укоренен в русском менталитете и в качестве некоторой общей тенденции проявляется и сейчас. Это, в частности, подтверждается и результатами наших конкретных исследований, которые более подробно будут проанализированы в последующих главах книги. Хочется верить и надеяться, что эта привлекательная черта русского народа, издавна присущая ему сочувственность и сердечность в отношениях к людям сохранится за ним и в условиях новой социальной действительности, с ее рыночной жесткостью, бескомпромиссной конкурентностью, правом сильного и богатого.
По нашим наблюдениям и некоторым другим свидетельствам (в том числе и по тому большому числу отрицательных утверждений, которые фиксируют соответствующие опросы) и в современном российском обществе люди не испытывают сколько-нибудь глубоких комплексов, не встречают серьезных внутренних барьеров при ответах на вопросы о своей несчастливости и неудовлетворенности жизнью. В большинстве случаев они отвечают на эти вопросы достаточно открыто и прямо, не прибегая даже к смягчающим формулировкам отрицательных утверждений. В отношении российской ментальности, в том числе и современной, нет сколько-нибудь достаточных оснований говорить о какой-либо тенденции занижать свою несчастливость. Скорее даже, наоборот.
* * *
Выявленная в нашем анализе асимметрия в соотношении счастья – несчастья, которая объективно сложилась в исторической судьбе русского народа, закономерно ставит вопрос о том, в какой форме и как отразилась она на его характере и особенностях российского мировосприятия. Не сделала ли эта «многострадальность и жертвенность земли русской», о которой говорил Н. А. Бердяев (1990б, с. 34), наш народ менее жизнелюбивым? Не снизила ли общую восприимчивость и способность в полной мере радоваться и наслаждаться жизнью?
Возможность такого влияния на протяжении тысячелетней российской истории, конечно, была, исключать ее у нас нет оснований. Однако определить и обосновать это влияние чрезвычайно сложно. Впрочем, это не столь важно и в данном случае не имеет принципиального значения. Поэтому ограничимся ссылкой на авторитетное замечание Н. А. Бердяева, сделанное им, правда, по другому поводу: «Русские, по его наблюдению, почти не умеют радоваться, совсем почти не знают радости формы» (там же, с. 65). В свою очередь, Бахтин говорил о «слезном видении мира», глубоко укоренившемся в сознании древнерусского общества, которое определило жизненные позиции не только монашества, но и мирян. Способность мгновенно настроиться на плач, на рыдания вообще служила на Руси внешней приметой моральности человека, его благочестия и т. д. Существует даже изречение: «Если русский не плачет, то Бог его забыл».
Более интересной и важной представляется нам другая версия возможного влияния «дефицита» счастья на некоторые особенности русского менталитета, хотя сама она может показаться не совсем традиционной и в чем-то даже неожиданной.
Правомерность и реальность этой версии мы связываем с проявлением общепсихологических механизмов компенсации и возмещения, благодаря которым обеспечивается, как известно, жизнеспособность живых систем, достигается необходимый баланс сил, происходит взаимозаменяемость функций и свойств, возникает возможность уравновешивать недостатки и ограничения в одном преимуществами и достоинствами в другом. Поэтому логично предположить, что веками продолжающийся «недобор» счастья в жизни народа при наличии естественной потребности радоваться «здесь и сейчас» не мог не отразиться на развитии таких качеств и структур психики, которые были способны компенсировать эту недостаточность, могли стать источником положительных эмоций в реальной жизни, необходимой подпиткой для жизненных сил и стойкости духа, всегда присущих русским людям.
Такими свойствами и структурами психики могли быть, прежде всего, оптимизм и связанные с ним вера и надежда на лучшее будущее. Распространенное в литературе и в обыденном сознании мнение, что счастливые люди всегда оптимисты или, по крайней мере, более оптимистичны, чем несчастливые, а несчастливые – пессимисты (Wessman, Ricks, 1966), не может служить в данном случае контраргументом, поскольку не подтверждается современными эмпирическими исследованиями.
Например, сравнивая уровни оптимизма людей, живущих в разных странах (Michalos, 1988), с данными по счастью и общей удовлетворенности жизнью, полученными в других кросс-культурных исследованиях, на которые уже приводились ссылки выше, мы получили весьма пеструю и неоднозначную картину. В частности, оказалось, что по числу наименее оптимистически настроенных граждан в числе первых оказались Бельгия, Дания, а также Голландия, т. е. как раз те страны, которые лидируют по числу самых счастливых в Европе людей. В то же время североамериканцы и канадцы, как и жители Южной Америки и Австралии, являются не только наиболее счастливыми, но и наиболее оптимистичными народами в мире. Что же касается большинства стран и народов, то, по данным этих исследований, сколько-нибудь четких зависимостей между показателями оптимизма, с одной стороны, и общей удовлетворенностью жизнью, с другой, нет.
Есть основания полагать, что «недостаток» счастья компенсировался в русском народе его устремленностью в завтрашний день, надеждами и мечтой о благополучном и счастливом будущем, поисками более высоких идеальных оснований бытия, а также стремлением к смыслу жизни, без которого для русского сознания нет счастья. И если правомерно задаться вопросом о том, какой из народов в своей исторической биографии мог больше всего извлечь позитивной энергии из надежды, из своей устремленности в будущее, то таким народом наверняка оказался бы русский.
Вдохновенным гимном вере, этой бесценной способности человека «осветлять» жизнь, стало одно из самых дивных четверостиший А. С. Пушкина:
Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись!
В день уныния смирись:
День веселья, верь, настанет.
Сердце в будущем живет,
Настоящее уныло;
Все мгновенно, все пройдет;
Что пройдет, то будет мило.
(Пушкин, 1977б, с. 239)
Надежда, как известно, была верной спутницей творчества А. С. Пушкина на всем протяжении его жизни, опорой его «неподкупного голоса», ставшего воистину «эхом русского народа» (Пушкин, 1977а, c. 302). И он своей «чувствительной душой» человека и патриота не мог, конечно, не уловить глубинной связи, родственных корней между человеческими несчастьями, невзгодами страны и бедами родного народа, с одной стороны, и его надеждами на лучшую жизнь, с другой. «Несчастью верная сестра» – вот какой поэтический образ находит он для их сравнения в известном стихотворении «Во глубине сибирских руд», стремясь надеждой поддержать друзей в «минуты роковые», вселить в них силой этого чувства «бодрость и веселье» (Пушкин, 1977в, с.7). С юношеских лет поэт твердо верил сам и постоянно призывал друзей не сомневаться в том, что придет «желанная пора», когда над их отечеством взойдет, наконец, «звезда пленительного счастья». Именно эта вера вдохновляла и окрыляла всех патриотов России, кто любил и желал счастье своему народу и отчизне, как об этом проникновенно сказал П. А. Чаадаев: «Будущая Россия, ведь Тебя я только и любил всей душой».
Страной «пророческих предчувствий и ожиданий» называл Россию Н. А. Бердяев (1990б, с. 30), народ которой должен был, как писали русские поэты, сохранять «в сердце радостную веру средь кручины злой» (И будет вечен вольный труд…, 1988, с. 189), «силами мечты воссоздавать и дорисовывать» то, чего он не имеет в жизни (там же, с. 301). Н. В. Гоголю в русской народной песне слышалось «стремление унестись куда-то вместе со звуками, а не привязанность к жизни и ее предметам» (Гоголь, 1986, с. 321). И не случайно образ России как целого явился ему в образе бешено скачущей тройки, которая «мчится, вся вдохновенная Богом».
Е. Н. Трубецкой, размышляя над духовным смыслом древней русской иконописи, уникального вида искусства, справедливо увидел в ней не только выражение «беспредельной» и «бездонной глубины скорби существования», но и ту «великую радость», в которую претворяется скорбь; то и другое в ней нераздельны (Трубецкой, 1994, с. 277). «Но есть в этой иконописи и что-то другое, – заключает Е. Н. Трубецкой свои размышления, – что преисполняет душу бесконечной радостью, – это образ России обновленной, воскресшей и прославленной. Все в ней говорит о нашей народной надежде, о том высоком духовном подвиге, который вернул русскому человеку родину» (там же, с. 290).
Следует отметить, что чувство оптимизма и тесно связанная с ним потребность смысла жизни, которые на протяжении столетий удерживались и закладывались в генетическую память народа, помогая в очередной раз выдержать и устоять перед ударами судьбы, выйти обновленным из самых, казалось бы, безнадежных исторических ситуаций, с новой силой и на новой основе проявились в советские годы. С победой Октябрьской революции в стране, как известно, утвердилась коммунистическая идеология, оказавшаяся чрезвычайно созвучной вековым чаяниям и надеждам народа о построении общими усилиями и в обозримой перспективе общества всеобщего счастья и справедливости. Зерно упало на благодатную, давно подготовленную почву. В этом смысле Н. А. Бердяев справедливо говорил о коммунизме как продукте русского национального характера, которому свойственна мессианская идея освобождения человечества и спасения народов от завоевателей и что она не раз находила практическое воплощение в истории России. «Мессианская идея ортодоксального марксизма – освобождение всего человечества от эксплуатации через мировую революцию, – писал он в 1937 г., – это есть не что иное, как модификация русской мессианской идеи» (Бердяев, 1990в, с. 88).
И как бы ни относиться сегодня к коммунистической идеологии, как бы долго и много ни говорить о советских мифологемах, о «великих» иллюзиях прошлых десятилетий и умелом манипулировании общественным сознанием идеологами и руководителями КПСС, нельзя отрицать того бесспорного факта, что на протяжении целой исторической эпохи миллионы людей были воодушевлены этой коммунистической перспективой, проявляли массовый энтузиазм и самоотверженность в борьбе, как они искренне верили, за счастливое будущее своей Родины.
Вдохновенно и без нотки фальши написаны в 1950-е годы следующие строчки М. А. Светлова:
Да! Я принимаю участье
В широких шеренгах бойцов,
Чтоб в новое здание счастья
Вселить наконец-то жильцов.
(Светлов, 1983, с. 161)
Непоколебимый оптимизм и уверенность в правоте своего дела объясняет один из парадоксов советской действительности – почему в условиях отсутствия многих внешних факторов счастья, несмотря на лишения и тяготы повседневной жизни и даже, казалось, наперекор и вопреки им, большинство советских людей тем не менее чувствовали себя вполне счастливыми.
Да, у советских людей не было того материального достатка и уровня жизни, какой был уже в западных странах; да, были определенные ограничения и запреты в плане демократических свобод и прав человека; да, было еще немало такого, с чем трудно сегодня согласиться и безусловно одобрить. Но одновременно не было неуверенности и страха за свое будущее и будущее своих детей, не было разочарованности и безысходности, всеобщей растерянности и ожесточенности перед вседозволенностью и безответственностью власти, какие появились за последние десятилетия.
Напротив, были историческая перспектива, чувство великой Родины и сознание необходимости совместной борьбы и самоотверженного труда за общее благо. Для большинства советских людей это были необходимые составляющие их представлений о счастье. За годы перестройки и экономических реформ высокий смысл этих надличных или, точнее, «сверхличных» ценностей человеческой жизни оказался девальвированным, лишенным прежних значений. О них стало не принято публично высказываться, а если все же говорить, то как-то невнятно, с оговорками и извиняющимися интонациями.
Это более чем странно, поскольку на самом деле речь идет не о каких-то «пережитках социализма», не о чем-то сомнительном, исторически не выверенном, а о ментальных, всегда высоко чтимых в русской среде чувствах и понятиях. «Счастье Родины я ставлю на первый план», – эти гордые слова произнесены отнюдь не передовиком социалистического производства и членом КПСС, а русским генералом-эмигрантом А. И. Деникиным, человеком весьма далеким от идеологии и практики социализма, но имевшим мужество перед лицом смерти заявить немцам, что он служил и служит только России. И эти высокие слова в равной мере могли принадлежать каждому из поколений русских людей, выходцев из разных социальных слоев и эпох, начиная уже с того безвестного автора «Слова о погибели Русской земли», с такой подкупающей нежностью и беспримерностью для средневековой лексики выразившего свои патриотические чувства: «О, светло светлая и украсно украшена земля Русская» (см.: Георгиева, 1998, с. 42).
К сожалению, современное российское общество осталось без идеалов, вдохновляющих и духовно укрепляющих идей, способных придать смысл нашему национальному бытию и историческому существованию в мире. Демократические свободы и права человека, о которых так много говорилось и говорится в последние годы как о важнейших завоеваниях новой власти и проводимого курса реформ, мало чем могут помочь в этом плане. При всем огромном значении этих прав и свобод в становлении современной мировой цивилизации и гуманистического мышления практика их реализации в нашей стране, к сожалению, очень быстро обернулась многими негативными сторонами, что окончательно лишило их возможности претендовать на роль новой национальной идеологии. Опросы последних лет показывают, что в обществе нет большого энтузиазма и идеализации этих ценностей. Более того, все больше людей (по некоторым данным, не менее половины опрошенных) готовы даже поддержать введение цензуры в СМИ. И вообще наивно полагать, что на пороге третьего тысячелетия традиционные идеи буржуазного общества и западной цивилизации могут приобрести духовный смысл и центрирующий характер для народа, которому исторически только хлеба и зрелищ было всегда мало, а принципы «все продается – все покупается», «подешевле купить, подороже продать» и вовсе глубоко не симпатичными и чуждыми. «Не удавиться ли мне?» – думает Счастливцев, один из персонажей пьесы Островского «Лес», когда он на несколько дней оказывается в состоянии полного материального благополучия и сытости.
К тому же не следует забывать, что буржуазное общество само больно, больно давно и неизлечимо, и это осознали многие наши соотечественники – известные деятели культуры, ученые, представители духовной религиозной мысли и т. д., волею судеб оказавшиеся сразу после Октябрьской революции на Западе. В своих критических статьях, полных тревог и озабоченности за будущее вынужденно покинутой им Родины, они в то же время не обольщались «прелестями» западного образа жизни. «Мы знаем, – писал в 1930-е годы Г. П. Федотов, находясь во Франции, – что западная цивилизация тяжко больна; международные столкновения – лишь один из симптомов общего недуга. И по устранению их остается возможность социальных потрясений, моральных кризисов, духовных бурь. В конце концов, вопрос о спасении нашей культуры есть вопрос духа» (Федотов, 1992, с. 315).
Еще более жесткие позиции занимал в этом вопросе Н. А. Бердяев, называя капитализм самой антихристианской системой. В отличие от него, считал ученый, коммунизм по своей социально-экономической сущности может быть вполне согласован с христианским учением, а значит, и с русским православием. Вот почему, справедливо полагал он, «не защитникам капитализма обличать неправду коммунизма» (Бердяев, 1990в, с. 151).
Конечно, трудно предположить, чтобы в глубоко больном и духовно ослабленном обществе, какой видится сегодня Россия, мог быть большой процент удовлетворенных жизнью и счастливых людей. По данным разных опросов, этот процент действительно очень небольшой и колеблется от 3 % до 15 %. Обрести полноту и прочную основу счастья сейчас значительно труднее, чем раньше. Исследования показывают, что на уровне ценностных представлений – и молодежь тут не составляет исключения – советский человек был счастливее, чем россиянин сегодня (Сикевич, 1999, с. 92).
Заметное уменьшение за последние годы числа тех, кто счастлив и удовлетворен жизнью, совсем не означает, что сегодня стало меньше людей, желающих или мечтающих о счастье. Скорее, наоборот. Однако при неизменной и неослабевающей тяге к счастью произошло заметное изменение ценностного пространства счастья в представлениях россиян. Оно значительно сузилось и оказалось сконцентрированным на уровне «Я – моя семья – личные цели».
Ограниченность счастья рамками «Я – личная жизнь», что в принципе вполне естественно и объяснимо с позиций индивидуального сознания, тем не менее не представляется безупречным с позиций общественной нравственности, поскольку таит в себе опасность перерастания в такие формы жизни, когда собственное благополучие и довольство заслоняет все остальное, когда блокируются «души прекрасные порывы «(А. С. Пушкин) и многое из того, что определяет «вертикальную ось» (Н. А. Бердяев) человека, не позволяя строить собственное счастье на несчастии других. Конечно, такая опасность существовала всегда, в том числе и при социализме, но сегодня она стала особенно реальной и ощутимой. Как избежать ее? Как добиться того, чтобы сосредоточенность на личной жизни и личном благополучии не становилась некой ширмой, отгораживающей человека от всего остального мира, от проблем и жизненных затруднений других людей, от благополучия и процветания страны, в которой живешь и в которой родился? Вот главные вопросы, на которые сегодня трудно найти ответы каждому в отдельности, но которые должны быть, по крайней мере, сформулированы и осознаны обществом в числе важнейших и решаться общими усилиями.
К некоторым из поставленных вопросов, связанных с ценностными основаниями и представлениями о счастье в современном российском обществе, мы еще вернемся в следующих главах книги, в которых будут проанализированы материалы соответствующих эмпирических исследований.
Глава 2
Проблема счастья и удовлетворенности жизнью в современных психологических исследованиях
Исторически сложилось так, что разработка проблемы счастья в психологической науке началась с негативных его значений или с того, что З. Фрейд называл «нормальным несчастьем повседневности». На протяжении десятилетий в трудах ученых разных психотерапевтических ориентаций начиная с З. Фрейда наблюдался явный «перекос» в сторону рассмотрения и изучения отрицательных эмоций и депрессивных состояний человека, лежащих в основе внутренних конфликтов, неудовлетворенных влечений, противоречий между «желаемым» и «должным», «притязаниями» и «достижениями» и т. д.
На основе многолетних изысканий и эмпирических поисков этому направлению психологической науки удалось достаточно глубоко и всесторонне, хотя и на специфическом материале неврозов, изучить реальную картину человеческих несчастий, душевных конфликтов, разработать и предложить различные способы и специальные методики «выхода» из этих негативных состояний. Напротив, проблема положительных переживаний и позитивных проявлений человеческой психики, радости и счастья человеческой «повседневности» долгое время не была выделена психологами как специальный предмет исследования и конкретно не изучалась.
Подобный дисбаланс в психологических исследованиях счастья и несчастья отражал общую ситуацию, сложившуюся в науке в целом и прежде всего в философии на рубеже прошлых веков, когда в обществе был отмечен резкий рост пессимистических чувств и упаднических настроений. Вообще следует отметить, что научный интерес привлекала то одна, то другая составляющая парной категории счастья – несчастья, поэтому и развитие этих понятий не было параллельным и равномерным от эпохи к эпохе. Так, например, более ранние периоды человеческой истории термина «несчастье», по существу, не знали, и он является достоянием и особенностью современных языков. Древнегреческие философы говорили о счастье чаще всего в смысле идеала, а не характеристики жизни, поэтому они использовали слово «счастье», не акцентируя его альтернативного смысла. Как пишет В. Татаркевич, один из самых глубоких исследователей этой проблемы, еще в воззрениях мыслителей XVI в. счастье преобладало над несчастьем, а в XVII в. «чаши весов» уравновесились. В XVIII в. несчастье взяло вверх. «И, собственно, отношение к жизни, свойственное новому времени, – как пишет ученый, – проявилось только в XVIII веке» (120, с. 243).
«Взяв вверх» в XVIII в., тема несчастья со всем многообразием его проявлений в реальной жизни уже не сдает своих ведущих позиций ни в XIX в., ни тем более в первой половине XX в., причем не только в конкретных науках и философии, но и в искусстве, литературе, поэзии и т. д. Весьма примечательным для этой ориентации является следующее высказывание С. Кьеркегора, родоначальника экзистенциализма и философии жизни: «…счастлив тот, кто умер в старости; более счастлив тот, кто умер в молодости, еще счастливее тот, кто совсем не родился» (см.: Гайденко, 1970, с. 11).
Более того, пессимистический мотив, определяемый позицией «изначальной скорби бытия», вечности и исключительности человеческих страданий, становится определяющим началом не только в ряде известных философских учений (А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, Э. Гартмана, О. Шпенглера и др.), но получает распространение и в других науках, в том числе и в психологии.
В психологии эта деформация и односторонний подход в изучении человеческих форм жизни в пользу их негативных аспектов начинает исправляться только со второй половины ХХ в. под влиянием, прежде всего, работ гуманистически ориентированных психологов (А. Маслоу, Г. Олпорта, Э. Эриксона, К. Р. Роджерса, В. Франкла и др.).
Развитие гуманистической психологии определило появление в мировой науке новых исследовательских тем и направлений, к числу которых относится и проблема субъективного благополучия личности (Subjective Well-Being). Обращение к этой, первоначально широко сформулированной проблеме, включающей в себя не только понятие счастья (Happiness), удовлетворенности жизнью (Life Satisfaction), но и позитивно окрашенного самочувствия, положительной аффективности, психологического здоровья (Mental-Healt), моральности (Morale) в значении стойкости духа и т. д., было в известной мере «обратной реакцией» на психоаналитическую ориентированность мировой психологической науки, в которой преобладающее внимание уделялось изучению негативных аспектов психической жизни людей.
Существует прямая связь между исследованиями, посвященными психологии счастья и удовлетворенности жизнью, с одной стороны, и общесоциологической концепцией «качества жизни» (Quality of Life), с другой. Причем ведущее влияние первоначально исходило со стороны качества жизни. Как социологическая концепция была выдвинута и стала активно развиваться в 1960-е годы, прежде всего, учеными США применительно к новому, постындустриальному этапу социально-экономического развития своей страны. В структуре этой концепции важное значение придавалось понятию субъективного благополучия (Subjective Well-Being) личности, которое имело четко выраженный психологический смысл, связанный с понятиями счастья и удовлетворенности жизнью.
Как известно, концепция Quality of Life, которая наряду с другими модными социологическими теориями тех лет, например, общество «всеобщего благоденствия», «изобилия», «массового потребления» и т. д., отражающими новые тенденции развития западных стран, была резко отрицательно воспринята советским обществоведением. Она критиковалась прежде всего по идеологическим мотивам, поскольку, как тогда считалось, была «призвана в конечном счете «доказать» мнимые преимущества буржуазного образа жизни над социалистическим» (Попов, 1996, с. 150).
Понятно, что доброжелательно-сочувственная тональность русского сознания к несчастью определила и характерную для русских людей откровенность в отношении к своим бедам и страданиям, которые обычно не скрываются от других. Русским людям свойственна привычка «поведать» о своих несчастьях, рассказать о своем горе или постигшей беде, не сомневаясь при этом, что их поймут, искренне утешат и помогут чем смогут. Этим они отличаются от некоторых других народов, в культуре и традициях которых существует поверье, что говорить о несчастье не следует: можешь привлечь и накликать новую беду.
Мотив сочувствия, как можно судить по самым разным источникам, глубоко укоренен в русском менталитете и в качестве некоторой общей тенденции проявляется и сейчас. Это, в частности, подтверждается и результатами наших конкретных исследований, которые более подробно будут проанализированы в последующих главах книги. Хочется верить и надеяться, что эта привлекательная черта русского народа, издавна присущая ему сочувственность и сердечность в отношениях к людям сохранится за ним и в условиях новой социальной действительности, с ее рыночной жесткостью, бескомпромиссной конкурентностью, правом сильного и богатого.
По нашим наблюдениям и некоторым другим свидетельствам (в том числе и по тому большому числу отрицательных утверждений, которые фиксируют соответствующие опросы) и в современном российском обществе люди не испытывают сколько-нибудь глубоких комплексов, не встречают серьезных внутренних барьеров при ответах на вопросы о своей несчастливости и неудовлетворенности жизнью. В большинстве случаев они отвечают на эти вопросы достаточно открыто и прямо, не прибегая даже к смягчающим формулировкам отрицательных утверждений. В отношении российской ментальности, в том числе и современной, нет сколько-нибудь достаточных оснований говорить о какой-либо тенденции занижать свою несчастливость. Скорее даже, наоборот.
* * *
Выявленная в нашем анализе асимметрия в соотношении счастья – несчастья, которая объективно сложилась в исторической судьбе русского народа, закономерно ставит вопрос о том, в какой форме и как отразилась она на его характере и особенностях российского мировосприятия. Не сделала ли эта «многострадальность и жертвенность земли русской», о которой говорил Н. А. Бердяев (1990б, с. 34), наш народ менее жизнелюбивым? Не снизила ли общую восприимчивость и способность в полной мере радоваться и наслаждаться жизнью?
Возможность такого влияния на протяжении тысячелетней российской истории, конечно, была, исключать ее у нас нет оснований. Однако определить и обосновать это влияние чрезвычайно сложно. Впрочем, это не столь важно и в данном случае не имеет принципиального значения. Поэтому ограничимся ссылкой на авторитетное замечание Н. А. Бердяева, сделанное им, правда, по другому поводу: «Русские, по его наблюдению, почти не умеют радоваться, совсем почти не знают радости формы» (там же, с. 65). В свою очередь, Бахтин говорил о «слезном видении мира», глубоко укоренившемся в сознании древнерусского общества, которое определило жизненные позиции не только монашества, но и мирян. Способность мгновенно настроиться на плач, на рыдания вообще служила на Руси внешней приметой моральности человека, его благочестия и т. д. Существует даже изречение: «Если русский не плачет, то Бог его забыл».
Более интересной и важной представляется нам другая версия возможного влияния «дефицита» счастья на некоторые особенности русского менталитета, хотя сама она может показаться не совсем традиционной и в чем-то даже неожиданной.
Правомерность и реальность этой версии мы связываем с проявлением общепсихологических механизмов компенсации и возмещения, благодаря которым обеспечивается, как известно, жизнеспособность живых систем, достигается необходимый баланс сил, происходит взаимозаменяемость функций и свойств, возникает возможность уравновешивать недостатки и ограничения в одном преимуществами и достоинствами в другом. Поэтому логично предположить, что веками продолжающийся «недобор» счастья в жизни народа при наличии естественной потребности радоваться «здесь и сейчас» не мог не отразиться на развитии таких качеств и структур психики, которые были способны компенсировать эту недостаточность, могли стать источником положительных эмоций в реальной жизни, необходимой подпиткой для жизненных сил и стойкости духа, всегда присущих русским людям.
Такими свойствами и структурами психики могли быть, прежде всего, оптимизм и связанные с ним вера и надежда на лучшее будущее. Распространенное в литературе и в обыденном сознании мнение, что счастливые люди всегда оптимисты или, по крайней мере, более оптимистичны, чем несчастливые, а несчастливые – пессимисты (Wessman, Ricks, 1966), не может служить в данном случае контраргументом, поскольку не подтверждается современными эмпирическими исследованиями.
Например, сравнивая уровни оптимизма людей, живущих в разных странах (Michalos, 1988), с данными по счастью и общей удовлетворенности жизнью, полученными в других кросс-культурных исследованиях, на которые уже приводились ссылки выше, мы получили весьма пеструю и неоднозначную картину. В частности, оказалось, что по числу наименее оптимистически настроенных граждан в числе первых оказались Бельгия, Дания, а также Голландия, т. е. как раз те страны, которые лидируют по числу самых счастливых в Европе людей. В то же время североамериканцы и канадцы, как и жители Южной Америки и Австралии, являются не только наиболее счастливыми, но и наиболее оптимистичными народами в мире. Что же касается большинства стран и народов, то, по данным этих исследований, сколько-нибудь четких зависимостей между показателями оптимизма, с одной стороны, и общей удовлетворенностью жизнью, с другой, нет.
Есть основания полагать, что «недостаток» счастья компенсировался в русском народе его устремленностью в завтрашний день, надеждами и мечтой о благополучном и счастливом будущем, поисками более высоких идеальных оснований бытия, а также стремлением к смыслу жизни, без которого для русского сознания нет счастья. И если правомерно задаться вопросом о том, какой из народов в своей исторической биографии мог больше всего извлечь позитивной энергии из надежды, из своей устремленности в будущее, то таким народом наверняка оказался бы русский.
Вдохновенным гимном вере, этой бесценной способности человека «осветлять» жизнь, стало одно из самых дивных четверостиший А. С. Пушкина:
Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись!
В день уныния смирись:
День веселья, верь, настанет.
Сердце в будущем живет,
Настоящее уныло;
Все мгновенно, все пройдет;
Что пройдет, то будет мило.
(Пушкин, 1977б, с. 239)
Надежда, как известно, была верной спутницей творчества А. С. Пушкина на всем протяжении его жизни, опорой его «неподкупного голоса», ставшего воистину «эхом русского народа» (Пушкин, 1977а, c. 302). И он своей «чувствительной душой» человека и патриота не мог, конечно, не уловить глубинной связи, родственных корней между человеческими несчастьями, невзгодами страны и бедами родного народа, с одной стороны, и его надеждами на лучшую жизнь, с другой. «Несчастью верная сестра» – вот какой поэтический образ находит он для их сравнения в известном стихотворении «Во глубине сибирских руд», стремясь надеждой поддержать друзей в «минуты роковые», вселить в них силой этого чувства «бодрость и веселье» (Пушкин, 1977в, с.7). С юношеских лет поэт твердо верил сам и постоянно призывал друзей не сомневаться в том, что придет «желанная пора», когда над их отечеством взойдет, наконец, «звезда пленительного счастья». Именно эта вера вдохновляла и окрыляла всех патриотов России, кто любил и желал счастье своему народу и отчизне, как об этом проникновенно сказал П. А. Чаадаев: «Будущая Россия, ведь Тебя я только и любил всей душой».
Страной «пророческих предчувствий и ожиданий» называл Россию Н. А. Бердяев (1990б, с. 30), народ которой должен был, как писали русские поэты, сохранять «в сердце радостную веру средь кручины злой» (И будет вечен вольный труд…, 1988, с. 189), «силами мечты воссоздавать и дорисовывать» то, чего он не имеет в жизни (там же, с. 301). Н. В. Гоголю в русской народной песне слышалось «стремление унестись куда-то вместе со звуками, а не привязанность к жизни и ее предметам» (Гоголь, 1986, с. 321). И не случайно образ России как целого явился ему в образе бешено скачущей тройки, которая «мчится, вся вдохновенная Богом».
Е. Н. Трубецкой, размышляя над духовным смыслом древней русской иконописи, уникального вида искусства, справедливо увидел в ней не только выражение «беспредельной» и «бездонной глубины скорби существования», но и ту «великую радость», в которую претворяется скорбь; то и другое в ней нераздельны (Трубецкой, 1994, с. 277). «Но есть в этой иконописи и что-то другое, – заключает Е. Н. Трубецкой свои размышления, – что преисполняет душу бесконечной радостью, – это образ России обновленной, воскресшей и прославленной. Все в ней говорит о нашей народной надежде, о том высоком духовном подвиге, который вернул русскому человеку родину» (там же, с. 290).
Следует отметить, что чувство оптимизма и тесно связанная с ним потребность смысла жизни, которые на протяжении столетий удерживались и закладывались в генетическую память народа, помогая в очередной раз выдержать и устоять перед ударами судьбы, выйти обновленным из самых, казалось бы, безнадежных исторических ситуаций, с новой силой и на новой основе проявились в советские годы. С победой Октябрьской революции в стране, как известно, утвердилась коммунистическая идеология, оказавшаяся чрезвычайно созвучной вековым чаяниям и надеждам народа о построении общими усилиями и в обозримой перспективе общества всеобщего счастья и справедливости. Зерно упало на благодатную, давно подготовленную почву. В этом смысле Н. А. Бердяев справедливо говорил о коммунизме как продукте русского национального характера, которому свойственна мессианская идея освобождения человечества и спасения народов от завоевателей и что она не раз находила практическое воплощение в истории России. «Мессианская идея ортодоксального марксизма – освобождение всего человечества от эксплуатации через мировую революцию, – писал он в 1937 г., – это есть не что иное, как модификация русской мессианской идеи» (Бердяев, 1990в, с. 88).
И как бы ни относиться сегодня к коммунистической идеологии, как бы долго и много ни говорить о советских мифологемах, о «великих» иллюзиях прошлых десятилетий и умелом манипулировании общественным сознанием идеологами и руководителями КПСС, нельзя отрицать того бесспорного факта, что на протяжении целой исторической эпохи миллионы людей были воодушевлены этой коммунистической перспективой, проявляли массовый энтузиазм и самоотверженность в борьбе, как они искренне верили, за счастливое будущее своей Родины.
Вдохновенно и без нотки фальши написаны в 1950-е годы следующие строчки М. А. Светлова:
Да! Я принимаю участье
В широких шеренгах бойцов,
Чтоб в новое здание счастья
Вселить наконец-то жильцов.
(Светлов, 1983, с. 161)
Непоколебимый оптимизм и уверенность в правоте своего дела объясняет один из парадоксов советской действительности – почему в условиях отсутствия многих внешних факторов счастья, несмотря на лишения и тяготы повседневной жизни и даже, казалось, наперекор и вопреки им, большинство советских людей тем не менее чувствовали себя вполне счастливыми.
Да, у советских людей не было того материального достатка и уровня жизни, какой был уже в западных странах; да, были определенные ограничения и запреты в плане демократических свобод и прав человека; да, было еще немало такого, с чем трудно сегодня согласиться и безусловно одобрить. Но одновременно не было неуверенности и страха за свое будущее и будущее своих детей, не было разочарованности и безысходности, всеобщей растерянности и ожесточенности перед вседозволенностью и безответственностью власти, какие появились за последние десятилетия.
Напротив, были историческая перспектива, чувство великой Родины и сознание необходимости совместной борьбы и самоотверженного труда за общее благо. Для большинства советских людей это были необходимые составляющие их представлений о счастье. За годы перестройки и экономических реформ высокий смысл этих надличных или, точнее, «сверхличных» ценностей человеческой жизни оказался девальвированным, лишенным прежних значений. О них стало не принято публично высказываться, а если все же говорить, то как-то невнятно, с оговорками и извиняющимися интонациями.
Это более чем странно, поскольку на самом деле речь идет не о каких-то «пережитках социализма», не о чем-то сомнительном, исторически не выверенном, а о ментальных, всегда высоко чтимых в русской среде чувствах и понятиях. «Счастье Родины я ставлю на первый план», – эти гордые слова произнесены отнюдь не передовиком социалистического производства и членом КПСС, а русским генералом-эмигрантом А. И. Деникиным, человеком весьма далеким от идеологии и практики социализма, но имевшим мужество перед лицом смерти заявить немцам, что он служил и служит только России. И эти высокие слова в равной мере могли принадлежать каждому из поколений русских людей, выходцев из разных социальных слоев и эпох, начиная уже с того безвестного автора «Слова о погибели Русской земли», с такой подкупающей нежностью и беспримерностью для средневековой лексики выразившего свои патриотические чувства: «О, светло светлая и украсно украшена земля Русская» (см.: Георгиева, 1998, с. 42).
К сожалению, современное российское общество осталось без идеалов, вдохновляющих и духовно укрепляющих идей, способных придать смысл нашему национальному бытию и историческому существованию в мире. Демократические свободы и права человека, о которых так много говорилось и говорится в последние годы как о важнейших завоеваниях новой власти и проводимого курса реформ, мало чем могут помочь в этом плане. При всем огромном значении этих прав и свобод в становлении современной мировой цивилизации и гуманистического мышления практика их реализации в нашей стране, к сожалению, очень быстро обернулась многими негативными сторонами, что окончательно лишило их возможности претендовать на роль новой национальной идеологии. Опросы последних лет показывают, что в обществе нет большого энтузиазма и идеализации этих ценностей. Более того, все больше людей (по некоторым данным, не менее половины опрошенных) готовы даже поддержать введение цензуры в СМИ. И вообще наивно полагать, что на пороге третьего тысячелетия традиционные идеи буржуазного общества и западной цивилизации могут приобрести духовный смысл и центрирующий характер для народа, которому исторически только хлеба и зрелищ было всегда мало, а принципы «все продается – все покупается», «подешевле купить, подороже продать» и вовсе глубоко не симпатичными и чуждыми. «Не удавиться ли мне?» – думает Счастливцев, один из персонажей пьесы Островского «Лес», когда он на несколько дней оказывается в состоянии полного материального благополучия и сытости.
К тому же не следует забывать, что буржуазное общество само больно, больно давно и неизлечимо, и это осознали многие наши соотечественники – известные деятели культуры, ученые, представители духовной религиозной мысли и т. д., волею судеб оказавшиеся сразу после Октябрьской революции на Западе. В своих критических статьях, полных тревог и озабоченности за будущее вынужденно покинутой им Родины, они в то же время не обольщались «прелестями» западного образа жизни. «Мы знаем, – писал в 1930-е годы Г. П. Федотов, находясь во Франции, – что западная цивилизация тяжко больна; международные столкновения – лишь один из симптомов общего недуга. И по устранению их остается возможность социальных потрясений, моральных кризисов, духовных бурь. В конце концов, вопрос о спасении нашей культуры есть вопрос духа» (Федотов, 1992, с. 315).
Еще более жесткие позиции занимал в этом вопросе Н. А. Бердяев, называя капитализм самой антихристианской системой. В отличие от него, считал ученый, коммунизм по своей социально-экономической сущности может быть вполне согласован с христианским учением, а значит, и с русским православием. Вот почему, справедливо полагал он, «не защитникам капитализма обличать неправду коммунизма» (Бердяев, 1990в, с. 151).
Конечно, трудно предположить, чтобы в глубоко больном и духовно ослабленном обществе, какой видится сегодня Россия, мог быть большой процент удовлетворенных жизнью и счастливых людей. По данным разных опросов, этот процент действительно очень небольшой и колеблется от 3 % до 15 %. Обрести полноту и прочную основу счастья сейчас значительно труднее, чем раньше. Исследования показывают, что на уровне ценностных представлений – и молодежь тут не составляет исключения – советский человек был счастливее, чем россиянин сегодня (Сикевич, 1999, с. 92).
Заметное уменьшение за последние годы числа тех, кто счастлив и удовлетворен жизнью, совсем не означает, что сегодня стало меньше людей, желающих или мечтающих о счастье. Скорее, наоборот. Однако при неизменной и неослабевающей тяге к счастью произошло заметное изменение ценностного пространства счастья в представлениях россиян. Оно значительно сузилось и оказалось сконцентрированным на уровне «Я – моя семья – личные цели».
Ограниченность счастья рамками «Я – личная жизнь», что в принципе вполне естественно и объяснимо с позиций индивидуального сознания, тем не менее не представляется безупречным с позиций общественной нравственности, поскольку таит в себе опасность перерастания в такие формы жизни, когда собственное благополучие и довольство заслоняет все остальное, когда блокируются «души прекрасные порывы «(А. С. Пушкин) и многое из того, что определяет «вертикальную ось» (Н. А. Бердяев) человека, не позволяя строить собственное счастье на несчастии других. Конечно, такая опасность существовала всегда, в том числе и при социализме, но сегодня она стала особенно реальной и ощутимой. Как избежать ее? Как добиться того, чтобы сосредоточенность на личной жизни и личном благополучии не становилась некой ширмой, отгораживающей человека от всего остального мира, от проблем и жизненных затруднений других людей, от благополучия и процветания страны, в которой живешь и в которой родился? Вот главные вопросы, на которые сегодня трудно найти ответы каждому в отдельности, но которые должны быть, по крайней мере, сформулированы и осознаны обществом в числе важнейших и решаться общими усилиями.
К некоторым из поставленных вопросов, связанных с ценностными основаниями и представлениями о счастье в современном российском обществе, мы еще вернемся в следующих главах книги, в которых будут проанализированы материалы соответствующих эмпирических исследований.
Глава 2
Проблема счастья и удовлетворенности жизнью в современных психологических исследованиях
Исторически сложилось так, что разработка проблемы счастья в психологической науке началась с негативных его значений или с того, что З. Фрейд называл «нормальным несчастьем повседневности». На протяжении десятилетий в трудах ученых разных психотерапевтических ориентаций начиная с З. Фрейда наблюдался явный «перекос» в сторону рассмотрения и изучения отрицательных эмоций и депрессивных состояний человека, лежащих в основе внутренних конфликтов, неудовлетворенных влечений, противоречий между «желаемым» и «должным», «притязаниями» и «достижениями» и т. д.
На основе многолетних изысканий и эмпирических поисков этому направлению психологической науки удалось достаточно глубоко и всесторонне, хотя и на специфическом материале неврозов, изучить реальную картину человеческих несчастий, душевных конфликтов, разработать и предложить различные способы и специальные методики «выхода» из этих негативных состояний. Напротив, проблема положительных переживаний и позитивных проявлений человеческой психики, радости и счастья человеческой «повседневности» долгое время не была выделена психологами как специальный предмет исследования и конкретно не изучалась.
Подобный дисбаланс в психологических исследованиях счастья и несчастья отражал общую ситуацию, сложившуюся в науке в целом и прежде всего в философии на рубеже прошлых веков, когда в обществе был отмечен резкий рост пессимистических чувств и упаднических настроений. Вообще следует отметить, что научный интерес привлекала то одна, то другая составляющая парной категории счастья – несчастья, поэтому и развитие этих понятий не было параллельным и равномерным от эпохи к эпохе. Так, например, более ранние периоды человеческой истории термина «несчастье», по существу, не знали, и он является достоянием и особенностью современных языков. Древнегреческие философы говорили о счастье чаще всего в смысле идеала, а не характеристики жизни, поэтому они использовали слово «счастье», не акцентируя его альтернативного смысла. Как пишет В. Татаркевич, один из самых глубоких исследователей этой проблемы, еще в воззрениях мыслителей XVI в. счастье преобладало над несчастьем, а в XVII в. «чаши весов» уравновесились. В XVIII в. несчастье взяло вверх. «И, собственно, отношение к жизни, свойственное новому времени, – как пишет ученый, – проявилось только в XVIII веке» (120, с. 243).
«Взяв вверх» в XVIII в., тема несчастья со всем многообразием его проявлений в реальной жизни уже не сдает своих ведущих позиций ни в XIX в., ни тем более в первой половине XX в., причем не только в конкретных науках и философии, но и в искусстве, литературе, поэзии и т. д. Весьма примечательным для этой ориентации является следующее высказывание С. Кьеркегора, родоначальника экзистенциализма и философии жизни: «…счастлив тот, кто умер в старости; более счастлив тот, кто умер в молодости, еще счастливее тот, кто совсем не родился» (см.: Гайденко, 1970, с. 11).
Более того, пессимистический мотив, определяемый позицией «изначальной скорби бытия», вечности и исключительности человеческих страданий, становится определяющим началом не только в ряде известных философских учений (А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, Э. Гартмана, О. Шпенглера и др.), но получает распространение и в других науках, в том числе и в психологии.
В психологии эта деформация и односторонний подход в изучении человеческих форм жизни в пользу их негативных аспектов начинает исправляться только со второй половины ХХ в. под влиянием, прежде всего, работ гуманистически ориентированных психологов (А. Маслоу, Г. Олпорта, Э. Эриксона, К. Р. Роджерса, В. Франкла и др.).
Развитие гуманистической психологии определило появление в мировой науке новых исследовательских тем и направлений, к числу которых относится и проблема субъективного благополучия личности (Subjective Well-Being). Обращение к этой, первоначально широко сформулированной проблеме, включающей в себя не только понятие счастья (Happiness), удовлетворенности жизнью (Life Satisfaction), но и позитивно окрашенного самочувствия, положительной аффективности, психологического здоровья (Mental-Healt), моральности (Morale) в значении стойкости духа и т. д., было в известной мере «обратной реакцией» на психоаналитическую ориентированность мировой психологической науки, в которой преобладающее внимание уделялось изучению негативных аспектов психической жизни людей.
Существует прямая связь между исследованиями, посвященными психологии счастья и удовлетворенности жизнью, с одной стороны, и общесоциологической концепцией «качества жизни» (Quality of Life), с другой. Причем ведущее влияние первоначально исходило со стороны качества жизни. Как социологическая концепция была выдвинута и стала активно развиваться в 1960-е годы, прежде всего, учеными США применительно к новому, постындустриальному этапу социально-экономического развития своей страны. В структуре этой концепции важное значение придавалось понятию субъективного благополучия (Subjective Well-Being) личности, которое имело четко выраженный психологический смысл, связанный с понятиями счастья и удовлетворенности жизнью.
Как известно, концепция Quality of Life, которая наряду с другими модными социологическими теориями тех лет, например, общество «всеобщего благоденствия», «изобилия», «массового потребления» и т. д., отражающими новые тенденции развития западных стран, была резко отрицательно воспринята советским обществоведением. Она критиковалась прежде всего по идеологическим мотивам, поскольку, как тогда считалось, была «призвана в конечном счете «доказать» мнимые преимущества буржуазного образа жизни над социалистическим» (Попов, 1996, с. 150).