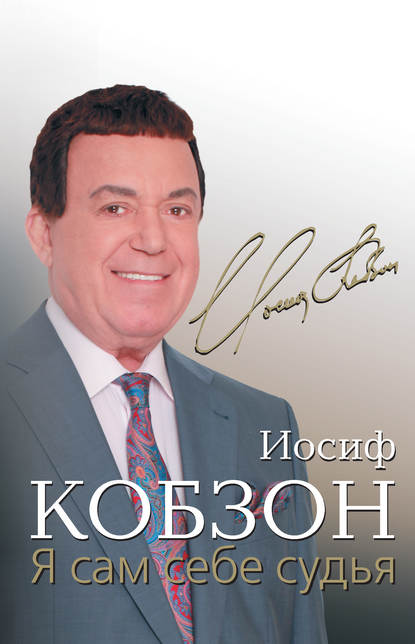По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Я сам себе судья
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Началась моя жизнь 11 сентября 1937 года. Смотрю я на эти, оказавшиеся для мира трагическими, цифры с высоты сегодняшнего дня. На календаре 2017 год! Смотрю и вспоминаю свое бедное, но все равно счастливое детство. Очень счастливое. Несмотря на то, что по нему прокатилась Великая Отечественная. Эта страшная война стала главным воспитателем моего поколения.
Родился я в небольшом городке. У нас их называют ПГТ – поселок городского типа. Меня часто спрашивают, не в честь ли Иосифа Виссарионовича меня Иосифом назвали? Ни в коем случае. В честь маминого дяди. Дядя Иосиф был адвокатом, и он очень помогал семье мамы, когда они осиротели.
Дальше семейные пути привели нашу семью во Львов. Перед самой войной, в 1940 году, мама стала там работать начальником спецотдела Обллеспромсоюза. Отец, Давид Кунович Кобзон, был служащим предприятия. Квартира наша находилась в доме напротив Дома офицеров, и оттуда часто доносилась музыка в исполнении духового оркестра. Но у нас была и «своя» музыка – патефон и несколько коробок с пластинками Лемешева, Руслановой, Шульженко… Я так любил их слушать.
Война
Я помню первый день войны, мне было три с половиной года. Мы в вокзальном помещении, полном народа. Благодаря маме, нас засунули в товарный вагон, дали уголочек на соломе.
На второй день после начала Великой Отечественной войны отец ушел на фронт, а мама с тремя детьми, со своим братом-инвалидом и со своей мамой, нашей бабушкой, отправилась в эвакуацию в Узбекистан. Конечным пунктом назначения оказался город Янгиюль.
Я, когда возвращаюсь к памяти детства, совершенно четко помню эту нашу эвакуацию. Помню этот вагон, переполненные станции. Я помню, как отстала мама… Она бегала за хлебом для нас и отстала от поезда. Помню, как все мы – и бабушка, и дядя, и братья, и я, как самый младший, – были в панике: пропала мама! А у нас всегда вся надежда была на маму. Но мама через три дня догнала нас «на перекладных» на какой-то станции. Так мы попали в Узбекистан, в город Янгиюль, в пятнадцати километрах от Ташкента.
Я с большой теплотой вспоминаю этот гостеприимный край. Мы жили в узбекской семье, в глиняном домике с земляными полами. Хозяева делились с нами всем. Конечно, жили впроголодь. Хлеб берегли пуще золота. Я по сей день ловлю себя на мысли, что не могу выбросить даже корочки. С тех пор я больше всех продуктов люблю хлеб.
Мы все жили в одной комнате. Наши семьи разделяла только занавеска. Когда устраивались на ночлег, выкладывались тюфяки, и все ложились, что называется, штабелями. Так жили с 1941 по 1944 годы. Каждое утро взрослые поднимались на работу. Поднимали и нас, детей, чтобы покормить… Кормили в основном какой-то тюрей… И так, чтобы сытно было весь день. Варился так называемый суп. Мама моя была в этом деле находчивая женщина. Хозяйка. Она делала еду, казалось, из ничего. Все съедобное шло в ход: картофельные очистки, щавель, просто зеленые листья или какая-то кусачая лечебная трава, которую так любят есть собаки и кошки, когда им не хватает витаминов или нападает какая-нибудь болезнь. Этого наваристого бульона хватало всей семье на неделю. Каждый раз после завтрака кастрюлю с «тюрей» спускали в погреб. Потом поднимали, разогревали на керосинке, и мы обедали. Разносолов не было.
Иногда мама для бульона покупала свиную голову и свиные ножки. Вываривала их, и получался жирный бульон. Чистые, золотистые капельки жира в нем были такие, что текли слюни. Бульона хватало на всю выварку. А выварка была большая, алюминиевая. К субботе в этой же огромной выварке нас, детей, мыли по очереди. Потом в ней же кипятилось белье, чтобы избавиться от всяких насекомых.
Хлеба, по сути, не было. Лишь иногда нас, детей, баловали узбекскими лепешками. Но, в основном, заедали мы всю эту тюрю жмыхом. Мы жили рядом с забором маслобойного завода. И вот там нам удавалось разжиться жмыхом, который делался из отходов семечек подсолнечника. Пахучий, до приятного головокружения, и такой твердый, что его можно было грызть бесконечно. Этот жмых был главным детским лакомством. Смешиваясь со слюной, он насыщал наши вечно желавшие есть желудки. А еще мы насыщались смолой, обыкновенной черной смолой. Мы жевали ее целыми днями. Ходили и жевали. Это была наша жвачка, наше лакомство военной поры. Жестокое время, что поделаешь…
Покормив, взрослые выгоняли нас гулять на улицу. И весь день мы проводили на улице. Гоняли с мальчишками по ней босиком, устраивая обычные пацанские игры, так что моим детским садом была улица. Не сказать, чтобы я тогда всегда был заводилой, но всегда руководил всем, как командир. Конечно, дрались. Но очень быстро мирились. И тем самым учились не держать друг на друга зла. Потрясающе добрый и гостеприимный узбекский народ останется в моей памяти навсегда.
Чтобы заработать денег, мама варила конфеты. Готовые конфеты пересчитывали и укладывали на «досточки». Эти «досточки» с лакомством висели в нашей комнате на веревках достаточно высоко. Но мы, дети, ночью потихоньку вставали и их облизывали. А утром мама, ни о чем не подозревая, везла эти конфеты продавать на рынке.
Потом жить стало немножечко легче: мама начала работать начальником политотдела совхоза. До этого, на Украине, еще с Часова Яра она работала судьей. Это удивительно, но она стала судьей в двадцать два года, окончив до этого Харьковский юридический институт. Ей даже для этого пришлось немного «подправить» свой возраст (на самом деле, она была 1910 года рождения). Она была комсомолкой, ходила в красной косынке и дела вела всегда очень справедливо.
А теперь мы с братьями, как могли, помогали ей. Бегали на базар продавать холодную воду. С кружками. «Купи воду! Купи воду!» – наперебой кричали мальчишки. И в жару, под палящим узбекским солнцем, ее охотно покупали. Правда, за какие-то копейки. Конечно, мы зарабатывали мало, но все до копейки честно относили маме. Однако и это помогало нам жить. И мы выживали и… выжили.
Нас у мамы росло трое мальчишек. Не могу сказать, что она была ласковой и доброй, скорее – достаточно жесткой женщиной. Растила-то мальчишек. Потом нас стало четверо, Гела – единственная девочка – родилась уже после войны. Мама не только нас вырастила и воспитала, но и дала всем образование.
Два маминых брата – Борис и Михаил – не вернулись с фронта, пропали без вести. В 1943 году наш отец был сильно контужен и после лечения демобилизован. Однако к родным он не вернулся. В госпитале судьба свела его с одной женщиной, звали ее Тамара Даниловна. Прекрасная такая дама, педагог. Короче, у отца образовалась новая семья, и он навсегда остался в Москве.
Как только Донбасс освободили от немцев (в сентябре 1943 года), мы тут же вернулись на Украину и поселились в городе Славянске. Жили в семье погибшего маминого брата Михаила, у жены его, у тети Таси, доброй русской женщины с двумя сыновьями.
У нас на всех было полторы комнаты. Полкомнаты занимала родительская спальня, а на другой половине мы все спали вповалку. Я очень любил спать на полу: на улице за целый день так нагоняешься, что придешь грязный, шлепнешься на пол и спишь, как убитый.
До 1945 года мы прожили у тети Таси. Там же, в Славянске, мы встретили День Победы. Как сейчас помню, 9 мая 1945 года. Я проснулся от жуткого крика в нашей коммуналке. А я знал, что такое крики в коммуналке, когда приходили похоронки. Но тут, открыв глаза, я увидел, что люди улыбаются, обнимаются и плачут одновременно. Я спросил у мамы: «Что случилось?» Она говорит: «Победа, сынок!»
Потом мы переехали в Краматорск, и мама устроилась работать адвокатом в Краматорской юридической консультации. Она была опытным юристом, очень аккуратным и ответственным, и потом долгие годы, даже уже в Москве, люди обращались к ней за советом. Более того, наш родственник, дядя Самуил, тоже адвокат, потом вел дело по наследству в Америке, и он обращался за советом к маме, и они выиграли это дело, хотя мама явно не знала международного права.
Там же, в Краматорске, я пошел в школу. Все легло на мамины плечи. Бедная мама моя. Досталось ей горя! Но она все выдержала.
Послевоенный период
В Краматорске я пошел в первый класс мужской средней школы № 6, где проучился до шестого класса. Город был разрушен войной – отсутствовало отопление, у нас не было тетрадей, мы писали на обрывках бумаги, на газетах.
Как сейчас помню, конец 1945-го… Странным образом тогда мы учились: когда нужно было писать, худющие, но горячие, отогревали мы под рубашками чернильницы с замерзшими чернилами и писали между строк на газетах. Чтобы не стучать от холода зубами, сжимали губы. В классах стоял мороз, но не в силах он был заморозить наши души, которые после Победы горели такими страстями и такими мечтами, что казалось ничто на свете не сможет их погасить. Все это было. И я помню это. Помню! Я хорошо это помню… 6-я мужская средняя школа… Быков Леня, будущий знаменитый Максим Перепелица, учился в моей школе. Был он старше меня на два года. Но только позже мы обнаружили, что мы из одной школы!
Детство-то у меня было голоштанное. Я донашивал одежду за старшими братьями, и это было нормально. Лишь иногда мама покупала какую-нибудь шмоточку именно мне. На Новый год на елке красовалась всего одна мандаринка! Мы не спали всю ночь, несли вахту у елки, чтобы никто не соблазнился раньше времени и эту мандаринку не съел. Утром мама делила ее на дольки и раздавала детям. Такая вот появилась новогодняя традиция…
Первое пирожное в жизни я съел 7 ноября 1945 года. После демонстрации всем ученикам выдали по пирожному. Это был кусочек черного хлеба, на котором лежала конфета «сахарная подушечка». Хлеб я надкусил, полизал подушечку, и все отнес домой, поделиться с братьями, чтобы они тоже попробовали. Я им разрешал только лизать эту конфету, чтобы они почувствовали сладкий вкус. Такая была жизнь.
Меня вот спрашивают: а вас в детстве дразнили или еще как-то делали вам плохо? Отвечаю: меня очень тяжело было обидеть, потому что я был таким, что мог за себя постоять. Говорят: это значит, если что – сразу в ухо или по зубам? Отвечаю: не так, чтобы сразу по зубам, но, во всяком случае, особых вольностей по отношению к себе я не допускал. У меня были дружки, с которыми я был, как три мушкетера: один за всех и все за одного. И в школе, и в пионерском лагере я всегда был первым. Так что ни у кого не появлялось желания сделать мне какую-то гадость.
Меня воспитала улица. К счастью, не злая. Я умел себя защищать, всегда был лидером, лучшим учеником в школе и никогда не обижал тех, кто слабее. Сколько себя помню – я всегда пел: во дворе, в художественной самодеятельности в школе.
А как мы проводили время? После школы – уроки, после уроков – улица. Гоняли матерчатый мяч – кусок маминого чулка, набитый тряпками. Дрались, но только не кастетами, не ножами и не исподтишка. Если возникали конфликты – стенка на стенку, до первой крови.
Ничуть не жалею о своей молодости и о своем прошлом. Журналисты часто задают такой вопрос: «Не хотелось бы сегодня снова начать сначала, в этой жизни?» Я всегда отвечаю «нет». Я прошел непростой путь, но создал свою биографию, мне ничего не страшно.
В 1946 году мама встретила по-настоящему хорошего человека – Моисея Моисеевича Рапопорта, 1905 года рождения. Она повторно вышла замуж. Он был фронтовиком, участвовал в страшной Сталинградской битве, и поседел там за один день. У него жена погибла в 1943 году, и осталось двое сыновей – так у меня появились два сводных брата. А вскоре, в 1948 году, к нам в семью пришла радость – появилась сестричка Гела. После этого она стала маминой любимицей.
Язык не поворачивается назвать Моисея Моисеевича отчимом. Я с гордостью звал его Батя, и я никогда не ощущал разницу в его отношении к «своим» и «не своим» детям. Абсолютно.
До войны он окончил торговое училище. С войны вернулся в возрасте сорока лет в звании подполковника (это значит, что хорошо воевал, ведь без военного образования такое звание присваивали редко). Работал очень трудно, с утра до ночи трудился, для того, чтобы нас прокормить. Я хорошо помню те годы. Мы небогато жили, но у Бати всегда была чистая выходная рубашка и пиджак, который он надевал, когда мы шли в гости. Мы все до конца дней безумно любили его. А он рано ушел из жизни, в 1970 году. Не хватило здоровья у бывшего фронтовика, чтобы жить. Воевать всю войну – хватило, а вот жить – не-а… Уже 47 лет нет его. Но во мне он по-прежнему… есть! Батя. Мой Батя!
Выступления перед товарищем Сталиным
Все когда-то происходит впервые. Мою первую учительницу звали Полина Никифоровна. Хороший человек. Как звать – помню. Навсегда помню. А вот фамилию забыл. У нее я научился писать и читать, рисовать и считать только на «пять».
А вот петь, пожалуй, научился сперва от мамы, а потом уже продолжил на уроках пения и в кружке художественной самодеятельности.
Тогда ведь никаких развлечений не было: ни дискотек, ни магнитофонов, ни телевизоров. Мама очень любила петь романсы и украинские песни. У нас стоял патефон и было множество пластинок. Мама пела, а я ей любил подпевать. Мы садились вечерами, зажигали керосиновую лампу и пели «Дивлюсь я на небо – та й думку гадаю: чому я не сокил, чому не литаю?…» Нравилась маме эта песня. И вообще волшебное было время. Керосин стоил дорого, его берегли и лампу зажигали, только когда на улице совсем темнело. Нас загоняли домой, и я с нетерпением ждал момента, когда мы с мамой начнем петь…
Это было какое-то завораживающее действо и зрелище. Тоску сменяла радость, слезы – веселье, когда пела свои любимые песни мама. И, вероятно, именно тогда я навсегда «отравился» пением. Песни стали моими «наркотиками».
Я пел в школе, пел со школьным хором на сцене городского ДК. Тогда не было смотров, конкурсов – были художественные олимпиады. И в десять лет я, как представитель Краматорска одержал первую победу на Всеукраинской олимпиаде художественной самодеятельности школьников, заслужив свою первую награду – поездку в Москву на ВДНХ СССР. И там мне удалось выступить перед моим знаменитым тезкой.
Дело в том, что на нашем концерте в Кремле присутствовал сам товарищ Сталин. Я пел песню Матвея Блантера «Летят перелетные птицы».
Короче, я впервые оказался в 1946 году в Кремлевском театре… Да-да, никакого Кремлевского дворца и киноконцертного зала «Россия» еще не было – только Колонный зал Дома Союзов. Он самым престижным считался, плюс два камерных, как и по сей день, – зал Чайковского и Большой зал Консерватории. Закрытый Кремлевский театр находился в здании у Спасской башни: как заходишь, сразу с правой стороны. И вот режиссер собрал нас всех там и сказал: «Сейчас начнем репетировать. Учтите: на концерте – строжайшая дисциплина, выпускать вас будут из комнаты только за один номер до выхода на сцену».
И мы все знали, что Иосиф Виссарионович Сталин может оказаться в зале. Нас предупредили: если вождь будет присутствовать, то любопытствовать и разглядывать его не надо. Мне так и сказали: «На Сталина не смотри». Но это все равно что верующему приказать «не крестись», когда перед тобой храм или священник. Возможности присмотреться, однако, у меня не было: только спел песню «Летят перелетные птицы» – и за кулисы, а там мне сразу велели: марш в комнату!
На следующий день нас провели по музеям, показали Москву, покормили, посадили в поезд и отправили домой.
А второй раз я предстал перед Сталиным уже в 1948 году. Опять-таки как победитель республиканской олимпиады я выступал в том же Кремлевском театре, и та же картина: ничего нового, только песня Блантера другая уже была – «Пшеница золотая». Я в белой рубашечке с красным галстуком вышел…
На сей раз я Сталина разглядел, потому что нас небольшое расстояние разделяло, но с перепугу – бросил молниеносный взгляд и сразу перевел его в зал. Как сейчас помню: с улыбкой на лице он сидел в ложе с правой, если со сцены смотреть, стороны и мне аплодировал. Рядом с ним сидели Молотов, Ворошилов, Булганин. Берии и Маленкова не было. Я видел Сталина только со сцены, когда пел. Ложа находилась метрах в десяти от меня.
Когда нам сказали, что будет Сталин, мы испугались выступать. Не потому, что боялись Сталина, а опасались, что, как увидим его, так язык, ноги и руки перестанут слушаться, и мы вообще выступать не сможем. Тогда не было принято записывать фонограммы, как это делается сейчас по принципу «как бы чего не вышло», чтобы, не дай Бог, что-то непредвиденное не произошло при президенте, на случай, если кто-то слова забудет или, что еще хуже, что-то лишнее скажет… Тогда, слава Богу, было другое время. Все должно было быть настоящим. И поэтому мы, чтобы не ударить в грязь лицом, все тщательным образом репетировали. Прогон концерта шел по нескольку раз, но мы все равно жутко волновались…
Я пел, и Сталин слушал меня. Я не смог долго смотреть на него, хотя очень хотелось. Помню, успел разглядеть, что был он в сером кителе. Я спел и поклонился, как видел кланяются в кино любимому царю. И поклонился уважаемой публике. Я спел и имел большой успех. Спел и на ватных детских ногах ушел за кулисы. Спел самому Сталину!
Так начиналась моя певческая карьера. Я был еще маленький и толком не понимал, что такое «вождь всех народов». Его звали Иосиф. И меня мама моя назвала Иосифом. Я думаю, остальным выступавшим, кто был постарше, было намного сложнее. К сожалению, в подробностях я не помню, как реагировал на мое выступление Сталин. Поскольку не помню, не хочу рассказывать, что он кричал «браво», поддерживая нескончаемые аплодисменты, или одобрительно улыбался мне… Сейчас я бы мог сказать, что угодно, но не хочу соврать.
А вот хорошо помню, как за год до этого, приезжая в Москву, тоже на смотр художественной самодеятельности, я 1 мая на Красной площади участвовал со всеми в демонстрации перед Мавзолеем. Помню, как все мы с восхищением смотрели на руководителей партии и правительства, которые организовывали и вдохновляли великую победу над фашизмом, и особенно во все глаза глядели мы на нашего героического, но такого простого вождя. Все это я хорошо помню. И еще навсегда остался в памяти салатового цвета занавес в Кремлевском театре.
Родился я в небольшом городке. У нас их называют ПГТ – поселок городского типа. Меня часто спрашивают, не в честь ли Иосифа Виссарионовича меня Иосифом назвали? Ни в коем случае. В честь маминого дяди. Дядя Иосиф был адвокатом, и он очень помогал семье мамы, когда они осиротели.
Дальше семейные пути привели нашу семью во Львов. Перед самой войной, в 1940 году, мама стала там работать начальником спецотдела Обллеспромсоюза. Отец, Давид Кунович Кобзон, был служащим предприятия. Квартира наша находилась в доме напротив Дома офицеров, и оттуда часто доносилась музыка в исполнении духового оркестра. Но у нас была и «своя» музыка – патефон и несколько коробок с пластинками Лемешева, Руслановой, Шульженко… Я так любил их слушать.
Война
Я помню первый день войны, мне было три с половиной года. Мы в вокзальном помещении, полном народа. Благодаря маме, нас засунули в товарный вагон, дали уголочек на соломе.
На второй день после начала Великой Отечественной войны отец ушел на фронт, а мама с тремя детьми, со своим братом-инвалидом и со своей мамой, нашей бабушкой, отправилась в эвакуацию в Узбекистан. Конечным пунктом назначения оказался город Янгиюль.
Я, когда возвращаюсь к памяти детства, совершенно четко помню эту нашу эвакуацию. Помню этот вагон, переполненные станции. Я помню, как отстала мама… Она бегала за хлебом для нас и отстала от поезда. Помню, как все мы – и бабушка, и дядя, и братья, и я, как самый младший, – были в панике: пропала мама! А у нас всегда вся надежда была на маму. Но мама через три дня догнала нас «на перекладных» на какой-то станции. Так мы попали в Узбекистан, в город Янгиюль, в пятнадцати километрах от Ташкента.
Я с большой теплотой вспоминаю этот гостеприимный край. Мы жили в узбекской семье, в глиняном домике с земляными полами. Хозяева делились с нами всем. Конечно, жили впроголодь. Хлеб берегли пуще золота. Я по сей день ловлю себя на мысли, что не могу выбросить даже корочки. С тех пор я больше всех продуктов люблю хлеб.
Мы все жили в одной комнате. Наши семьи разделяла только занавеска. Когда устраивались на ночлег, выкладывались тюфяки, и все ложились, что называется, штабелями. Так жили с 1941 по 1944 годы. Каждое утро взрослые поднимались на работу. Поднимали и нас, детей, чтобы покормить… Кормили в основном какой-то тюрей… И так, чтобы сытно было весь день. Варился так называемый суп. Мама моя была в этом деле находчивая женщина. Хозяйка. Она делала еду, казалось, из ничего. Все съедобное шло в ход: картофельные очистки, щавель, просто зеленые листья или какая-то кусачая лечебная трава, которую так любят есть собаки и кошки, когда им не хватает витаминов или нападает какая-нибудь болезнь. Этого наваристого бульона хватало всей семье на неделю. Каждый раз после завтрака кастрюлю с «тюрей» спускали в погреб. Потом поднимали, разогревали на керосинке, и мы обедали. Разносолов не было.
Иногда мама для бульона покупала свиную голову и свиные ножки. Вываривала их, и получался жирный бульон. Чистые, золотистые капельки жира в нем были такие, что текли слюни. Бульона хватало на всю выварку. А выварка была большая, алюминиевая. К субботе в этой же огромной выварке нас, детей, мыли по очереди. Потом в ней же кипятилось белье, чтобы избавиться от всяких насекомых.
Хлеба, по сути, не было. Лишь иногда нас, детей, баловали узбекскими лепешками. Но, в основном, заедали мы всю эту тюрю жмыхом. Мы жили рядом с забором маслобойного завода. И вот там нам удавалось разжиться жмыхом, который делался из отходов семечек подсолнечника. Пахучий, до приятного головокружения, и такой твердый, что его можно было грызть бесконечно. Этот жмых был главным детским лакомством. Смешиваясь со слюной, он насыщал наши вечно желавшие есть желудки. А еще мы насыщались смолой, обыкновенной черной смолой. Мы жевали ее целыми днями. Ходили и жевали. Это была наша жвачка, наше лакомство военной поры. Жестокое время, что поделаешь…
Покормив, взрослые выгоняли нас гулять на улицу. И весь день мы проводили на улице. Гоняли с мальчишками по ней босиком, устраивая обычные пацанские игры, так что моим детским садом была улица. Не сказать, чтобы я тогда всегда был заводилой, но всегда руководил всем, как командир. Конечно, дрались. Но очень быстро мирились. И тем самым учились не держать друг на друга зла. Потрясающе добрый и гостеприимный узбекский народ останется в моей памяти навсегда.
Чтобы заработать денег, мама варила конфеты. Готовые конфеты пересчитывали и укладывали на «досточки». Эти «досточки» с лакомством висели в нашей комнате на веревках достаточно высоко. Но мы, дети, ночью потихоньку вставали и их облизывали. А утром мама, ни о чем не подозревая, везла эти конфеты продавать на рынке.
Потом жить стало немножечко легче: мама начала работать начальником политотдела совхоза. До этого, на Украине, еще с Часова Яра она работала судьей. Это удивительно, но она стала судьей в двадцать два года, окончив до этого Харьковский юридический институт. Ей даже для этого пришлось немного «подправить» свой возраст (на самом деле, она была 1910 года рождения). Она была комсомолкой, ходила в красной косынке и дела вела всегда очень справедливо.
А теперь мы с братьями, как могли, помогали ей. Бегали на базар продавать холодную воду. С кружками. «Купи воду! Купи воду!» – наперебой кричали мальчишки. И в жару, под палящим узбекским солнцем, ее охотно покупали. Правда, за какие-то копейки. Конечно, мы зарабатывали мало, но все до копейки честно относили маме. Однако и это помогало нам жить. И мы выживали и… выжили.
Нас у мамы росло трое мальчишек. Не могу сказать, что она была ласковой и доброй, скорее – достаточно жесткой женщиной. Растила-то мальчишек. Потом нас стало четверо, Гела – единственная девочка – родилась уже после войны. Мама не только нас вырастила и воспитала, но и дала всем образование.
Два маминых брата – Борис и Михаил – не вернулись с фронта, пропали без вести. В 1943 году наш отец был сильно контужен и после лечения демобилизован. Однако к родным он не вернулся. В госпитале судьба свела его с одной женщиной, звали ее Тамара Даниловна. Прекрасная такая дама, педагог. Короче, у отца образовалась новая семья, и он навсегда остался в Москве.
Как только Донбасс освободили от немцев (в сентябре 1943 года), мы тут же вернулись на Украину и поселились в городе Славянске. Жили в семье погибшего маминого брата Михаила, у жены его, у тети Таси, доброй русской женщины с двумя сыновьями.
У нас на всех было полторы комнаты. Полкомнаты занимала родительская спальня, а на другой половине мы все спали вповалку. Я очень любил спать на полу: на улице за целый день так нагоняешься, что придешь грязный, шлепнешься на пол и спишь, как убитый.
До 1945 года мы прожили у тети Таси. Там же, в Славянске, мы встретили День Победы. Как сейчас помню, 9 мая 1945 года. Я проснулся от жуткого крика в нашей коммуналке. А я знал, что такое крики в коммуналке, когда приходили похоронки. Но тут, открыв глаза, я увидел, что люди улыбаются, обнимаются и плачут одновременно. Я спросил у мамы: «Что случилось?» Она говорит: «Победа, сынок!»
Потом мы переехали в Краматорск, и мама устроилась работать адвокатом в Краматорской юридической консультации. Она была опытным юристом, очень аккуратным и ответственным, и потом долгие годы, даже уже в Москве, люди обращались к ней за советом. Более того, наш родственник, дядя Самуил, тоже адвокат, потом вел дело по наследству в Америке, и он обращался за советом к маме, и они выиграли это дело, хотя мама явно не знала международного права.
Там же, в Краматорске, я пошел в школу. Все легло на мамины плечи. Бедная мама моя. Досталось ей горя! Но она все выдержала.
Послевоенный период
В Краматорске я пошел в первый класс мужской средней школы № 6, где проучился до шестого класса. Город был разрушен войной – отсутствовало отопление, у нас не было тетрадей, мы писали на обрывках бумаги, на газетах.
Как сейчас помню, конец 1945-го… Странным образом тогда мы учились: когда нужно было писать, худющие, но горячие, отогревали мы под рубашками чернильницы с замерзшими чернилами и писали между строк на газетах. Чтобы не стучать от холода зубами, сжимали губы. В классах стоял мороз, но не в силах он был заморозить наши души, которые после Победы горели такими страстями и такими мечтами, что казалось ничто на свете не сможет их погасить. Все это было. И я помню это. Помню! Я хорошо это помню… 6-я мужская средняя школа… Быков Леня, будущий знаменитый Максим Перепелица, учился в моей школе. Был он старше меня на два года. Но только позже мы обнаружили, что мы из одной школы!
Детство-то у меня было голоштанное. Я донашивал одежду за старшими братьями, и это было нормально. Лишь иногда мама покупала какую-нибудь шмоточку именно мне. На Новый год на елке красовалась всего одна мандаринка! Мы не спали всю ночь, несли вахту у елки, чтобы никто не соблазнился раньше времени и эту мандаринку не съел. Утром мама делила ее на дольки и раздавала детям. Такая вот появилась новогодняя традиция…
Первое пирожное в жизни я съел 7 ноября 1945 года. После демонстрации всем ученикам выдали по пирожному. Это был кусочек черного хлеба, на котором лежала конфета «сахарная подушечка». Хлеб я надкусил, полизал подушечку, и все отнес домой, поделиться с братьями, чтобы они тоже попробовали. Я им разрешал только лизать эту конфету, чтобы они почувствовали сладкий вкус. Такая была жизнь.
Меня вот спрашивают: а вас в детстве дразнили или еще как-то делали вам плохо? Отвечаю: меня очень тяжело было обидеть, потому что я был таким, что мог за себя постоять. Говорят: это значит, если что – сразу в ухо или по зубам? Отвечаю: не так, чтобы сразу по зубам, но, во всяком случае, особых вольностей по отношению к себе я не допускал. У меня были дружки, с которыми я был, как три мушкетера: один за всех и все за одного. И в школе, и в пионерском лагере я всегда был первым. Так что ни у кого не появлялось желания сделать мне какую-то гадость.
Меня воспитала улица. К счастью, не злая. Я умел себя защищать, всегда был лидером, лучшим учеником в школе и никогда не обижал тех, кто слабее. Сколько себя помню – я всегда пел: во дворе, в художественной самодеятельности в школе.
А как мы проводили время? После школы – уроки, после уроков – улица. Гоняли матерчатый мяч – кусок маминого чулка, набитый тряпками. Дрались, но только не кастетами, не ножами и не исподтишка. Если возникали конфликты – стенка на стенку, до первой крови.
Ничуть не жалею о своей молодости и о своем прошлом. Журналисты часто задают такой вопрос: «Не хотелось бы сегодня снова начать сначала, в этой жизни?» Я всегда отвечаю «нет». Я прошел непростой путь, но создал свою биографию, мне ничего не страшно.
В 1946 году мама встретила по-настоящему хорошего человека – Моисея Моисеевича Рапопорта, 1905 года рождения. Она повторно вышла замуж. Он был фронтовиком, участвовал в страшной Сталинградской битве, и поседел там за один день. У него жена погибла в 1943 году, и осталось двое сыновей – так у меня появились два сводных брата. А вскоре, в 1948 году, к нам в семью пришла радость – появилась сестричка Гела. После этого она стала маминой любимицей.
Язык не поворачивается назвать Моисея Моисеевича отчимом. Я с гордостью звал его Батя, и я никогда не ощущал разницу в его отношении к «своим» и «не своим» детям. Абсолютно.
До войны он окончил торговое училище. С войны вернулся в возрасте сорока лет в звании подполковника (это значит, что хорошо воевал, ведь без военного образования такое звание присваивали редко). Работал очень трудно, с утра до ночи трудился, для того, чтобы нас прокормить. Я хорошо помню те годы. Мы небогато жили, но у Бати всегда была чистая выходная рубашка и пиджак, который он надевал, когда мы шли в гости. Мы все до конца дней безумно любили его. А он рано ушел из жизни, в 1970 году. Не хватило здоровья у бывшего фронтовика, чтобы жить. Воевать всю войну – хватило, а вот жить – не-а… Уже 47 лет нет его. Но во мне он по-прежнему… есть! Батя. Мой Батя!
Выступления перед товарищем Сталиным
Все когда-то происходит впервые. Мою первую учительницу звали Полина Никифоровна. Хороший человек. Как звать – помню. Навсегда помню. А вот фамилию забыл. У нее я научился писать и читать, рисовать и считать только на «пять».
А вот петь, пожалуй, научился сперва от мамы, а потом уже продолжил на уроках пения и в кружке художественной самодеятельности.
Тогда ведь никаких развлечений не было: ни дискотек, ни магнитофонов, ни телевизоров. Мама очень любила петь романсы и украинские песни. У нас стоял патефон и было множество пластинок. Мама пела, а я ей любил подпевать. Мы садились вечерами, зажигали керосиновую лампу и пели «Дивлюсь я на небо – та й думку гадаю: чому я не сокил, чому не литаю?…» Нравилась маме эта песня. И вообще волшебное было время. Керосин стоил дорого, его берегли и лампу зажигали, только когда на улице совсем темнело. Нас загоняли домой, и я с нетерпением ждал момента, когда мы с мамой начнем петь…
Это было какое-то завораживающее действо и зрелище. Тоску сменяла радость, слезы – веселье, когда пела свои любимые песни мама. И, вероятно, именно тогда я навсегда «отравился» пением. Песни стали моими «наркотиками».
Я пел в школе, пел со школьным хором на сцене городского ДК. Тогда не было смотров, конкурсов – были художественные олимпиады. И в десять лет я, как представитель Краматорска одержал первую победу на Всеукраинской олимпиаде художественной самодеятельности школьников, заслужив свою первую награду – поездку в Москву на ВДНХ СССР. И там мне удалось выступить перед моим знаменитым тезкой.
Дело в том, что на нашем концерте в Кремле присутствовал сам товарищ Сталин. Я пел песню Матвея Блантера «Летят перелетные птицы».
Короче, я впервые оказался в 1946 году в Кремлевском театре… Да-да, никакого Кремлевского дворца и киноконцертного зала «Россия» еще не было – только Колонный зал Дома Союзов. Он самым престижным считался, плюс два камерных, как и по сей день, – зал Чайковского и Большой зал Консерватории. Закрытый Кремлевский театр находился в здании у Спасской башни: как заходишь, сразу с правой стороны. И вот режиссер собрал нас всех там и сказал: «Сейчас начнем репетировать. Учтите: на концерте – строжайшая дисциплина, выпускать вас будут из комнаты только за один номер до выхода на сцену».
И мы все знали, что Иосиф Виссарионович Сталин может оказаться в зале. Нас предупредили: если вождь будет присутствовать, то любопытствовать и разглядывать его не надо. Мне так и сказали: «На Сталина не смотри». Но это все равно что верующему приказать «не крестись», когда перед тобой храм или священник. Возможности присмотреться, однако, у меня не было: только спел песню «Летят перелетные птицы» – и за кулисы, а там мне сразу велели: марш в комнату!
На следующий день нас провели по музеям, показали Москву, покормили, посадили в поезд и отправили домой.
А второй раз я предстал перед Сталиным уже в 1948 году. Опять-таки как победитель республиканской олимпиады я выступал в том же Кремлевском театре, и та же картина: ничего нового, только песня Блантера другая уже была – «Пшеница золотая». Я в белой рубашечке с красным галстуком вышел…
На сей раз я Сталина разглядел, потому что нас небольшое расстояние разделяло, но с перепугу – бросил молниеносный взгляд и сразу перевел его в зал. Как сейчас помню: с улыбкой на лице он сидел в ложе с правой, если со сцены смотреть, стороны и мне аплодировал. Рядом с ним сидели Молотов, Ворошилов, Булганин. Берии и Маленкова не было. Я видел Сталина только со сцены, когда пел. Ложа находилась метрах в десяти от меня.
Когда нам сказали, что будет Сталин, мы испугались выступать. Не потому, что боялись Сталина, а опасались, что, как увидим его, так язык, ноги и руки перестанут слушаться, и мы вообще выступать не сможем. Тогда не было принято записывать фонограммы, как это делается сейчас по принципу «как бы чего не вышло», чтобы, не дай Бог, что-то непредвиденное не произошло при президенте, на случай, если кто-то слова забудет или, что еще хуже, что-то лишнее скажет… Тогда, слава Богу, было другое время. Все должно было быть настоящим. И поэтому мы, чтобы не ударить в грязь лицом, все тщательным образом репетировали. Прогон концерта шел по нескольку раз, но мы все равно жутко волновались…
Я пел, и Сталин слушал меня. Я не смог долго смотреть на него, хотя очень хотелось. Помню, успел разглядеть, что был он в сером кителе. Я спел и поклонился, как видел кланяются в кино любимому царю. И поклонился уважаемой публике. Я спел и имел большой успех. Спел и на ватных детских ногах ушел за кулисы. Спел самому Сталину!
Так начиналась моя певческая карьера. Я был еще маленький и толком не понимал, что такое «вождь всех народов». Его звали Иосиф. И меня мама моя назвала Иосифом. Я думаю, остальным выступавшим, кто был постарше, было намного сложнее. К сожалению, в подробностях я не помню, как реагировал на мое выступление Сталин. Поскольку не помню, не хочу рассказывать, что он кричал «браво», поддерживая нескончаемые аплодисменты, или одобрительно улыбался мне… Сейчас я бы мог сказать, что угодно, но не хочу соврать.
А вот хорошо помню, как за год до этого, приезжая в Москву, тоже на смотр художественной самодеятельности, я 1 мая на Красной площади участвовал со всеми в демонстрации перед Мавзолеем. Помню, как все мы с восхищением смотрели на руководителей партии и правительства, которые организовывали и вдохновляли великую победу над фашизмом, и особенно во все глаза глядели мы на нашего героического, но такого простого вождя. Все это я хорошо помню. И еще навсегда остался в памяти салатового цвета занавес в Кремлевском театре.