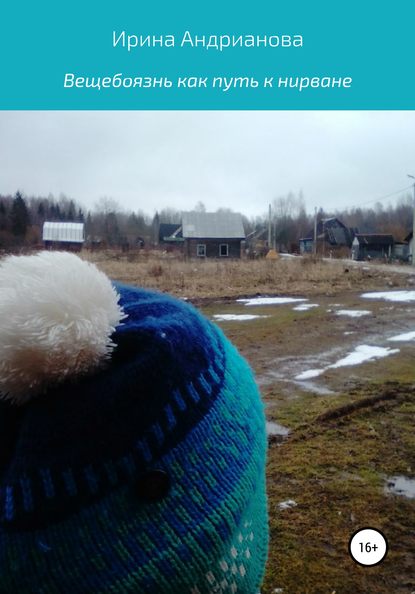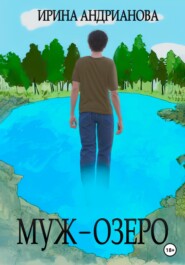По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Вещебоязнь как путь к нирване
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ирина Андрианова
Сегодня абсолютное большинство населения России живет в городах. В связи с этим оседлое сельское население (не путать с дачниками) воспринимается как экзотика; вследствие своей малоизученности оно окружается всевозможными мифами, как уничижительными, так и восторженными.
Сегодня абсолютное большинство населения России живет в городах. В связи с этим оседлое сельское население (не путать с дачниками) воспринимается как экзотика; вследствие своей малоизученности оно окружается всевозможными мифами, как уничижительными, так и восторженными.
В зависимости от своего культурного уровня и душевных качеств горожане относятся к мифическим селянам либо с презрением, либо с жалостью, либо с восхищением – но тем восхищением, которым романтичные белые люди награждали наиболее благородных и живописных дикарей. То есть им в лучшем случае предписывается быть трогательными простецами, чуждыми греховной интернет-культуры и персонифицирующим собой какие-нибудь исконно-посконные ценности. Скажем сразу, некоторые из встреченных мною селян улавливают этот городской «заказ» на традиционность и могут, случается, даже специально козырнуть превосходством своей простоты перед городской сложностью. Но при этом они как никогда являют собой часть городской (точнее, нашей единой) культуры, потому что умиление сельской простотой – чисто городская черта.
Но в целом интернет уравнял всех. Хоть в деревне он куда хуже, чем в городе, но однако же достаточен для того, чтобы полностью перемешать лексический и фразеологический запас селян и горожан. Одни и те же мемы, словечки, шутки, интернет-поговорки и идеологическая повестка дня могут быть свойственны офисному работнику в Санкт-Петербурге и жителю деревни в Тверской области. Комичные бабушки, говорящие нарочито «по-деревенски», встречаются только в дешевых сериалах. В нашей деревне бабушки, например, предпочитают тонкий английский юмор. Особенно заметно будет культурное единство, если ваш сельский собеседник в свое время получал образование в городе. Таки да, а потом он вернулся назад в деревню! И такие люди тоже бывают. Вопреки еще одному городскому мифу, далеко не все селяне, сумевшие чудом вырваться из своего «унылого болота», стремятся во что бы то ни стало закрепиться где-нибудь в цивилизации. Многие возвращаются домой. Причем делают они это вовсе не ради спасения пресловутых традиционных ценностей или ради «выхода из зоны комфорта», о котором они прочитали в интернете, а потому, что им нравится здесь жить. Вот просто нравится, без лишнего пафоса.
В свою очередь, человек, который не стремится уехать из деревни, вовсе не обязательно является ленивым спивающимся неудачником (или, как минимум, невинным мучеником). Сельский быт хоть и утомителен, но это не тот кромешный ад, которым он видится из города. К нему можно привыкнуть. А если у человека есть важные причины жить именно здесь – то можно и вовсе не замечать. Иногда в сельской местности даже попадаются рабочие места, которые можно занять; маленькие зарплаты, на которые при соразмерных потребностях можно прожить. Повторюсь: от культуры деревня вовсе не отлучена, было бы желание: здесь есть книги и даже мало-мальский интернет. В отличие от снобистского пренебрежения, с которым принято говорить об интернете в городах, в деревне его очень уважают. Моя начальница, например, любит писать это слово с большой буквы, и это не только дань традиции. Интернет в деревне не развлекает, а спасает и кормит.
Чего здесь действительно нет, так это избытка (людей, предметов, информации и возможностей), которое заставляет жителя мегаполиса поминутно делать выбор между множеством альтернатив. Но это благо весьма специфично, а для некоторых специфичных людей – и вовсе непереносимо. Однако горожане привыкли к нему, как к постоянному шумовому фону, и искренне сочувствуют тем, кто этого лишен.
Мне регулярно приходится сталкиваться с мифологическими представлениями о деревне. По долгу службы я выступаю одним из тех живописных дикарей, к которым туристы приезжают посочувствовать\снисходительно хмыкнуть\восхититься. Я живу и работаю экскурсоводом в одном из государственных заповедников. Как и положено заповеднику (и к счастью для него) он расположен в классической сельской глуши с ужасными подъездными путями, поэтому вдобавок к экспонатам живой природы туристы волей-неволей получают экскурсию по сельскому «аутентику». (Сразу добавлю для коллег-природоохранников: мы водим экскурсии не в заповедном ядре, куда доступ людей, понятно, запрещен, а по так называемой охранной зоне; там есть дороги общего пользования, две живые деревни и несколько десятков вымерших). Наши микрозарплаты, печные избушки с удобствами на улице, маршрутка в райцентр два раза в неделю и сельская школа на 10 учеников в 20 километрах от дома одновременно ужасают и умиляют приезжих.
Я страсть как не люблю банальности, поэтому по возможности сразу стараюсь помешать трактовке себя и соседей в рамках матрицы «простые и бесхитростные хранители сельских устоев». Прежде всего, подбрасываю шаблоноломные ремарки вроде того, что у нас тут доктора наук пасут коров, что вон тот коренной житель с лопатой увлекается ориенталистскими оздоровительными практиками, а этот вот по вечерам играет на флейте (все – чистая правда). На вопрос, «а как же вы тут живете?», честно и обстоятельно объясняю, что, хотя сельский быт действительно занимает гораздо больше времени, чем городской, он не требует участия головы и многие операции можно делать на автомате (например, руки таскают дрова, а голова сочиняет тексты). А так как у нас отсутствуют временные затраты на многие совершенно избыточные городские задачи (вот тот же самый мучительный выбор между множеством альтернатив), то свободного времени в сумме остается гораздо больше, чем в городе. Вот я, например, здесь нахожу гораздо больше времени для творчества, чем ранее. Что касается зарплат, то отсутствие городских соблазнов опять-таки позволяет сэкономить гораздо больше, чем в городе при доходах существенно больших.
«Нет, значит, это у вас такое призвание!» – не унимается мифотворческий восторг моих собеседников, которые непременно хотят видеть в нас страдальцев, приносящих страшную жертву во имя высокой идеи охраны природы\традиций. Тогда я решаю покончить с ложными матрицами раз и навсегда. Эти люди имеют право знать правду, даже если они этого не хотят!
«На самом деле бытовые сложности – это нормальная и совсем необременительная плата за право и возможность жить здесь, – говорю я. – Не дай бог, чтобы тут начали платить хорошие зарплаты и провели газ с канализацией. Количество желающих жить здесь сразу возросло бы в разы. Тогда здешние вакансии стали бы распределяться по блату, их заняли бы племянницы прокуроров и зятья министров. Представьте себе – жить в раю, без людей, да еще и со всеми удобствами! Тогда у таких маргинальных социофобов, как я, и близко не будет шансов спастись. На мое счастье, большинство людей пока что считают, что здесь страшно тяжело. Ну вот как вы».
Вообще-то, говоря все это, я иду вразрез с собственной выгодой. А вдруг мне поверят, и устремятся толпой сюда, в мое спасительное уединение? Вместе с джипами, орущими магнитолами, мусором, заборами, захватами берегов и уличным хамством? Но я утешаюсь тем, что мифы очень живучи, а привычки – и подавно. Разрушаются они только в порядке самосохранения перед лицом действительно серьезных проблем – типа настоящей, а не кокетливой, социофобии. Когда ты действительно не можешь выйти на улицу, чтобы дойти до магазина. Но об этом чуть позже. Многих останавливает долг перед детьми: если в младших классах недостатки сельской школы возможно компенсировать домашним образованием, то в старшей – уже нет. По этой причине моя жизнь здесь – тоже лишь временная психотерапия, рано или поздно придется уехать.
«И все это – ради того, чтобы охранять природу?» – продолжают экскурсанты.
Отчасти это правда; конечно, мне очень важно осознавать сопричастность этому благородному делу. Потребность в смысле жизни у меня очень высока. Без ясности в этом вопросе у меня усугубляется уныние, начинаются лихорадочные поиски эрзацев, симулякров и т.п.. Поэтому, конечно, я стремилась не просто спрятаться в лесу, но присоединиться к небольшой (!), размазанной по обширной территории группе, которая употребляет свою маленькую человеческую жизнь ни на что иное, как на природоохранную деятельность. Поэтому государственный заповедник – это, конечно, идеальное место. Но, с другой стороны, я прекрасно осознаю, что мой прежний вклад в охрану природы (в окрестностях мегаполиса) был гораздо весомей. Там я была на переднем крае войны: там были сотни тысяч врагов, желавших превратить природу в товар, там были горы мусора и погонные километры незаконных заборов на берегах. Здесь я – в глубоком тылу, залечиваю душевные раны в госпитале. Врагов у природы здесь несоизмеримо меньше, за неимением людей. Меньше 30 тысяч населения в районе, из них 19 – в райцентре. Немногочисленные отряды нарушителей, которые добираются до нас, успешно побеждает отдел охраны нашего заповедника. Здесь я нужна гораздо меньше, чем там. Но, увы, мне стало ясно, что боец в моем лице утратил боеспособность; может, временно, а может – навсегда. Это как если бы солдат потерял руку или ногу: вроде бы он и понимает, что нужно сражаться дальше, но – не может.
Поэтому, ответив так, как от меня ждут, я добавляю:
«Кроме того, я просто физически – без шуток – не могла больше жить в большом городе. Ну, если хотите, у меня определенные проблемы с головой… Поэтому, как только обстоятельства позволили – дочь вышла замуж и необходимость в моем присутствии рядом отпала, я нашла вакансию в лесу и уехала с сыном».
Мои собеседники вежливо кивают: да-да, мегаполис, да, ужасный шум, ужасная суета, им тоже порой так хочется вырваться оттуда… Но как мне объяснить им, что слова «не могла больше» – это не художественное преувеличение? В какой-то момент я поняла, что просто выйти и пройти по улице из точки А в точку Б становится для меня не то что непосильной, но очень трудной задачей, связанной с тяжелой борьбой с самим собой. Трудно объяснить психопатические ощущения людям, которые их не испытывают, но я попробую. Там, где высока концентрация людей (а в мегаполисе это повсеместно), я ощущала, что все они – мои враги и все ненавидят меня; что всем им несложно быстро самоорганизоваться, чтобы устроить мне любое ужасное унижение. Причем унижение это будет заслуженным, потому что я первая искренне ненавижу их всех. В этом смысле я понимаю и уважаю их реакцию на меня. А за что же я их ненавижу? А за то, что они создают беспорядок, что их так много, что они производят мусор, что они его разбрасывают, и что я ничего не могу с этим поделать, даже если каждый день буду проводить волонтерские уборки. А еще они ездят на страшных смердящих автомобилях с орущими магнитолами, они захватывают берега, они страшно кричат матерные угрозы, у них довольные жизнью высокомерные лица. Они ничего не боятся, а я их боюсь. Мне некому пожаловаться, не у кого попросить защиты, потому что я понимаю: я – виновна. Да-да, во всем виновата именно я, а все они – правы. Потому что я – лишняя, я преступно занимаю место. Собственно, в этом гигантском человеческом муравейнике все лишние; каждый является очередным лишним телом, претендующим на драгоценный территориальный ресурс. Но достоинство этих величественных в своем самодовольстве победителей – в том, что они этого не замечают. Быть бессмысленным, ненужным и даже вредным, и при этом искренне считать себя важным и значимым – такая иллюзия говорит об избранности. Стало быть, все они избраны не знать правды и потому имеют право наслаждаться жизнью. А я – наоборот, обречена знать правду. Иллюзия меня не избрала. Значит, я справедливо расплачиваюсь. Я искренне не понимаю, по какому праву я могу здесь существовать, двигаться вот по этой улице, занимать место, которое вытесняет объем моего тела, становиться препятствием на пути других, избранных. Никакие разумные объяснения не кажутся мне удовлетворительными. Единственный ответ – ни по какому праву. Чтобы успокоиться, я должна убраться и не мешать.
Вещебоязнь
В истории моей болезни есть один положительный момент. Дело в том, что она замечательно корреспондирует с природоохранной добродетелью самосокращения, и это меня немного утешает. Сейчас поясню. Еще много лет назад, когда я еще не так боялась двуногих конкурентов по планете, и даже верила, что мое существование может быть оправдано, я стала избегать приобретать одежду и вообще любые вещи, кроме самых необходимых. Идею покупки новых предметов я оставила еще в молодости: тренд к сокращению потребления органично вошел в меня, как нож в масло, потому что не требовал от меня никаких усилий. Но с некоторых пор мне стало казаться абсурдом не только умножать вещи в масштабе планеты, стимулируя их производство, но увеличивать их количество (пусть подержанных, из сэконд-хэнда) в зоне моей жалкой тушки. Если она сама не нужна, то какой смысл может иметь обматывание ее в красивые тряпки? Кроме как задачи спасти от холода и презрительных взглядов окружающих, смысла в одежде нет. В моем случае осознание этого стало таким острым, что я испытывала тяжкую тоску при мысли, что мне нужно сделать усилие, отправиться в какой-то магазин, и потратить время на поиск/выбор/покупку. К вещебоязни прибавлялась, разумеется, уже описанная человекобоязнь: ведь при любом социальном действии мне нужно взаимодействовать со страшными чужими людьми (каковыми являются все за пределами моей комнаты). Но не только это. Человеку, регулярно размышляющему на тему своей бессмысленности, кажется тяжким трудом умножение любых атрибутов своего существования: усилий, времени на обслуживание своего тела, предметов, социальных актов. Даже общение с малознакомыми людьми стало настоящей тяжелой работой, к которой приходилось себя принуждать.
Самыми неприятными периодами года для меня стали преддверия больших ритуальных праздников, вроде Нового года или 8 марта, потому что в это время мне было не избежать тяжкой повинности совершать усилия по поиску/обретению подарков для родных. Я начинала бояться и тосковать задолго до начала этого боевого марафона. Я сладко мечтала о каком-нибудь волшебном интернет-сайте, где бы все подарки можно было бы за полчаса купить посредством нескольких кликов мышью. Но вот досада: из-за страшной боязни всего нового, которое является одним из проявлений социофобии, я страшилась сделать усилие для овладения этой наверняка очень простой технологией.
Окружающие считали меня страшно ленивой, потому что элементарная поездка в центр города была для меня экстремальным событием, для которого нужно было долго собираться с духом. Между тем движение в лесу под рюкзаком совершенно не утомляло меня: ведь там не было ни, избытка людей, ни антропогенных предметов. Правда, чтобы попасть из мегаполиса в лес, нужно было сперва потратить три часа в ужасающей сверхконцентрации и того, и другого. Поэтому даже эвакуация за город на выходные отравлялась отвратительным предвкушением шестичасовой (туда и обратно) борьбы с собой и со страхом. Длительные походы позволяли немного отдохнуть, но они, увы, случались не каждый день: нужно ведь было еще заработать на них деньги.
Вы вправе диагностировать у меня упадок культуры, потому что я искренне не люблю музеи, театры, историческую архитектуру и прочие прелести урбанистической эстетики. Ненавидите ли вы театр так, как ненавижу его я? Вряд ли. Потратить пять часов социальных мучений на дорогу в театр/пребывание в нем ради наблюдения за кем-то на сцене? Самое смешное, что потом я должна еще и испытать чувство вины за то, что мне не хочется им аплодировать, а мне никогда не хочется. Зато в деревне, во время еженедельных поездок за продуктами в райцентр, я стала увлеченным киноманом (правда, исключительно в жанрах провинциального проката – то есть голливудских блокбастеров). Потому что здесь на сеансы ходят не более 10 человек: концентрация, посильная для моего душевного здоровья.
Извините, что об одиночестве
Да, эта тема – наипошлейшее из всего, что можно придумать. Жаловаться на одиночество нелепо, потому что человек по определению одинок. Его производят на свет для будущего одиночества, и не спрашивают, хочет ли он этого. Что поделаешь: всем матерям нужен эрзац смысла жизни, который дают дети; он нужен и мне. Я ведь тоже не спрашивала своих детей до их рождения, хотят ли они в будущем ввергаться в бесконечный кризис среднего возраста, который начинается с 30-40 лет и больше уже не заканчивается. Мужчинам переносить его проще (так мне кажется, но, может, я ошибаюсь?) и я нередко тешу себя грезами о перевоплощении в мужское тело, пусть и самое заурядное и вовсе не молодое, как, впрочем, и мое. Но женщины среднего возраста и старше объективно не нужны обществу! В этом нет никакой драмы, это биология: они действительно уже выполнили свое природное предназначение, и существуют лишь потому, что им некуда деваться, а медицинские успехи ХХ веки продлили их ненужную жизнь до пределов абсурда. Опять-таки, не подумайте чего: я очень люблю своих детей, и они любят меня, но вместе с тем они прекрасно без меня обойдутся. И весь мир тоже обойдется. Как и без каждого из нас.
Так вот, в деревне одиночество переживается несказанно легче, чем в городе. Есть даже мнение, что современный человек страдает не от одиночества в прежнем смысле слова (то есть объективного отсутствия двуногих собратьев, что в наше время можно вкусить разве что в одиночном тюремном заключении), а конкретно от городского одиночества. Это новое понятие, связанное с ощущением контраста между изобилием людей вокруг и количеством их внимания непосредственно к нашей персоне. То есть человек видит каждый день огромную толпу и спрашивает себя: их так много, почему же мне не достается хотя бы сотой доли в качестве друзей? На самом деле реальный уровень его общения вполне может находиться в пределах психологической нормы. Но количество соседей по мегаполису нереалистично повышает стандарт социальной востребованности. Кажется, что у каждого из встреченных в транспорте людей – огромный круг общения, что все эти нарядные, довольные жизнью мужчины и женщины купаются в дружбе и любви, и только ты один отлучен от праздника жизни. При этом никакого праздника нет, а есть лишь мои неоправданные ожидания.
В нашей деревне населением 150 человек контраста между количеством людей и количеством общения обычно не наблюдается, поэтому и такого чувства одиночества, как в городе, быть не может. Более того: когда я сюда приехала, интенсивность моего общения выросла. По пути на работу и с работы нужно со всеми поздороваться; да и чисто хозяйственные заботы заставляют общаться – в таком маленьком коллективе все друг от друга зависят. Тут, как правило, стоит другая проблема: не «переобщаться», то есть защитить свое внутреннее пространство в условиях, когда все друг друга знают и каждый двор на виду. На этот счет существует деревенский этикет, не позволяющий, например, без приглашения заходить в дом или во двор к соседу: требуется сперва позвонить, благо что мобильные телефоны есть у всех. Это к слову о еще одном городском мифе, что деревня – это где «все друг к другу ходят в гости, где нет зависти и злости». Перечисленные негативные эмоции в деревне представлены в стандартных пропорциях, а вот частную жизнь здесь уважают больше, чем в переполненном людьми городе. В любом случае, проблема одиночества здесь стоит не очень остро.
Кроме того, деревня здорово помогает справиться со специфической женской тоской, обусловленной старением. Женское сознание, если можно так выразиться, более «телесно», чем мужское. Самореализация женщины, как бы то ни было, сильно зависит от мужского спроса на нее (хотя бы потому, что является условием материнства), поэтому ощущать свой привлекательный «товарный вид» для нее очень важно. Конечно, неверно думать, что мужчины умеют осознавать себя как душу, отдельную от дела; но у женщин переживание своего тела глубже и острее. Причем именно идеализированного тела. Женщина, мысля себя, непременно должна представлять красивое и молодое тело; это – важный компонент смысла жизни. Когда контраст между представлением и реальностью становится слишком очевиден, наступает кризис, выражающийся в том, что женщине бывает мучительно тяжело смотреть на себя в зеркало. Но ведь зеркало – это не только предмет, висящий на стенке; это еще и глаза окружающих. От которых, как мы знаем, не спрятаться. И они-то знают, что нам нечего больше осознавать. Что нас, как женщин, больше нет (а кто мы тогда?). Ну а если представить, что нет зеркал? Вот почти что никаких? Можно ли считать себя красивой или уродливой, молодой девушкой или морщинистой старухой, если тебя почти никто не видит? Пожалуй, правильно будет сказать, что в этом случае у тебя вообще нет внешности. В деревне удается то, что невозможно в мегаполисе: немножко отдалиться от своего тела.
Мнимогиперответственность
Могу также сказать, что уединение помогло мне отчасти справиться с неподъемным чувством ответственности за все и вся (мнимым, как и многое другое), которым нередко заболевают экоактивисты. Кидаясь от одной нерешенной проблемы к другой, которые частенько стремятся свалить на них инфантильные знакомые, экоактивисты быстро перегорают от бессмысленности своей деятельности. Поясню. Желание найти кого-то, на кого можно переложить чувство ответственности за спасение очередного захватываемого озера/леса, вообще очень свойственно нашим согражданам. Найти телефон какого-нибудь «общественника», позвонить и битый час жаловаться, требуя, чтобы этот несчастный немедленно все бросил и бежал делать то, что самому тебе лень – излюбленное занятие тех, кто хочет за недорого почувствовать себя хорошим человеком. Я по первым ноткам голоса узнаю господ, которые, повесив трубку, удовлетворенно подумают: «Как хорошо, что мне, в отличие от других, не все равно!» О том, что они преспокойно могут (и должны) сделать самостоятельно все то, что почему-то просят от меня, им в голову не приходит. Они почему-то полагают, что есть такая общественная должность – активист, и ее исполнитель почему-то находится в непрерывном услужении у всего человечества. Если ты пытаешься объяснить им, что устал, что у тебя тоже есть работа и дети, что не худо было бы хотя бы провести протестную кампанию сообща – многие искренне обижаются. Как так? – не раз слышала я. – Ведь вы же создали сайт, ведь я же нашла ваш телефон в сети. Почему же вы после этого не помогаете мне? Размышляя, я приходила к выводу, что люди, готовые эмоционально откликаться на жалобы незнакомых голосов в телефоне, настолько нетипичны, что окружающие инстинктивно воспринимают такое поведение как слабость. И «отрываются» по полной. Тем более что их только что обидели злые типичные захватчики, так что надо на ком-то сорвать злость. Вы не поверите, но многие просители в конце разговора мне даже грубили.
Но еще до того, как ты понимаешь, что что-то здесь не так, что не следует вскакивать и отрабатывать боль каждого обиженного, привычка проникаться их плачами ярославен успевает глубоко в тебя врасти. И вот ты уже сам готов принимать на себя ответственность за все природоохранные проблемы современности, и верить в то, что их нерешенность – твоя личная вина. Отчего так? Должно быть, оттого, что другого смысла в твоей жизни все равно нет, и ты это знаешь. Даже мнимая потребность в тебе телефонных/сетевых жалобщиков – это лучше, чем вовсе никакой. И ты осознанно выбираешь дорогой хлопотный эрзац. Пока ты способен его тянуть. Понятно, что это звучит очень глупо: человек, которому тяжело общаться, но одновременно он страдает от своей невостребованности. Но что делать – так бывает.
Не подумайте чего: я искренне считаю, что борьба за сохранение благоприятной для человека окружающей среды (то есть за наличие не только чистых лесов и озер, но и их доступности) – самая, наверное, важная задача на сегодняшний день. Но я бесплодна в ней. Если мне что-то когда-то удавалось, то это было чистым везением. Настоящих успехов на общественном природоохранном поприще может достигнуть только целостный, эмоционально здоровый человек, который живет полной жизнью, а не оболочкой. Я же превратилась в одномерную функцию, единственная задача которой – отозваться на природоохранную проблему и попытаться ее решить. Вещь неплохая, но я хорошо знаю, что, если завтра меня не станет, десятки жалобщиков тут же забудут о моем существовании и отправятся искать других мнимоответственных. Оттого-то я не получала глубокого морального удовлетворения от своей работы, а просто молча тянула лямку, как бурлак: вот еще немножечко, вот только до того камня… И сбросить ее нельзя, потому что иначе меня не станет: я вся превратилась в лямку.
В итоге единственным решением для меня стало трусливое бегство. Разумеется, я продолжаю природоохранную работу (чтобы объяснить себе, зачем я живу на свете), но, благо, большинство жалобщиков жалеют денег, чтобы долго разговаривать со мной по межгороду. А когда я объясняю, что из интернета у меня в деревне загружается только «Вконтакте», да и там вложенные файлы не открываются, то желающих перекладывать свою ответственность становится еще меньше, потому что люди ленятся переписывать содержание документов в тело письма… Так мне удается отфильтровать круг самых достойных просителей, которым не жалко и не лень. Тоже, вобщем-то, неплохой результат.
Резюме: я спряталась здесь, чтобы вылечить симптомы душевного заболевания. Именно симптомы: стоит вернуться в средоточие людских толп, как они вернуться с новой силой. К тому же, с годами такие болезни имеют обыкновение прогрессировать. Однако, если вы заметили в истории моих недугов какое-то сходство с собой, то примите мой рассказ за дружеский совет.
Для оформления обложки использована авторская работа Ирины Андриановой