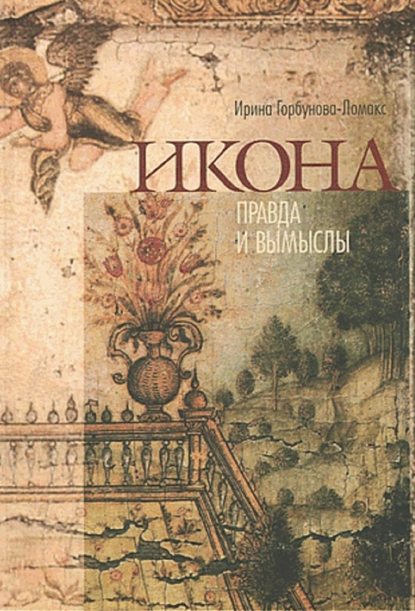По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Икона. Правда и вымыслы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но так ли уж справедливо такое представление? Действительно ли оно имеет твердое основание в православном богословии и иконописной традиции?
Начнем с первого случая – о прижизненных изображениях, становящихся иконами. Хорошо известно, что Церковь, во всяком случае, не признает иконами фотографии и не помещает их в этом качестве в храмах (хотя в домашних иконостасах многих верующих фотографии святых присутствуют, иногда заменяя их иконы, а иногда наряду с оными). Не стали иконами и известные живописные портреты Серафима Саровского или Иоанна Кронштадтского, хотя и послужили иконописцам несомненными образцами для почти буквального подражания.
Но, с другой стороны, в церковной традиции прочно утвердилось представление о том, что св. апостол Лука, будучи художником, написал несколько портретов Божией Матери при Её жизни, и портреты эти сделались первыми Её иконами. Даже если экспертиза опровергает принадлежность к I в. н. э. некоторых приписываемых св. Луке икон, один только факт существования подобного предания, а также православных изображений св. Луки перед мольбертом за написанием иконы с Самой, предстоящей ему, Богородицы, говорит о том, что канонического запрета на писание икон с натуры не существует.
Рассматривать же этот факт как исключение из правила, сделанное для художника-апостола и Матери Божией, святость которых была несомненна и превосходна, мы позволить себе не можем. О том, как именно, с натуры или по памяти, писались первые иконы святых, у нас нет никаких прямых данных, но данные косвенные и здравый смысл с очевидностью говорят о том, что писались они с натуры, как обычные портреты. Например, в 4-й книге жития св. императора Константина говорится, что его подданные «чествовали его и умершего, совершенно так, как если бы он был жив, посвящением ему изображений: они изобразили на нарисованной красками картине вид неба, а поверх небесного свода с помощью живописи представили его отдыхающим в эфирном местопребывании»[16 - Цит. по: Иоанн Дамаскин. Три слова в защиту иконопочитания СПб., 2001. С. 141.] – как видим, для агиографа достопримечательно и необычно именно посмертное, а не прижизненное изображение; прижизненные разумелись сами собою! Мы не можем указать на такие первые иконы-портреты – столетие иконоборчества оставило нам буквально крохи от художественного наследия предшествовавших ему веков. Но, скорее всего, если бы даже десятки тысяч древних памятников дошли до наших дней, мы и тогда бы не знали наверняка, какой Никола или какой Георгий суть «те самые», первые, и чьей кисти они принадлежат, и писаны ли непосредственно с натуры – такое множество списков с чтимых икон распространялось в Церкви, так мало значило авторство и такой прямой виделась связь каждой чтимой иконы не только с Первообразом, но и с первообразцом, т. е. хороший список почитался наравне с образцом и вскоре с ним вполне отождествлялся в сознании народа. Именно так, по вере народной и великим чудотворениям, продолжает Церковь приписывать непосредственно св. Луке иконы, которые эксперты признают за позднейшие списки.
Но, к счастью, мы имеем возможность сделать некоторые выводы из рассмотрения дошедших до нас прижизненных портретов царей, храмоздателей, клириков, донаторов, изображенных в молитвенном предстоянии Господу или святым на иконах. Именно потому, что эти люди не стали святыми, их портреты, включенные в иконы, никогда не списывались для других икон и остались единственными, уникальными объектами, о которых мы можем, несмотря на протекшие столетия, твердо сказать: это прижизненный портрет. Так вот, эти портреты живых и вовсе не святых людей, являющиеся частью иконы, стилистически ничем не отличаются от соседних с ними изображений святых. И не только стилистически, но и по своему типажу, т. е. никак нельзя сказать, что какая-то особенная, бросающаяся в глаза бездуховность и грубость черт выдает несвятость тех или иных включенных в икону персонажей. Единственное средство отличить святых от несвятых на традиционной иконе – нимб и надписание. Если же оные отсутствуют (как это часто бывает в многофигурных композициях), то без знания сюжета иконы, канонического или традиционного расположения фигур известных святых, их внешних черт и свойственной им одежды зритель лишен всякой возможности определить, какие персонажи суть святые, а какие нет.
Всё сказанное в предыдущем абзаце относилось к прижизненным портретам, включенным по желанию заказчика в икону или храмовую роспись. Но всё это равным образом справедливо для неизмеримо более многочисленных «незаказанных» изображений несвятых в составе праздничных, житийных, евангельских сюжетов. Этот необходимый по сюжету «народ» далеко не всегда настроен благоговейно, а порой иконописцу случается изображать язычников, грешников, палачей. Но пропорции тел этих злодеев и этой черни так же благородны, как пропорции тел святых, лица их не обезображены низкими страстями. В житийных сценах, если эти несвятые не совершают прямых насилий, то мы не можем определить, кто из них плох, а кто хорош, без надписания, объясняющего смысл сцены.
Таким образом, мы убедились в том, что изображения на иконе святых – и несвятых, живых – и умерших, тех, кто сам служил моделью художнику, тех, чья внешность была ему известна из прежде писанных образцов, и тех, кого он просто-напросто «придумывал», изображения эти совершенно идентичны по манере письма и неотличимы по типажу. Уже одно это – неоспоримое! – наблюдение дает нам право утверждать, что работа с живой модели или по воображению, идёт ли речь о святом или вовсе не святом персонаже, никак не сказывается на манере изображения человека в иконе, не налагает никакой особой печати.
Но до сих пор мы говорили всё-таки о тех случаях, когда святые и несвятые были писаны «с самих себя» при их жизни. Оставив в стороне «статистов», непоименованных персонажей многофигурных сцен, к которым всё равно не обращаются с молитвой, мы перейдем ко второй части вопроса: может быть, действительно есть нечто мистически запретное в том, что художник, посадив перед собою убеленного сединами благообразного натурщика, писал с него св. Николая? Или, накинув пурпурную драпировку на голову молоденькой натурщицы, писал с неё Богородицу? Вопрос этот многосложен, и, прежде чем говорить здесь о православной мистике, хорошо бы убедиться, что мы не впадаем в мистицизм языческий.
Смысл портретирования в христианской (да и не только христианской) культуре – прежде всего в передаче внешнего сходства. Времена, когда грубо слепленный идол – пара глаз, нос-рот, половые признаки – мог считаться мистическим двойником человека и в этом качестве быть объектом почитания или магических действий, – эти времена, в христианской Европе по крайней мере, давно прошли. Портреты живых людей, как в дофотографическую эпоху, так и сейчас, заказывают не первому встречному, который согласен посидеть известное время против модели, вступая с ней в некий контакт, и потом представить аутентичный продукт этого контакта на бумаге, холсте или в глине. Вовсе нет; от портрета требуется не аутентичность контакта художника с моделью, а сходство.
Профессиональный художник тем и отличается от дилетанта, что не ищет мистической связи с натурой (живой или неживой), а, зная, как добиться сходства изображения с натурой, создает схожее с нею изображение. И уже от себя, в меру своего таланта и в соответствии со своими эстетическими, нравственными и духовными установками, вносит в свою работу то, что превращает портрет из просто схожей с натурой ученической штудии в произведение искусства. Он может сообщить портретируемому особую значительность, или эмоциональную тонкость и глубину, или душевную чистоту и благочестие, или сексуальную привлекательность, или одухотворенность и сосредоточенность. Портреты, писанные с одного и того же лица разными художниками, могут по-разному характеризовать его психологически, интеллектуально, духовно, сохраняя при этом внешнее сходство.
Средства добиться этого сходства для разных художников будут тоже разными: это может быть ряд длительных сеансов со строгим соблюдением условий освещения, позы, расположения складок одежды, а могут быть и быстрые зарисовки, на основе которых портрет будет писаться – сколь угодно долго и тщательно – уже в отсутствие оригинала. Художник может прибегнуть к услугам наёмного натурщика, усадив его в позу и нарядив в костюм портретируемого, может использовать в тех же целях манекен, может обращаться к ранее написанным, нарисованным, изваянным (им самим или другими) портретам того же лица или к его фотографиям. Но работа художника будет оцениваться, во всяком случае, с точки зрения сходства портрета с оригиналом и желательности духовно-психологического акцента, сообщенного портрету.
Позволим себе для наглядности несложную притчу. Представим, что некто написал непосредственно с натуры никуда не годный портрет короля. Но признавать свою неудачу он и не думает. Он всерьёз доказывает, что работа его ценна мистической силой аутентичного контакта с королём во время многочасовых сеансов. И вдобавок обличает своего более талантливого коллегу-портретиста: он-де писал королевский портрет не с натуры, а пригласил позировать какого-то сомнительного типа, найденного на улице. Что ответят такому демагогу, если вообще сочтут нужным отвечать на его галиматью? Ему ответят, что короля правдиво изображает тот портрет, на котором Его Величество можно узнать без подписи, и не только узнать, а ещё и подивиться, как верно схвачены его благородство, мудрость, величие. Если в скромнейшем из королевских подданных художник сумел разглядеть эти черты, тем лучше для них обоих, а государя этим оскорбить никак нельзя. Оскорбит государя скорее уж тот, кто, написав с него явно неудачный, несхожий, недостойный его портрет, настаивает на всеобщем признании аутентичности этого изображения.
Таков будет совершенно резонный, трезвый ответ шарлатану и бездарности в «светской» ситуации.
Но почему же в иконописи подобному шарлатанству и нездоровому мистицизму, отбрасывающему нас в эпоху глиняных терафимов, охотно предоставляется место? Почему возникло и утвердилось это грубое, в зубах навязшее противопоставление: вот богохульник Рафаэль, пишущий Божию Матерь с легкомысленной девчонки, а вот череда подлинных иконописцев, никогда не осквернивших свое искусство… чем, спрашивается? Копированием натуры?
Здесь нам придётся сделать небольшое отступление. Дело в том, что выражение «копировать натуру» употребляется известной школой богословия иконы с такой лёгкостью, как будто и в самом деле нет ничего естественнее, как будто все не-иконописцы (вот ведь какие бездуховные!) только и делали, что штамповали копию за копией: как же иначе, реализм – значит копия. Стало почти общим местом, с лёгкостью принимаемым на веру, вульгарное сравнение академической школы живописи с фотографией или даже видением Христа глазами духовно слепой толпы. Такое сравнение видится блестящим доказательством невозможности показать божественную природу Христа при посредстве реалистического изображения[17 - Цит. по: Иоанн Дамаскин. Три слова в защиту иконопочитания СПб., 2001. С. 152.]. В действительности, ничего подобного не доказывая, такое сравнение только свидетельствует о незнании или намеренном игнорировании азбучных законов изображения натуры художником.
Художник никогда не копирует натуру механически, как делает это фотографический аппарат. Даже картины так называемых фотореалистов, целью своей ставящих именно безличное, механическое копирование фотоснимков (им известна принципиальная невозможность механического копирования натуры), даже их картины носят слабый отпечаток индивидуальной манеры автора. Любое же «копирование» собственно натуры всегда является творческим и натуру неизбежно преображает. Именно особенности этого преображения и составляют специфику искусства, его raison d’?tre[18 - Смысл существования.]. Они дают нам представление о внутреннем мире художника, об уровне его одаренности и профессионализма, о школе, эпохе, национальности, к которым он принадлежит (именно эти ясно читаемые специалистами данные служат основой для атрибуции и оценки). Для зрячего человека свидетельствами бытия Божия и возможности Боговоплощения могло бы служить уже одно несказанное, неисчерпаемое богатство таких индивидуальных видений натуры, каждое из которых – явление само по себе чудесное, аутентичная и воплощенная в косной материи проекция макрокосма в микрокосме.
Чудесным, по сей день неисследованным фактом является и бессознательность формирования каждой из таких проекций – не с целью создать ещё одну проекцию, а с целью познания красоты и истины. Историю искусства создавали вовсе не те, кто, грызя кисть, измышлял, чем бы этаким ему отличиться от Микеланджело или Шагала (это еще один дикий штамп, распространяемый дилетантским искусствоведением: именно так почему-то иные видят поиски художником своей индивидуальности – в гордыне, замкнутости, изоляции от мира и собратьев по ремеслу). Выдающимися художниками становились не они (вряд ли такие и существовали на самом деле), а те, кто просто стремился возможно точнее запечатлеть свое видение мира, т. е. передать истину в границах своего понимания.
Есть известный исторический анекдот о том, как зрители, улюлюкавшие перед непривычным глазу обывателя пейзажем Клода Моне, внезапно, выйдя на улицу, увидели: туман над Темзой, виденный ими прежде тысячу раз, был действительно розовый – такой, как на картине Моне. Есть и другой, не менее известный анекдот, на первый взгляд противоположный по содержанию: публика, прослышав о том, что Рафаэль пишет Богородицу с неподобающей натуры, бросилась громить его мастерскую – и внезапно, увидев картину, присмирела и исполнилась благоговения. Рафаэль сумел показать разъяренной толпе то, что разглядел в этой неподобающей натуре сам.
При всём внешнем несходстве эпох и причин недовольства публики в обоих случаях произошло одно и то же: публика возмутилась было, найдя поколебленным свое представление об истине, но была побеждена представлением более глубоким, тонким, обоснованным и искусно переданным. Публика в обоих случаях неожиданно для самой себя стала смотреть на мир глазами художника, и это было для неё потрясением и открытием. И произошло это несмотря на то, что и Рафаэль, и Моне писали непосредственно с натуры, т. е., в представлении обывателя, натуру копировали!
Итак, повторим ещё раз аксиому, без знания которой всякий разговор об искусстве есть лишь любительская болтовня: художник видит в предлежащей ему натуре не то, что в ней «видит» фотографический аппарат, а Истину в доступной ему степени. Иными словами, «всякое изображение делает ясными скрытые вещи и показывает их»[19 - Иоанн Дамаскин. Три слова в защиту иконопочитания. СПб., 2001. С. 89.] – как сказал за сотни лет до появления фотографии и научного искусствоведения св. Иоанн Дамаскин.
Но вернёмся теперь к тем художникам, которых иные теоретики иконы отчетливо выделяют в особую группу подлинных иконописцев и о которых «известно» (в действительности известно крайне мало), что они не писали своих икон с живых натурщиков[20 - L. Ouspensky. Thеologie de l’ic?ne dans l’Eglise orthodoxe. Cerf, 1993. C. 151.]. Принимая это произвольное, ничем не подтверждённое измышление за исторический факт, настаивают на несовместимости иконописи и письма с натуры.
Работа с натуры, к сведению дилетантов, заключается не только в том, что художник тщательно копирует позирующую ему модель или отправляется с этюдником на пленэр. Всякое наблюдение, сделанное намётанным глазом художника в тварном мире, уже есть работа с натуры. Всякое практическое использование такого наблюдения, будь то через минуту или через год, есть также работа с натуры. И всякое примечание в чужих произведениях приёмов передачи живого, реального также относится к области работы с натуры, поскольку эти приёмы сравниваются с натурными наблюдениями.
Так что же, великие иконописцы прошлого никогда не видели благообразных мужей и старцев, чистых юношей и дев, вообще людей, чей внешний облик связывался бы с представлением о душевном благородстве, мире и красоте, о мудрости, мужестве, деятельной любви к ближнему, смирении, чистоте, преодолении своих страстей? Или же при виде таковых иконописцы зажмуривались, чтобы избежать даже малейшего искушения воспользоваться в своей работе своими натурными впечатлениями?
А не будет ли правильнее, как с точки зрения здравого смысла и научной теории художественного творчества, так и с точки зрения богословской, предположить, что никакого прелюбодействия, никакого блуда не заключается в том, что художник, принадлежа к тварному миру и зрителями имея не бесплотных духов, а таких же людей, находит прекрасное в этом мире и в этих людях – и таким образом познаёт и показывает прекрасное иного, обетованного нам мира?
Не больший ли блуд от Господа и Истины в нелепых попытках представить плоским и механическим это познание художником божественного откровения в тварном мире, попытках не только заклеймить и унизить, хотя бы постфактум, самых одаренных, отважных, энергичных исследователей красоты как людей бездуховных, но и объявить целые эпохи культурной истории христианского мира по меньшей мере апостатическими?
К счастью, подобный обскурантизм должен рано или поздно, сам себя разъедая изнутри, сойти на нет. Он не имеет опоры в зрительских симпатиях (нельзя же всерьёз именовать симпатией угрюмое замирение с низкокачественной «иконописной продукцией»). Он не способствует духовному и творческому росту тех, кто в своей иконописи следует этому обскурантизму на практике. В интересах всех, действительно заинтересованных будущим православной иконы, изжить его как можно скорее.
Ни в каких определениях Церкви сходство иконы с натурой и работа художника с натуры никогда не запрещались. Запрещалось писать иконы «по своему измышлению», а рекомендовалось следовать «старым образцам».
Но это определение можно понимать в Духе и истине, а можно умышленно толковать с известной целью совсем в ином духе. В течение многих веков иконописцы, правильно толкуя требование Церкви следовать старым образцам, не копировали их механически, а учились рисовать, писать и компоновать в их духе. Сохраняя композиционную схему канона, они в каждой вновь создаваемой иконе заново переживали эту схему, наполняли ее живым содержанием своего личного духовного опыта и творческого познания мира, так что всякий новонаписанный образ Спаса являл Его величественным, кротким, исполненным силы, премудрости, совершенным телесно и духовно. И всякое новонаписанное изображение Матери Божией являло Её величественной и прекрасной в жертвенной любви Её к Сыну, в сострадании к человечеству. Мир классической иконы бесконечно разнообразен стилистически, но един в православном представлении Истины прекрасной и реальной. Именно в этом заключается верность старинным образцам и воздержание от «своего измышления», т. е. дурного произвола.
Дурной же произвол начинается там, где художник, иконописец или нет, решает, что стремление к красоте и реализму для него необязательно или даже вредно. Когда художник не следует этим важнейшим, определяющим критериям, не поверяет ими строго и трезво то, что выходит из-под его кисти, это как раз и означает, что он впал в прелесть «своего измышления». На что же другое может он ориентироваться и чем другим себя поверять?
«Как чем, – скажут нам, – а следование старым образцам? Где же тут своё измышление, когда мы копируем классические, прославленные иконы?»
Этот, на первый взгляд, сильнейший аргумент в действительности ничего не стоит. Как сказано было выше, традиционная иконопись следовала образцам, а не копировала их механически. Чтобы обучиться механическому копированию, не нужно записываться на иконописный стаж – куда полезнее будет поступить в ученики к художнику-фотореалисту и, перевернув свой образец вверх ногами, чтобы лучше абстрагироваться от его смысла, точка за точкой переносить на свою доску некий набор отвлеченных цветовых пятен – только так и может человек, существо разумное и духовное, произвести (мы умышленно не говорим «создать») копию, никак не отражающую его внутренний мир.
Но как только он перестает разыгрывать из себя фотообъектив, как только он осознаёт изображаемое, он немедленно берет на себя такую же ответственность и подвергается тем же опасностям, что и при работе с натуры, т. е. точно так же рискует впасть в «своё измышление» и увидеть в предлежащем ему образце «свою истину», лежащую вне церковной культуры. Он рискует не заметить, как стремился древний иконописец к красоте и реализму, и, этого стремления не заметив и не разделив, исказит, извратит, обезобразит любой, самый лучший образец. Сходство между подобным списком и иконой-образцом есть сходство между трупом и живым человеком: не стало души – и перед нами лишь косная разлагающаяся плоть. Душа иконы, это невидимое, неведомо как соединяющееся с «плотью» иконы, с красками её, – это поиск Красоты и Истины. Нет этого поиска – и искусство вырождается в оккультные игры, нечестие и произвол, независимо от того, идет ли речь об искусстве светском или церковном.
Во все времена было неважно, с какой «натуры» преимущественно работает иконописец – опирается ли он больше на старые образцы или находит образцы в мире Божием. Важно было, чтобы он не впадал в «своё измышление» в восприятии и трактовке этих образцов. Научиться видеть Красоту и Истину в классической иконе (и воспроизводить их в собственном творчестве) ничуть не проще, чем научиться видеть таковые в тварном мире и воспроизводить их. Было бы странно, если бы это было проще. Понимание красоты тварного мира, знание законов его художественного воспроизведения всегда лежало в основании иконописи. Без этого понимания и художественный язык иконы всегда останется для самозваных «иконописцев» чужим, иностранным языком.
Эту главу нам хочется закончить остроумной народной сказочкой. У деревенского богомаза спросили, что трудней всего писать.
– Петуха, – отвечал богомаз.
– Почему же петуха?
– Петух во всяком дворе есть, все знают, какие бывают петухи. Напишешь непохоже – всяк пальцем ткнёт, посмеётся.
– А что же тогда проще всего писать?
– Проще всего писать Господа Бога.
– Да как же это может быть?
– Да так! Его же никто не видел. Его каким ни напишешь – никто и рта не посмеет раскрыть.
Эту грустно-парадоксальную сказку в своё время охотно включали в издаваемые в Советском Союзе атеистические сборники фольклора, книжки под названиями вроде «Народ о религии». Составителям эта история виделась в духе их собственного цинизма и безбожия. Им и в голову не приходило, что народ не сочинил бы такой сказки, если бы всерьёз был уверен, что Господа Бога писать проще, чем петуха или кошку.
Те, кто в этом уверен (те, кто считает, что в изображениях Бога и святых Его можно обойтись без сходства с натурой), не сочиняют остроумных сказок. Они сочиняют схоластические выкладки, где мистическое богословие совершенно произвольно смешивается с любительским искусствоведением.
Слишком доверяя подобным выкладкам, мы рискуем потерять здоровый инстинкт, который при одном взгляде на икону говорит нам, способен ли её автор уверенно и похоже изобразить петуха или кошку. Или, напротив, он занимается иконописью затем, что для петуха ему не хватает таланта и школы.
Отрицать допустимость работы с натуры в иконописи означает, в сущности, отрицать всякую ориентацию на сходство с натурой, всякое стремление к такому сходству. По отношению к классической иконописи такое отрицание есть попросту ложь – предвзятая, бездоказательная, оскорбительная для мастеров прошлого.
О богословском же аспекте такого отрицания, в частности о совместимости оного с догматом о боговоплощении, мы предоставляем судить специалистам. Нашей задачей в этом очерке было всего лишь:
– уточнить, что же именно в изобразительном искусстве следует называть сходством с натурой;
– указать, в чём именно заключается работа художника с натуры, и
– напомнить, каким было и остаётся отношение Церкви к этому сходству на протяжении двух тысячелетий христианского искусства.
К этому последнему пункту мы ещё будем возвращаться в дальнейших главах, теперь же мы вынуждены коснуться ещё одного – даже не столько искусствоведческого, сколько культурно-исторического вопроса, связанного с иконой, – вопроса о подписи автора.
Начнем с первого случая – о прижизненных изображениях, становящихся иконами. Хорошо известно, что Церковь, во всяком случае, не признает иконами фотографии и не помещает их в этом качестве в храмах (хотя в домашних иконостасах многих верующих фотографии святых присутствуют, иногда заменяя их иконы, а иногда наряду с оными). Не стали иконами и известные живописные портреты Серафима Саровского или Иоанна Кронштадтского, хотя и послужили иконописцам несомненными образцами для почти буквального подражания.
Но, с другой стороны, в церковной традиции прочно утвердилось представление о том, что св. апостол Лука, будучи художником, написал несколько портретов Божией Матери при Её жизни, и портреты эти сделались первыми Её иконами. Даже если экспертиза опровергает принадлежность к I в. н. э. некоторых приписываемых св. Луке икон, один только факт существования подобного предания, а также православных изображений св. Луки перед мольбертом за написанием иконы с Самой, предстоящей ему, Богородицы, говорит о том, что канонического запрета на писание икон с натуры не существует.
Рассматривать же этот факт как исключение из правила, сделанное для художника-апостола и Матери Божией, святость которых была несомненна и превосходна, мы позволить себе не можем. О том, как именно, с натуры или по памяти, писались первые иконы святых, у нас нет никаких прямых данных, но данные косвенные и здравый смысл с очевидностью говорят о том, что писались они с натуры, как обычные портреты. Например, в 4-й книге жития св. императора Константина говорится, что его подданные «чествовали его и умершего, совершенно так, как если бы он был жив, посвящением ему изображений: они изобразили на нарисованной красками картине вид неба, а поверх небесного свода с помощью живописи представили его отдыхающим в эфирном местопребывании»[16 - Цит. по: Иоанн Дамаскин. Три слова в защиту иконопочитания СПб., 2001. С. 141.] – как видим, для агиографа достопримечательно и необычно именно посмертное, а не прижизненное изображение; прижизненные разумелись сами собою! Мы не можем указать на такие первые иконы-портреты – столетие иконоборчества оставило нам буквально крохи от художественного наследия предшествовавших ему веков. Но, скорее всего, если бы даже десятки тысяч древних памятников дошли до наших дней, мы и тогда бы не знали наверняка, какой Никола или какой Георгий суть «те самые», первые, и чьей кисти они принадлежат, и писаны ли непосредственно с натуры – такое множество списков с чтимых икон распространялось в Церкви, так мало значило авторство и такой прямой виделась связь каждой чтимой иконы не только с Первообразом, но и с первообразцом, т. е. хороший список почитался наравне с образцом и вскоре с ним вполне отождествлялся в сознании народа. Именно так, по вере народной и великим чудотворениям, продолжает Церковь приписывать непосредственно св. Луке иконы, которые эксперты признают за позднейшие списки.
Но, к счастью, мы имеем возможность сделать некоторые выводы из рассмотрения дошедших до нас прижизненных портретов царей, храмоздателей, клириков, донаторов, изображенных в молитвенном предстоянии Господу или святым на иконах. Именно потому, что эти люди не стали святыми, их портреты, включенные в иконы, никогда не списывались для других икон и остались единственными, уникальными объектами, о которых мы можем, несмотря на протекшие столетия, твердо сказать: это прижизненный портрет. Так вот, эти портреты живых и вовсе не святых людей, являющиеся частью иконы, стилистически ничем не отличаются от соседних с ними изображений святых. И не только стилистически, но и по своему типажу, т. е. никак нельзя сказать, что какая-то особенная, бросающаяся в глаза бездуховность и грубость черт выдает несвятость тех или иных включенных в икону персонажей. Единственное средство отличить святых от несвятых на традиционной иконе – нимб и надписание. Если же оные отсутствуют (как это часто бывает в многофигурных композициях), то без знания сюжета иконы, канонического или традиционного расположения фигур известных святых, их внешних черт и свойственной им одежды зритель лишен всякой возможности определить, какие персонажи суть святые, а какие нет.
Всё сказанное в предыдущем абзаце относилось к прижизненным портретам, включенным по желанию заказчика в икону или храмовую роспись. Но всё это равным образом справедливо для неизмеримо более многочисленных «незаказанных» изображений несвятых в составе праздничных, житийных, евангельских сюжетов. Этот необходимый по сюжету «народ» далеко не всегда настроен благоговейно, а порой иконописцу случается изображать язычников, грешников, палачей. Но пропорции тел этих злодеев и этой черни так же благородны, как пропорции тел святых, лица их не обезображены низкими страстями. В житийных сценах, если эти несвятые не совершают прямых насилий, то мы не можем определить, кто из них плох, а кто хорош, без надписания, объясняющего смысл сцены.
Таким образом, мы убедились в том, что изображения на иконе святых – и несвятых, живых – и умерших, тех, кто сам служил моделью художнику, тех, чья внешность была ему известна из прежде писанных образцов, и тех, кого он просто-напросто «придумывал», изображения эти совершенно идентичны по манере письма и неотличимы по типажу. Уже одно это – неоспоримое! – наблюдение дает нам право утверждать, что работа с живой модели или по воображению, идёт ли речь о святом или вовсе не святом персонаже, никак не сказывается на манере изображения человека в иконе, не налагает никакой особой печати.
Но до сих пор мы говорили всё-таки о тех случаях, когда святые и несвятые были писаны «с самих себя» при их жизни. Оставив в стороне «статистов», непоименованных персонажей многофигурных сцен, к которым всё равно не обращаются с молитвой, мы перейдем ко второй части вопроса: может быть, действительно есть нечто мистически запретное в том, что художник, посадив перед собою убеленного сединами благообразного натурщика, писал с него св. Николая? Или, накинув пурпурную драпировку на голову молоденькой натурщицы, писал с неё Богородицу? Вопрос этот многосложен, и, прежде чем говорить здесь о православной мистике, хорошо бы убедиться, что мы не впадаем в мистицизм языческий.
Смысл портретирования в христианской (да и не только христианской) культуре – прежде всего в передаче внешнего сходства. Времена, когда грубо слепленный идол – пара глаз, нос-рот, половые признаки – мог считаться мистическим двойником человека и в этом качестве быть объектом почитания или магических действий, – эти времена, в христианской Европе по крайней мере, давно прошли. Портреты живых людей, как в дофотографическую эпоху, так и сейчас, заказывают не первому встречному, который согласен посидеть известное время против модели, вступая с ней в некий контакт, и потом представить аутентичный продукт этого контакта на бумаге, холсте или в глине. Вовсе нет; от портрета требуется не аутентичность контакта художника с моделью, а сходство.
Профессиональный художник тем и отличается от дилетанта, что не ищет мистической связи с натурой (живой или неживой), а, зная, как добиться сходства изображения с натурой, создает схожее с нею изображение. И уже от себя, в меру своего таланта и в соответствии со своими эстетическими, нравственными и духовными установками, вносит в свою работу то, что превращает портрет из просто схожей с натурой ученической штудии в произведение искусства. Он может сообщить портретируемому особую значительность, или эмоциональную тонкость и глубину, или душевную чистоту и благочестие, или сексуальную привлекательность, или одухотворенность и сосредоточенность. Портреты, писанные с одного и того же лица разными художниками, могут по-разному характеризовать его психологически, интеллектуально, духовно, сохраняя при этом внешнее сходство.
Средства добиться этого сходства для разных художников будут тоже разными: это может быть ряд длительных сеансов со строгим соблюдением условий освещения, позы, расположения складок одежды, а могут быть и быстрые зарисовки, на основе которых портрет будет писаться – сколь угодно долго и тщательно – уже в отсутствие оригинала. Художник может прибегнуть к услугам наёмного натурщика, усадив его в позу и нарядив в костюм портретируемого, может использовать в тех же целях манекен, может обращаться к ранее написанным, нарисованным, изваянным (им самим или другими) портретам того же лица или к его фотографиям. Но работа художника будет оцениваться, во всяком случае, с точки зрения сходства портрета с оригиналом и желательности духовно-психологического акцента, сообщенного портрету.
Позволим себе для наглядности несложную притчу. Представим, что некто написал непосредственно с натуры никуда не годный портрет короля. Но признавать свою неудачу он и не думает. Он всерьёз доказывает, что работа его ценна мистической силой аутентичного контакта с королём во время многочасовых сеансов. И вдобавок обличает своего более талантливого коллегу-портретиста: он-де писал королевский портрет не с натуры, а пригласил позировать какого-то сомнительного типа, найденного на улице. Что ответят такому демагогу, если вообще сочтут нужным отвечать на его галиматью? Ему ответят, что короля правдиво изображает тот портрет, на котором Его Величество можно узнать без подписи, и не только узнать, а ещё и подивиться, как верно схвачены его благородство, мудрость, величие. Если в скромнейшем из королевских подданных художник сумел разглядеть эти черты, тем лучше для них обоих, а государя этим оскорбить никак нельзя. Оскорбит государя скорее уж тот, кто, написав с него явно неудачный, несхожий, недостойный его портрет, настаивает на всеобщем признании аутентичности этого изображения.
Таков будет совершенно резонный, трезвый ответ шарлатану и бездарности в «светской» ситуации.
Но почему же в иконописи подобному шарлатанству и нездоровому мистицизму, отбрасывающему нас в эпоху глиняных терафимов, охотно предоставляется место? Почему возникло и утвердилось это грубое, в зубах навязшее противопоставление: вот богохульник Рафаэль, пишущий Божию Матерь с легкомысленной девчонки, а вот череда подлинных иконописцев, никогда не осквернивших свое искусство… чем, спрашивается? Копированием натуры?
Здесь нам придётся сделать небольшое отступление. Дело в том, что выражение «копировать натуру» употребляется известной школой богословия иконы с такой лёгкостью, как будто и в самом деле нет ничего естественнее, как будто все не-иконописцы (вот ведь какие бездуховные!) только и делали, что штамповали копию за копией: как же иначе, реализм – значит копия. Стало почти общим местом, с лёгкостью принимаемым на веру, вульгарное сравнение академической школы живописи с фотографией или даже видением Христа глазами духовно слепой толпы. Такое сравнение видится блестящим доказательством невозможности показать божественную природу Христа при посредстве реалистического изображения[17 - Цит. по: Иоанн Дамаскин. Три слова в защиту иконопочитания СПб., 2001. С. 152.]. В действительности, ничего подобного не доказывая, такое сравнение только свидетельствует о незнании или намеренном игнорировании азбучных законов изображения натуры художником.
Художник никогда не копирует натуру механически, как делает это фотографический аппарат. Даже картины так называемых фотореалистов, целью своей ставящих именно безличное, механическое копирование фотоснимков (им известна принципиальная невозможность механического копирования натуры), даже их картины носят слабый отпечаток индивидуальной манеры автора. Любое же «копирование» собственно натуры всегда является творческим и натуру неизбежно преображает. Именно особенности этого преображения и составляют специфику искусства, его raison d’?tre[18 - Смысл существования.]. Они дают нам представление о внутреннем мире художника, об уровне его одаренности и профессионализма, о школе, эпохе, национальности, к которым он принадлежит (именно эти ясно читаемые специалистами данные служат основой для атрибуции и оценки). Для зрячего человека свидетельствами бытия Божия и возможности Боговоплощения могло бы служить уже одно несказанное, неисчерпаемое богатство таких индивидуальных видений натуры, каждое из которых – явление само по себе чудесное, аутентичная и воплощенная в косной материи проекция макрокосма в микрокосме.
Чудесным, по сей день неисследованным фактом является и бессознательность формирования каждой из таких проекций – не с целью создать ещё одну проекцию, а с целью познания красоты и истины. Историю искусства создавали вовсе не те, кто, грызя кисть, измышлял, чем бы этаким ему отличиться от Микеланджело или Шагала (это еще один дикий штамп, распространяемый дилетантским искусствоведением: именно так почему-то иные видят поиски художником своей индивидуальности – в гордыне, замкнутости, изоляции от мира и собратьев по ремеслу). Выдающимися художниками становились не они (вряд ли такие и существовали на самом деле), а те, кто просто стремился возможно точнее запечатлеть свое видение мира, т. е. передать истину в границах своего понимания.
Есть известный исторический анекдот о том, как зрители, улюлюкавшие перед непривычным глазу обывателя пейзажем Клода Моне, внезапно, выйдя на улицу, увидели: туман над Темзой, виденный ими прежде тысячу раз, был действительно розовый – такой, как на картине Моне. Есть и другой, не менее известный анекдот, на первый взгляд противоположный по содержанию: публика, прослышав о том, что Рафаэль пишет Богородицу с неподобающей натуры, бросилась громить его мастерскую – и внезапно, увидев картину, присмирела и исполнилась благоговения. Рафаэль сумел показать разъяренной толпе то, что разглядел в этой неподобающей натуре сам.
При всём внешнем несходстве эпох и причин недовольства публики в обоих случаях произошло одно и то же: публика возмутилась было, найдя поколебленным свое представление об истине, но была побеждена представлением более глубоким, тонким, обоснованным и искусно переданным. Публика в обоих случаях неожиданно для самой себя стала смотреть на мир глазами художника, и это было для неё потрясением и открытием. И произошло это несмотря на то, что и Рафаэль, и Моне писали непосредственно с натуры, т. е., в представлении обывателя, натуру копировали!
Итак, повторим ещё раз аксиому, без знания которой всякий разговор об искусстве есть лишь любительская болтовня: художник видит в предлежащей ему натуре не то, что в ней «видит» фотографический аппарат, а Истину в доступной ему степени. Иными словами, «всякое изображение делает ясными скрытые вещи и показывает их»[19 - Иоанн Дамаскин. Три слова в защиту иконопочитания. СПб., 2001. С. 89.] – как сказал за сотни лет до появления фотографии и научного искусствоведения св. Иоанн Дамаскин.
Но вернёмся теперь к тем художникам, которых иные теоретики иконы отчетливо выделяют в особую группу подлинных иконописцев и о которых «известно» (в действительности известно крайне мало), что они не писали своих икон с живых натурщиков[20 - L. Ouspensky. Thеologie de l’ic?ne dans l’Eglise orthodoxe. Cerf, 1993. C. 151.]. Принимая это произвольное, ничем не подтверждённое измышление за исторический факт, настаивают на несовместимости иконописи и письма с натуры.
Работа с натуры, к сведению дилетантов, заключается не только в том, что художник тщательно копирует позирующую ему модель или отправляется с этюдником на пленэр. Всякое наблюдение, сделанное намётанным глазом художника в тварном мире, уже есть работа с натуры. Всякое практическое использование такого наблюдения, будь то через минуту или через год, есть также работа с натуры. И всякое примечание в чужих произведениях приёмов передачи живого, реального также относится к области работы с натуры, поскольку эти приёмы сравниваются с натурными наблюдениями.
Так что же, великие иконописцы прошлого никогда не видели благообразных мужей и старцев, чистых юношей и дев, вообще людей, чей внешний облик связывался бы с представлением о душевном благородстве, мире и красоте, о мудрости, мужестве, деятельной любви к ближнему, смирении, чистоте, преодолении своих страстей? Или же при виде таковых иконописцы зажмуривались, чтобы избежать даже малейшего искушения воспользоваться в своей работе своими натурными впечатлениями?
А не будет ли правильнее, как с точки зрения здравого смысла и научной теории художественного творчества, так и с точки зрения богословской, предположить, что никакого прелюбодействия, никакого блуда не заключается в том, что художник, принадлежа к тварному миру и зрителями имея не бесплотных духов, а таких же людей, находит прекрасное в этом мире и в этих людях – и таким образом познаёт и показывает прекрасное иного, обетованного нам мира?
Не больший ли блуд от Господа и Истины в нелепых попытках представить плоским и механическим это познание художником божественного откровения в тварном мире, попытках не только заклеймить и унизить, хотя бы постфактум, самых одаренных, отважных, энергичных исследователей красоты как людей бездуховных, но и объявить целые эпохи культурной истории христианского мира по меньшей мере апостатическими?
К счастью, подобный обскурантизм должен рано или поздно, сам себя разъедая изнутри, сойти на нет. Он не имеет опоры в зрительских симпатиях (нельзя же всерьёз именовать симпатией угрюмое замирение с низкокачественной «иконописной продукцией»). Он не способствует духовному и творческому росту тех, кто в своей иконописи следует этому обскурантизму на практике. В интересах всех, действительно заинтересованных будущим православной иконы, изжить его как можно скорее.
Ни в каких определениях Церкви сходство иконы с натурой и работа художника с натуры никогда не запрещались. Запрещалось писать иконы «по своему измышлению», а рекомендовалось следовать «старым образцам».
Но это определение можно понимать в Духе и истине, а можно умышленно толковать с известной целью совсем в ином духе. В течение многих веков иконописцы, правильно толкуя требование Церкви следовать старым образцам, не копировали их механически, а учились рисовать, писать и компоновать в их духе. Сохраняя композиционную схему канона, они в каждой вновь создаваемой иконе заново переживали эту схему, наполняли ее живым содержанием своего личного духовного опыта и творческого познания мира, так что всякий новонаписанный образ Спаса являл Его величественным, кротким, исполненным силы, премудрости, совершенным телесно и духовно. И всякое новонаписанное изображение Матери Божией являло Её величественной и прекрасной в жертвенной любви Её к Сыну, в сострадании к человечеству. Мир классической иконы бесконечно разнообразен стилистически, но един в православном представлении Истины прекрасной и реальной. Именно в этом заключается верность старинным образцам и воздержание от «своего измышления», т. е. дурного произвола.
Дурной же произвол начинается там, где художник, иконописец или нет, решает, что стремление к красоте и реализму для него необязательно или даже вредно. Когда художник не следует этим важнейшим, определяющим критериям, не поверяет ими строго и трезво то, что выходит из-под его кисти, это как раз и означает, что он впал в прелесть «своего измышления». На что же другое может он ориентироваться и чем другим себя поверять?
«Как чем, – скажут нам, – а следование старым образцам? Где же тут своё измышление, когда мы копируем классические, прославленные иконы?»
Этот, на первый взгляд, сильнейший аргумент в действительности ничего не стоит. Как сказано было выше, традиционная иконопись следовала образцам, а не копировала их механически. Чтобы обучиться механическому копированию, не нужно записываться на иконописный стаж – куда полезнее будет поступить в ученики к художнику-фотореалисту и, перевернув свой образец вверх ногами, чтобы лучше абстрагироваться от его смысла, точка за точкой переносить на свою доску некий набор отвлеченных цветовых пятен – только так и может человек, существо разумное и духовное, произвести (мы умышленно не говорим «создать») копию, никак не отражающую его внутренний мир.
Но как только он перестает разыгрывать из себя фотообъектив, как только он осознаёт изображаемое, он немедленно берет на себя такую же ответственность и подвергается тем же опасностям, что и при работе с натуры, т. е. точно так же рискует впасть в «своё измышление» и увидеть в предлежащем ему образце «свою истину», лежащую вне церковной культуры. Он рискует не заметить, как стремился древний иконописец к красоте и реализму, и, этого стремления не заметив и не разделив, исказит, извратит, обезобразит любой, самый лучший образец. Сходство между подобным списком и иконой-образцом есть сходство между трупом и живым человеком: не стало души – и перед нами лишь косная разлагающаяся плоть. Душа иконы, это невидимое, неведомо как соединяющееся с «плотью» иконы, с красками её, – это поиск Красоты и Истины. Нет этого поиска – и искусство вырождается в оккультные игры, нечестие и произвол, независимо от того, идет ли речь об искусстве светском или церковном.
Во все времена было неважно, с какой «натуры» преимущественно работает иконописец – опирается ли он больше на старые образцы или находит образцы в мире Божием. Важно было, чтобы он не впадал в «своё измышление» в восприятии и трактовке этих образцов. Научиться видеть Красоту и Истину в классической иконе (и воспроизводить их в собственном творчестве) ничуть не проще, чем научиться видеть таковые в тварном мире и воспроизводить их. Было бы странно, если бы это было проще. Понимание красоты тварного мира, знание законов его художественного воспроизведения всегда лежало в основании иконописи. Без этого понимания и художественный язык иконы всегда останется для самозваных «иконописцев» чужим, иностранным языком.
Эту главу нам хочется закончить остроумной народной сказочкой. У деревенского богомаза спросили, что трудней всего писать.
– Петуха, – отвечал богомаз.
– Почему же петуха?
– Петух во всяком дворе есть, все знают, какие бывают петухи. Напишешь непохоже – всяк пальцем ткнёт, посмеётся.
– А что же тогда проще всего писать?
– Проще всего писать Господа Бога.
– Да как же это может быть?
– Да так! Его же никто не видел. Его каким ни напишешь – никто и рта не посмеет раскрыть.
Эту грустно-парадоксальную сказку в своё время охотно включали в издаваемые в Советском Союзе атеистические сборники фольклора, книжки под названиями вроде «Народ о религии». Составителям эта история виделась в духе их собственного цинизма и безбожия. Им и в голову не приходило, что народ не сочинил бы такой сказки, если бы всерьёз был уверен, что Господа Бога писать проще, чем петуха или кошку.
Те, кто в этом уверен (те, кто считает, что в изображениях Бога и святых Его можно обойтись без сходства с натурой), не сочиняют остроумных сказок. Они сочиняют схоластические выкладки, где мистическое богословие совершенно произвольно смешивается с любительским искусствоведением.
Слишком доверяя подобным выкладкам, мы рискуем потерять здоровый инстинкт, который при одном взгляде на икону говорит нам, способен ли её автор уверенно и похоже изобразить петуха или кошку. Или, напротив, он занимается иконописью затем, что для петуха ему не хватает таланта и школы.
Отрицать допустимость работы с натуры в иконописи означает, в сущности, отрицать всякую ориентацию на сходство с натурой, всякое стремление к такому сходству. По отношению к классической иконописи такое отрицание есть попросту ложь – предвзятая, бездоказательная, оскорбительная для мастеров прошлого.
О богословском же аспекте такого отрицания, в частности о совместимости оного с догматом о боговоплощении, мы предоставляем судить специалистам. Нашей задачей в этом очерке было всего лишь:
– уточнить, что же именно в изобразительном искусстве следует называть сходством с натурой;
– указать, в чём именно заключается работа художника с натуры, и
– напомнить, каким было и остаётся отношение Церкви к этому сходству на протяжении двух тысячелетий христианского искусства.
К этому последнему пункту мы ещё будем возвращаться в дальнейших главах, теперь же мы вынуждены коснуться ещё одного – даже не столько искусствоведческого, сколько культурно-исторического вопроса, связанного с иконой, – вопроса о подписи автора.