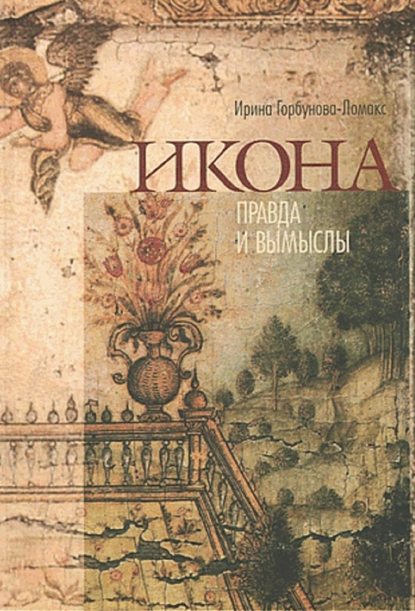По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Икона. Правда и вымыслы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
О подписи
Важным пунктом иконописной традиции считается отсутствие на иконе надписания имени автора, или его подписи. Настаивают на мистическом значении этой анонимности, как бы запечатлевающей имперсональный, всецело подчиненный Церкви, характер иконописного творчества.
Между тем, если бы Церковь действительно последовательно избегала как чумы всего, что может связать икону с именем её автора, каким бы образом могли дойти до нас имена великих иконописцев прошлого? Не искусствоведы, а Церковь пронесла через века сведения об авторстве целого ряда икон и храмовых росписей. Мало того, в некоторых случаях церковная традиция настаивает на этом авторстве там, где научное исследование его опровергает. Так, несколько древних и чтимых икон Божией Матери приписываются св. апостолу Луке. Вполне можно предположить, что случаев сохранения в устной традиции имен авторов выдающихся икон было гораздо больше, однако не все они дошли до нашего времени. Во всяком случае, даже того, что нам сохранила устная традиция, достаточно, чтобы утверждать, что Церковь не видит никакого криминала в сохранении имени художника при написанной им иконе. Более того, иной раз сама икона получает название по имени её автора – как, например, чудотворная Петровская икона Божией Матери, написанная св. Петром, митрополитом Московским.
Почему же всё-таки иконы подписывали сравнительно редко? Утверждение, что их никогда не подписывали, есть не что иное, как легенда, охотно повторяемая малоосведомленными в вопросе лицами – или теми, кто сознательно передергивает факты с целью создания особого ореола вокруг иконописания. Достаточно взять в руки хорошо аннотированный каталог любого крупного собрания икон, и мы найдем там множество подписных произведений. Например, одно только собрание икон Третьяковской галереи располагает подписными работами более чем шестидесяти древнерусских художников[21 - В.И. Антонова, Н.И. Мнева. Государственная Третьяковская галерея. Каталог древнерусской живописи. М., 1963. Т. 2. С. 518.]. Кроме того, о наличии или отсутствии подписи на древних иконах мы зачастую вообще не можем судить: оборотная сторона доски, не укрепленная паволокой и левкасом, не защищенная олифой, за несколько столетий утрачивает всякие следы того, что там могло быть написано, а то и претерпевает сильные разрушения. Таким образом, наш вопрос не в том, почему иконы не подписывали, а в том, почему подписные иконы всё-таки редки. Объяснений этому несколько, и все они являются не мистическими табу, но объективными, исторически обусловленными причинами.
Во-первых, иконы по большей части писались не одним автором, а целой мастерской, т. е. группой людей, каждый из которых специализировался в своей области: глава мастерской, знаменщик, выполнял предварительный рисунок, мастера доличного письма писали одежды, палаты и пейзажные детали, уделом личников были лики, позолотчики накладывали полимент и золото. Ученики выполняли менее ответственные операции – переносили рисунок на доску, делали так называемую роскрышь, т. е. прокладывали первый слой краски в границах, намеченных знаменщиком. Чьим же именем следовало подписывать икону?
Во-вторых, древние иконописцы, работавшие самостоятельно или объединенные в мастерскую, не всегда были грамотны. Старинное правило, обязывавшее иконописца приносить каждое новонаписанное изображение к священнику, чтобы тот, определив, схоже ли оно с прототипом, подтвердил сходство надписанием, затем и было установлено, что надписание зачастую мог выполнить только священник. Мало-помалу монополия на надписи перешла к художникам, но отождествлять этот факт с распространением среди них грамотности не стоит. Надписи на древних иконах кратки и стандартны (в редких противоположных случаях ценность иконы и её рыночная стоимость многократно возрастают). Кроме того, в них встречаются ошибки, явно происходящие от механического копирования малопонятных значков. Случались и крупные конфузы, когда художник благочестиво копировал зеркально переснятую надпись или подписывал группу стоящих справа персонажей именами «левых», и наоборот. При таком положении вещей ставить на иконе свое имя было бы для художника только лишней обузой. Тем более что практического значения эта подпись не имела никакого. Идентификация автора произведения искусства важна тогда, когда художник выставляет свою работу на рынок через посредника, или когда она, по всей вероятности, будет переходить путем продажи из рук в руки. Особенно же важной становится эта идентификация, когда покупатель руководствуется не столько качеством вещи, сколько рыночной стоимостью, престижностью того или иного имени – здесь уж сертификат с подписями экспертной комиссии важнее подписи самого художника.
Ничего подобного с иконами «классического» периода не происходило. Крупные иконописцы писали исключительно на заказ, и их работы оставались в том или ином храме навсегда. В том же случае, когда иконописец рангом пониже работал «на рынок», он мог быть совершенно уверен, что выбор покупателя никак не будет определяться авторством иконы.
В-третьих, имя человека всего несколько веков назад в России, как и в Западной Европе, как и во всем мире в известную историческую эпоху, служило прежде всего сакральным наименованием личности, а не средством её идентификации. Для идентификации в дворянстве существовали родовые фамилии, а в простонародье – довольно произвольные прозвища, иногда по нескольку у одного и того же человека; вместо прозвища, уважаемых людей иногда могли величать по отчеству. Фиксированные, наследственные фамилии стали общеобязательны только тогда, когда потребность общества в идентификации своих членов сделалась настоятельной.
Вот с этого-то времени художники и стали ставить подписи на своих работах, независимо от их светского или церковного предназначения. На примере России, совершившей скачок из Средневековья в Новое Время в невиданно короткий срок, можно особенно ясно видеть, что граница между неподписными и подписными произведениями вовсе не соответствует границе между традиционными иконами и всякой другой живописью. С одной стороны, на многих светских портретах рубежа XVII–XVIII вв. отсутствует какая бы то ни было подпись, а с другой стороны, в 1710 году специальным царским указом иконописцы были обязаны подписывать свои работы[22 - L. Ouspensky. Thеologie de l’ic?ne dans l’Eglise orthodoxe. Cerf, 1993. C. 391.]. Как почти все русские указы, он никогда не выполнялся последовательно и повсеместно. Но и никакой оппозиции этот указ не встретил – ни теологической, ни с точки зрения вкусов и традиций. А ведь в это самое время шла настоящая война по поводу иконографических сюжетов и стиля письма; сохранились многие исторические свидетельства напряженности этой борьбы и острые полемические трактаты против новых веяний в иконописи и в защиту их. Если бы подписи придавалось негативное, разрушающее концепцию иконы значение, у нас были бы какие-то сведения о недовольстве указом.
Исполняли этот указ выдающиеся иконописцы, работавшие в крупных городских мастерских (для них, собственно, он и был издан – с целью регулярного налогообложения). Но и задолго до указа такие художники свои работы подписывали – уже с конца XVI – начала XVII в. подписи на качественных, добротных иконах не были редкостью. В глухой провинции указ игнорировали, но не из мистических соображений, а просто за полной ненужностью подписи в условиях, ещё долго остававшихся средневековыми. Точно так же как не подписывали – даже и в начале XIX в. – очень многие портреты, пейзажи, декоративные панно, если они писались по заказу и теоретически навсегда оставались в руках заказчика.
На иконах, предназначавшихся для домашних иконостасов, а еще чаще – на иконах, жертвуемых в храм по обету, часто надписывалось имя заказчика, с его титулом, званием, местожительством – всем необходимым для идентификации; имя же художника при этом указывалось не всегда. В этом есть известная логика: иконописец кормится своим трудом; приняв за него мзду, он перестает быть владельцем иконы. А заказчик-жертвователь вносит от своего имения в сокровищницу Церкви и вправе рассчитывать на благодарное о нем воспоминание. Порою такие надписания, в том числе включающие имя художника, делались (несомненно по желанию заказчика) не на обороте, а на лицевой стороне иконы. Был и другой способ увековечить в иконописи имя жертвователя и обеспечить церковную молитву о нем и его близких – поставление в храм иконы тезоименитого ему святого, или группового образа святых покровителей всех членов семьи жертвователя, или любого другого сюжета «с предстоящими» – семейными покровителями. Бывали даже случаи изображения на полях или на самой иконе не святых покровителей, а самих жертвователей, но они остались редкостью по вполне объяснимой причине – к соименному святому обращались с молитвой, а помещенный на иконе портрет молитвой обходили. Но то, что такие изображения были позволительны, как нельзя лучше свидетельствует о церковном понимании связи между иконой и людьми, принимавшими участие в её создании или имеющими отношение к истории иконы – как её владельцы, как объекты или свидетели чудотворений. Целый ряд богородичных икон получил название по имени таких людей – Боголюбская, Игоревская, Касперовская…[23 - А.А. Воронов, Е.Г. Соколова. Чудотворные иконы Богоматери. М.: МП «Информполиграф». 1993.]
Церковь никогда не видела крамолы в сохранении связи между образом Божиим, представленным в красках, и образом Его, представленным в человеке. Надписание имени художника на иконе не разрушает её мистической концепции. Наличие или отсутствие этого надписания зависит отчасти от традиции, отчасти от экономической и социальной важности идентификации автора, идет ли речь об иконе или другом произведении искусства. Кто знает, возможно, что через тысячу лет искусствоведы будут с умилением рассказывать, что Пикассо и Дали были так скромны и смиренны, что не надписывали на своих картинах своего индивидуального номера.
Истинное смирение художника, его самоподчинение художественной традиции, а в церковном искусстве также и традиции духовной, не в том, подписывает ли он свою работу или нет. Также и молящийся перед иконой, носящей надписание имени её автора, или лица, оплатившего труд художника, или их близких, отнюдь ничем не оскверняется, и молитва его также восходит к первообразу, а не останавливается, упершись в подписанную доску.
Понимать это особенно важно в наши дни. Когда светский журнал тиражом в несколько тысяч экземпляров печатает статью об иконописце, приводя фотографии его самого и его работ, в этом не видят ничего дурного – и в этом действительно ничего дурного нет. Но когда в этой же самой статье с умилением говорится, что иконописец, как настоящий средневековый мастер, скромно не ставит подписи на своих иконах – это двусмысленно и смешно, потому что подпись на обороте иконы послужила бы к увековечению имени художника и распространению его известности в тысячи раз меньше, чем статья о нем в прессе, его каталог или его сайт в Интернете.
В России в наши дни работает множество прекрасных иконописцев, среди которых есть выдающиеся мастера. Молящиеся перед иконами письма м. Иулиании (М.Н. Соколовой) или о. Зинона, как правило, знают, кем написаны эти иконы, безо всякой подписи. Даже те, кто не видел этих икон в подлиннике, знают их по альбомам репродукций, где авторы, само собой, указаны. Таблички с указанием имени автора помещаются рядом с его работами на любой выставке икон. Приобретая икону современного письма в церковной лавке, вы найдете на обороте ярлычок с данными автора – иначе путаницы при расчёте не избежать. И все эти явления – существование рынка икон современного письма, выставки, широкая известность выдающихся иконописцев, издание репродукций их работ – свидетельствуют о подъёме уровня иконописного искусства, о всенародном интересе к нему, о видении в иконописи живого, творческого, личностного начала. Отождествлять это личностное начало непременно с гордыней, своеволием и самоизоляцией могут только мракобесы. Всерьёз ставить в зависимость от наличия или отсутствия подписи духовно-мистическую ценность иконы есть мракобесие.
Настаивать в наши дни на недопустимости подписи автора на иконе, умиляться тому, что современный иконописец, располагающий и пользующийся всеми средствами распространения информации о своей деятельности, не подписывает своих работ, – есть по меньшей мере неразумие.
Говоря вообще, упорное желание приписывать мистическое значение чисто номинальным, условно-традиционным особенностям иконописи всегда подозрительно. Оно порою заставляет забывать, что православный мистицизм, в отличие от оккультного, не есть область, куда проникают при помощи неких механических обрядовых действий.
«Обратная» перспектива
Представление о том, что иконопись изображает мир в обратной перспективе, является заблуждением сравнительно невинным. Невинным в том смысле, что оно сказывается на изображениях Бога и святых гораздо менее, чем представление о недопустимости сходства с натурой. Но зато и нелепость этого представления и слепая вера в него поистине поразительны.
Напомним, в чем оно состоит. В противоположность прямой, или оптической, перспективе, где условная точка схода находится в воображаемой глубине картины, в обратной перспективе точка эта находится перед плоскостью картины, со стороны зрителя, так что изображенное пространство разворачивается, ширится в глубину. В прямой перспективе линии стремятся сойтись в одну точку, предметы, удаляясь, уменьшаются в размерах – в обратной перспективе происходят противоположные явления. Применение обратной перспективы в иконе объясняется, конечно же, соображениями высшего порядка: оно, по мнению Л. Успенского[24 - L. Ouspensky. Thеologie de l’ic?ne dans l’Eglise orthodoxe. Cerf, 1993. C. 472.], помогает сохранению плоскостности иконы (вопрос – зачем же тогда нужна вообще какая бы то ни было перспектива?), оно вводит зрителя в особый, разворачивающийся в глубину, мир (но как же тогда с плоскостностью? И с тем фактом, что прямая перспектива тоже вводит зрителя в некий особый мир?).
Интересно, что о. Павел Флоренский ценил в иконе именно то, что зритель перед нею забывает, что стоит перед некой плоскостью, стеною – и проникает сквозь эту стену в духовные небеса[25 - П.А. Флоренский. Иконостас. Избранные труды по искусству. СПб., 1993. С. 41.]. Л. Успенский, настаивая на плоскостности иконы, ценил в ней то, что зритель ни на секунду не забывает, что перед ним не сами явления, а лишь образы их, объекты по природе своей от явлений отличные[26 - L. Ouspensky. Thеologie de l’ic?ne dans l’Eglise orthodoxe. Cerf, 1993. C. 469–472.]. Таким образом, способность к наивному забвению разницы между плоским изображением и реальностью приписывается тем, кто созерцает реалистические картины с применением прямой перспективы. Позволим себе заметить, что уж настолько далеко зрительская наивность обыкновенно не простирается. Противоположность же этих двух толкований пространства иконописи в зрительском восприятии, толкований, данных двумя классическими авторами, знаменательна. Ввиду этого мы постараемся избегать в нашей работе выражений вроде «вводит зрителя», «заставляет забыть», «раскрывает иной мир» и им подобных субъективных и относительных утверждений – например, когда «обратная перспектива» прямо нарекается перспективой евангельской, безумием во Христе[27 - Диакон Андрей Кураев. Традиция, догмат, обряд. М., 1995. С.292; также L. Ouspensky. Thеologie de l’ic?ne dans l’Eglise orthodoxe. Cerf, 1993. C. 172,469.], опровергающим законы мира сего. Мы отказываемся допускать, что в иконописи, несмотря на её интуитивно-чувственный характер, есть место этому безумию во Христе, или, говоря попросту, юродству.
Юродство есть одна из форм духовного подвига (кстати, одна из труднейших и редчайших), в которой эпатирующие внешние проявления обязательно должны проистекать из до предела напряженной духовной жизни подвижника. Ничтожное число юродивых (около двадцати), прославленных Церковью за два тысячелетия, ясно указывает на то, что Церковь крайне осторожно относилась к этому виду подвижничества и далеко не всех, кто позволял себе «ругатися миру» и ниспровергать земные законы, признавала юродивыми во Христе. И уж во всяком случае подлинные юродивые весь риск и всю тяжесть ниспровержения законов мира сего несли на себе, терпели невероятные физические лишения, насмешки и побои ближних – а вот помощь святых юродивых этим ближним была разумной, соответствующей представлениям обычных, здраво мыслящих и действующих людей о благе; разумной была эта помощь при жизни и таковой остается по смерти святых. Образ же художника, смело ниспровергающего логику мира сего в своих работах, оставаясь при этом благополучным и обеспеченным (нищие и бездомные икон не пишут), такой образ далёк не только от иконописи, но и вообще от православной культуры. Итак, мы не будем исходить из этого оскорбительного для иконы видения в ней – или в каких-то частях её – какого бы то ни было безумия, а, напротив, возьмем себе за правило трезво следовать разуму в трактовке любого из аспектов её художественной формы. «На поприще ума нельзя нам отступать» – как сказал вполне светский поэт, о духовном содержании творчества которого написан теперь ряд богословских работ.
Как бы то ни было, достижение священного безумия через геометрические построения есть идея довольно-таки вульгарная и не выдерживающая никакой критики.
Вопрос о роли «обратной перспективы» в иконе мы вообще оставим в стороне – до выяснения главного нашего вопроса, т. е. действительно ли в иконописи мир строится по законам обратной перспективы?
Мы недаром заключаем в кавычки это название, условное и довольно неудачное по отношению к пространственным построениям в традиционной иконописи. Во-первых, в нем содержится предположение (пожалуй, даже утверждение), что иконописцы испокон веков были знакомы с системой прямой перспективы, но сознательно отвергали эту систему в пользу обратной. Ничего подобного и в помине не было. Очевиднейшее соображение о том, что законы оптической перспективы были открыты и систематизированы только в XV в. итальянским архитектором Брунеллески, явно беспокоило Л. Успенского, который счел нужным защитить себя обширной сноской к переизданию написанной совместно с В. Лосским книги «Смысл иконы». В этой сноске утверждается, что иконописцы (удобный собирательный термин, объединяющий полтора тысячелетия и три материка) знали прямую перспективу, и в доказательство предлагается «внимательно посмотреть» на рублевскую икону Троицы, где дом и углубление в передней стенке стола якобы даны в прямой перспективе[28 - L. Ouspensky, V. Lossky. The meaning of icons. Newyork, 1989. C. 41.]. В действительности знаменитое углубление, долженствующее поставить иконописцев всех времен и народов в независимую от Брунеллески позицию, дано скорее в аксонометрии, чем в прямой перспективе, а дом, уж несомненно, – в обратной: достаточно измерить его заднюю стену и переднюю. Но даже если бы в обоих этих случаях объекты сокращались в глубину, то всё-таки совершенно недопустимо утверждать на этом основании, что иконописцы знали законы прямой перспективы и отказывались от применения оных сознательно. Чтобы утверждать подобное, нужно иметь данные о художниках, которые систематически и последовательно, с целью реалистической, или даже иллюзорной, передачи пространства, применяли прямую перспективу в VI, VII, X, XII веках так, как применяли её в Западной Европе начиная с XV в. То есть нужно иметь данные о некой школе прямой перспективы, существовавшей на протяжении веков рядом со школой «обратной» перспективы. Без таких данных приписывать средневековым художникам знание прямой перспективы на основании углублений в столиках рискованно. Можно, конечно, и Пушкина объявить провозвестником Великой Октябрьской социалистической революции на основании строчки «Октябрь уж наступил», но будет ли такой подход научным?
Итак, «обратная перспектива» не была обратной по отношению к известной и сознательно отвергаемой «прямой» системе пространственных построений. Она была не обратной чему-то, а попросту единственной – вплоть до открытия Брунеллески.
Но, может быть, название «обратная» имеет не относительный, а абсолютный смысл? Может быть, оно просто характеризует противоположность двух систем: вплоть до XV в. художники (заметьте, все художники) пользовались одной, а после взяли да и заменили её на противоположную. И назвали эту новую систему прямой, а старой присвоили – через несколько веков – название обратной. Звучит крайне нелепо, не так ли? Тем более нелепо, что во языках многих христианских народов понятие «прямой» связано с понятием «правильный, честный, истинный», а противоположны прямому – кривда, лукавство, отступничество. Знаменательно уже само по себе это лингвистическое противоречие: неужели мир иконы строится по законам, обратным всему прямому и правильному, так что это прямое и правильное предстает профанным, поверхностно иллюзорным, бездуховным?
Важным пунктом иконописной традиции считается отсутствие на иконе надписания имени автора, или его подписи. Настаивают на мистическом значении этой анонимности, как бы запечатлевающей имперсональный, всецело подчиненный Церкви, характер иконописного творчества.
Между тем, если бы Церковь действительно последовательно избегала как чумы всего, что может связать икону с именем её автора, каким бы образом могли дойти до нас имена великих иконописцев прошлого? Не искусствоведы, а Церковь пронесла через века сведения об авторстве целого ряда икон и храмовых росписей. Мало того, в некоторых случаях церковная традиция настаивает на этом авторстве там, где научное исследование его опровергает. Так, несколько древних и чтимых икон Божией Матери приписываются св. апостолу Луке. Вполне можно предположить, что случаев сохранения в устной традиции имен авторов выдающихся икон было гораздо больше, однако не все они дошли до нашего времени. Во всяком случае, даже того, что нам сохранила устная традиция, достаточно, чтобы утверждать, что Церковь не видит никакого криминала в сохранении имени художника при написанной им иконе. Более того, иной раз сама икона получает название по имени её автора – как, например, чудотворная Петровская икона Божией Матери, написанная св. Петром, митрополитом Московским.
Почему же всё-таки иконы подписывали сравнительно редко? Утверждение, что их никогда не подписывали, есть не что иное, как легенда, охотно повторяемая малоосведомленными в вопросе лицами – или теми, кто сознательно передергивает факты с целью создания особого ореола вокруг иконописания. Достаточно взять в руки хорошо аннотированный каталог любого крупного собрания икон, и мы найдем там множество подписных произведений. Например, одно только собрание икон Третьяковской галереи располагает подписными работами более чем шестидесяти древнерусских художников[21 - В.И. Антонова, Н.И. Мнева. Государственная Третьяковская галерея. Каталог древнерусской живописи. М., 1963. Т. 2. С. 518.]. Кроме того, о наличии или отсутствии подписи на древних иконах мы зачастую вообще не можем судить: оборотная сторона доски, не укрепленная паволокой и левкасом, не защищенная олифой, за несколько столетий утрачивает всякие следы того, что там могло быть написано, а то и претерпевает сильные разрушения. Таким образом, наш вопрос не в том, почему иконы не подписывали, а в том, почему подписные иконы всё-таки редки. Объяснений этому несколько, и все они являются не мистическими табу, но объективными, исторически обусловленными причинами.
Во-первых, иконы по большей части писались не одним автором, а целой мастерской, т. е. группой людей, каждый из которых специализировался в своей области: глава мастерской, знаменщик, выполнял предварительный рисунок, мастера доличного письма писали одежды, палаты и пейзажные детали, уделом личников были лики, позолотчики накладывали полимент и золото. Ученики выполняли менее ответственные операции – переносили рисунок на доску, делали так называемую роскрышь, т. е. прокладывали первый слой краски в границах, намеченных знаменщиком. Чьим же именем следовало подписывать икону?
Во-вторых, древние иконописцы, работавшие самостоятельно или объединенные в мастерскую, не всегда были грамотны. Старинное правило, обязывавшее иконописца приносить каждое новонаписанное изображение к священнику, чтобы тот, определив, схоже ли оно с прототипом, подтвердил сходство надписанием, затем и было установлено, что надписание зачастую мог выполнить только священник. Мало-помалу монополия на надписи перешла к художникам, но отождествлять этот факт с распространением среди них грамотности не стоит. Надписи на древних иконах кратки и стандартны (в редких противоположных случаях ценность иконы и её рыночная стоимость многократно возрастают). Кроме того, в них встречаются ошибки, явно происходящие от механического копирования малопонятных значков. Случались и крупные конфузы, когда художник благочестиво копировал зеркально переснятую надпись или подписывал группу стоящих справа персонажей именами «левых», и наоборот. При таком положении вещей ставить на иконе свое имя было бы для художника только лишней обузой. Тем более что практического значения эта подпись не имела никакого. Идентификация автора произведения искусства важна тогда, когда художник выставляет свою работу на рынок через посредника, или когда она, по всей вероятности, будет переходить путем продажи из рук в руки. Особенно же важной становится эта идентификация, когда покупатель руководствуется не столько качеством вещи, сколько рыночной стоимостью, престижностью того или иного имени – здесь уж сертификат с подписями экспертной комиссии важнее подписи самого художника.
Ничего подобного с иконами «классического» периода не происходило. Крупные иконописцы писали исключительно на заказ, и их работы оставались в том или ином храме навсегда. В том же случае, когда иконописец рангом пониже работал «на рынок», он мог быть совершенно уверен, что выбор покупателя никак не будет определяться авторством иконы.
В-третьих, имя человека всего несколько веков назад в России, как и в Западной Европе, как и во всем мире в известную историческую эпоху, служило прежде всего сакральным наименованием личности, а не средством её идентификации. Для идентификации в дворянстве существовали родовые фамилии, а в простонародье – довольно произвольные прозвища, иногда по нескольку у одного и того же человека; вместо прозвища, уважаемых людей иногда могли величать по отчеству. Фиксированные, наследственные фамилии стали общеобязательны только тогда, когда потребность общества в идентификации своих членов сделалась настоятельной.
Вот с этого-то времени художники и стали ставить подписи на своих работах, независимо от их светского или церковного предназначения. На примере России, совершившей скачок из Средневековья в Новое Время в невиданно короткий срок, можно особенно ясно видеть, что граница между неподписными и подписными произведениями вовсе не соответствует границе между традиционными иконами и всякой другой живописью. С одной стороны, на многих светских портретах рубежа XVII–XVIII вв. отсутствует какая бы то ни было подпись, а с другой стороны, в 1710 году специальным царским указом иконописцы были обязаны подписывать свои работы[22 - L. Ouspensky. Thеologie de l’ic?ne dans l’Eglise orthodoxe. Cerf, 1993. C. 391.]. Как почти все русские указы, он никогда не выполнялся последовательно и повсеместно. Но и никакой оппозиции этот указ не встретил – ни теологической, ни с точки зрения вкусов и традиций. А ведь в это самое время шла настоящая война по поводу иконографических сюжетов и стиля письма; сохранились многие исторические свидетельства напряженности этой борьбы и острые полемические трактаты против новых веяний в иконописи и в защиту их. Если бы подписи придавалось негативное, разрушающее концепцию иконы значение, у нас были бы какие-то сведения о недовольстве указом.
Исполняли этот указ выдающиеся иконописцы, работавшие в крупных городских мастерских (для них, собственно, он и был издан – с целью регулярного налогообложения). Но и задолго до указа такие художники свои работы подписывали – уже с конца XVI – начала XVII в. подписи на качественных, добротных иконах не были редкостью. В глухой провинции указ игнорировали, но не из мистических соображений, а просто за полной ненужностью подписи в условиях, ещё долго остававшихся средневековыми. Точно так же как не подписывали – даже и в начале XIX в. – очень многие портреты, пейзажи, декоративные панно, если они писались по заказу и теоретически навсегда оставались в руках заказчика.
На иконах, предназначавшихся для домашних иконостасов, а еще чаще – на иконах, жертвуемых в храм по обету, часто надписывалось имя заказчика, с его титулом, званием, местожительством – всем необходимым для идентификации; имя же художника при этом указывалось не всегда. В этом есть известная логика: иконописец кормится своим трудом; приняв за него мзду, он перестает быть владельцем иконы. А заказчик-жертвователь вносит от своего имения в сокровищницу Церкви и вправе рассчитывать на благодарное о нем воспоминание. Порою такие надписания, в том числе включающие имя художника, делались (несомненно по желанию заказчика) не на обороте, а на лицевой стороне иконы. Был и другой способ увековечить в иконописи имя жертвователя и обеспечить церковную молитву о нем и его близких – поставление в храм иконы тезоименитого ему святого, или группового образа святых покровителей всех членов семьи жертвователя, или любого другого сюжета «с предстоящими» – семейными покровителями. Бывали даже случаи изображения на полях или на самой иконе не святых покровителей, а самих жертвователей, но они остались редкостью по вполне объяснимой причине – к соименному святому обращались с молитвой, а помещенный на иконе портрет молитвой обходили. Но то, что такие изображения были позволительны, как нельзя лучше свидетельствует о церковном понимании связи между иконой и людьми, принимавшими участие в её создании или имеющими отношение к истории иконы – как её владельцы, как объекты или свидетели чудотворений. Целый ряд богородичных икон получил название по имени таких людей – Боголюбская, Игоревская, Касперовская…[23 - А.А. Воронов, Е.Г. Соколова. Чудотворные иконы Богоматери. М.: МП «Информполиграф». 1993.]
Церковь никогда не видела крамолы в сохранении связи между образом Божиим, представленным в красках, и образом Его, представленным в человеке. Надписание имени художника на иконе не разрушает её мистической концепции. Наличие или отсутствие этого надписания зависит отчасти от традиции, отчасти от экономической и социальной важности идентификации автора, идет ли речь об иконе или другом произведении искусства. Кто знает, возможно, что через тысячу лет искусствоведы будут с умилением рассказывать, что Пикассо и Дали были так скромны и смиренны, что не надписывали на своих картинах своего индивидуального номера.
Истинное смирение художника, его самоподчинение художественной традиции, а в церковном искусстве также и традиции духовной, не в том, подписывает ли он свою работу или нет. Также и молящийся перед иконой, носящей надписание имени её автора, или лица, оплатившего труд художника, или их близких, отнюдь ничем не оскверняется, и молитва его также восходит к первообразу, а не останавливается, упершись в подписанную доску.
Понимать это особенно важно в наши дни. Когда светский журнал тиражом в несколько тысяч экземпляров печатает статью об иконописце, приводя фотографии его самого и его работ, в этом не видят ничего дурного – и в этом действительно ничего дурного нет. Но когда в этой же самой статье с умилением говорится, что иконописец, как настоящий средневековый мастер, скромно не ставит подписи на своих иконах – это двусмысленно и смешно, потому что подпись на обороте иконы послужила бы к увековечению имени художника и распространению его известности в тысячи раз меньше, чем статья о нем в прессе, его каталог или его сайт в Интернете.
В России в наши дни работает множество прекрасных иконописцев, среди которых есть выдающиеся мастера. Молящиеся перед иконами письма м. Иулиании (М.Н. Соколовой) или о. Зинона, как правило, знают, кем написаны эти иконы, безо всякой подписи. Даже те, кто не видел этих икон в подлиннике, знают их по альбомам репродукций, где авторы, само собой, указаны. Таблички с указанием имени автора помещаются рядом с его работами на любой выставке икон. Приобретая икону современного письма в церковной лавке, вы найдете на обороте ярлычок с данными автора – иначе путаницы при расчёте не избежать. И все эти явления – существование рынка икон современного письма, выставки, широкая известность выдающихся иконописцев, издание репродукций их работ – свидетельствуют о подъёме уровня иконописного искусства, о всенародном интересе к нему, о видении в иконописи живого, творческого, личностного начала. Отождествлять это личностное начало непременно с гордыней, своеволием и самоизоляцией могут только мракобесы. Всерьёз ставить в зависимость от наличия или отсутствия подписи духовно-мистическую ценность иконы есть мракобесие.
Настаивать в наши дни на недопустимости подписи автора на иконе, умиляться тому, что современный иконописец, располагающий и пользующийся всеми средствами распространения информации о своей деятельности, не подписывает своих работ, – есть по меньшей мере неразумие.
Говоря вообще, упорное желание приписывать мистическое значение чисто номинальным, условно-традиционным особенностям иконописи всегда подозрительно. Оно порою заставляет забывать, что православный мистицизм, в отличие от оккультного, не есть область, куда проникают при помощи неких механических обрядовых действий.
«Обратная» перспектива
Представление о том, что иконопись изображает мир в обратной перспективе, является заблуждением сравнительно невинным. Невинным в том смысле, что оно сказывается на изображениях Бога и святых гораздо менее, чем представление о недопустимости сходства с натурой. Но зато и нелепость этого представления и слепая вера в него поистине поразительны.
Напомним, в чем оно состоит. В противоположность прямой, или оптической, перспективе, где условная точка схода находится в воображаемой глубине картины, в обратной перспективе точка эта находится перед плоскостью картины, со стороны зрителя, так что изображенное пространство разворачивается, ширится в глубину. В прямой перспективе линии стремятся сойтись в одну точку, предметы, удаляясь, уменьшаются в размерах – в обратной перспективе происходят противоположные явления. Применение обратной перспективы в иконе объясняется, конечно же, соображениями высшего порядка: оно, по мнению Л. Успенского[24 - L. Ouspensky. Thеologie de l’ic?ne dans l’Eglise orthodoxe. Cerf, 1993. C. 472.], помогает сохранению плоскостности иконы (вопрос – зачем же тогда нужна вообще какая бы то ни было перспектива?), оно вводит зрителя в особый, разворачивающийся в глубину, мир (но как же тогда с плоскостностью? И с тем фактом, что прямая перспектива тоже вводит зрителя в некий особый мир?).
Интересно, что о. Павел Флоренский ценил в иконе именно то, что зритель перед нею забывает, что стоит перед некой плоскостью, стеною – и проникает сквозь эту стену в духовные небеса[25 - П.А. Флоренский. Иконостас. Избранные труды по искусству. СПб., 1993. С. 41.]. Л. Успенский, настаивая на плоскостности иконы, ценил в ней то, что зритель ни на секунду не забывает, что перед ним не сами явления, а лишь образы их, объекты по природе своей от явлений отличные[26 - L. Ouspensky. Thеologie de l’ic?ne dans l’Eglise orthodoxe. Cerf, 1993. C. 469–472.]. Таким образом, способность к наивному забвению разницы между плоским изображением и реальностью приписывается тем, кто созерцает реалистические картины с применением прямой перспективы. Позволим себе заметить, что уж настолько далеко зрительская наивность обыкновенно не простирается. Противоположность же этих двух толкований пространства иконописи в зрительском восприятии, толкований, данных двумя классическими авторами, знаменательна. Ввиду этого мы постараемся избегать в нашей работе выражений вроде «вводит зрителя», «заставляет забыть», «раскрывает иной мир» и им подобных субъективных и относительных утверждений – например, когда «обратная перспектива» прямо нарекается перспективой евангельской, безумием во Христе[27 - Диакон Андрей Кураев. Традиция, догмат, обряд. М., 1995. С.292; также L. Ouspensky. Thеologie de l’ic?ne dans l’Eglise orthodoxe. Cerf, 1993. C. 172,469.], опровергающим законы мира сего. Мы отказываемся допускать, что в иконописи, несмотря на её интуитивно-чувственный характер, есть место этому безумию во Христе, или, говоря попросту, юродству.
Юродство есть одна из форм духовного подвига (кстати, одна из труднейших и редчайших), в которой эпатирующие внешние проявления обязательно должны проистекать из до предела напряженной духовной жизни подвижника. Ничтожное число юродивых (около двадцати), прославленных Церковью за два тысячелетия, ясно указывает на то, что Церковь крайне осторожно относилась к этому виду подвижничества и далеко не всех, кто позволял себе «ругатися миру» и ниспровергать земные законы, признавала юродивыми во Христе. И уж во всяком случае подлинные юродивые весь риск и всю тяжесть ниспровержения законов мира сего несли на себе, терпели невероятные физические лишения, насмешки и побои ближних – а вот помощь святых юродивых этим ближним была разумной, соответствующей представлениям обычных, здраво мыслящих и действующих людей о благе; разумной была эта помощь при жизни и таковой остается по смерти святых. Образ же художника, смело ниспровергающего логику мира сего в своих работах, оставаясь при этом благополучным и обеспеченным (нищие и бездомные икон не пишут), такой образ далёк не только от иконописи, но и вообще от православной культуры. Итак, мы не будем исходить из этого оскорбительного для иконы видения в ней – или в каких-то частях её – какого бы то ни было безумия, а, напротив, возьмем себе за правило трезво следовать разуму в трактовке любого из аспектов её художественной формы. «На поприще ума нельзя нам отступать» – как сказал вполне светский поэт, о духовном содержании творчества которого написан теперь ряд богословских работ.
Как бы то ни было, достижение священного безумия через геометрические построения есть идея довольно-таки вульгарная и не выдерживающая никакой критики.
Вопрос о роли «обратной перспективы» в иконе мы вообще оставим в стороне – до выяснения главного нашего вопроса, т. е. действительно ли в иконописи мир строится по законам обратной перспективы?
Мы недаром заключаем в кавычки это название, условное и довольно неудачное по отношению к пространственным построениям в традиционной иконописи. Во-первых, в нем содержится предположение (пожалуй, даже утверждение), что иконописцы испокон веков были знакомы с системой прямой перспективы, но сознательно отвергали эту систему в пользу обратной. Ничего подобного и в помине не было. Очевиднейшее соображение о том, что законы оптической перспективы были открыты и систематизированы только в XV в. итальянским архитектором Брунеллески, явно беспокоило Л. Успенского, который счел нужным защитить себя обширной сноской к переизданию написанной совместно с В. Лосским книги «Смысл иконы». В этой сноске утверждается, что иконописцы (удобный собирательный термин, объединяющий полтора тысячелетия и три материка) знали прямую перспективу, и в доказательство предлагается «внимательно посмотреть» на рублевскую икону Троицы, где дом и углубление в передней стенке стола якобы даны в прямой перспективе[28 - L. Ouspensky, V. Lossky. The meaning of icons. Newyork, 1989. C. 41.]. В действительности знаменитое углубление, долженствующее поставить иконописцев всех времен и народов в независимую от Брунеллески позицию, дано скорее в аксонометрии, чем в прямой перспективе, а дом, уж несомненно, – в обратной: достаточно измерить его заднюю стену и переднюю. Но даже если бы в обоих этих случаях объекты сокращались в глубину, то всё-таки совершенно недопустимо утверждать на этом основании, что иконописцы знали законы прямой перспективы и отказывались от применения оных сознательно. Чтобы утверждать подобное, нужно иметь данные о художниках, которые систематически и последовательно, с целью реалистической, или даже иллюзорной, передачи пространства, применяли прямую перспективу в VI, VII, X, XII веках так, как применяли её в Западной Европе начиная с XV в. То есть нужно иметь данные о некой школе прямой перспективы, существовавшей на протяжении веков рядом со школой «обратной» перспективы. Без таких данных приписывать средневековым художникам знание прямой перспективы на основании углублений в столиках рискованно. Можно, конечно, и Пушкина объявить провозвестником Великой Октябрьской социалистической революции на основании строчки «Октябрь уж наступил», но будет ли такой подход научным?
Итак, «обратная перспектива» не была обратной по отношению к известной и сознательно отвергаемой «прямой» системе пространственных построений. Она была не обратной чему-то, а попросту единственной – вплоть до открытия Брунеллески.
Но, может быть, название «обратная» имеет не относительный, а абсолютный смысл? Может быть, оно просто характеризует противоположность двух систем: вплоть до XV в. художники (заметьте, все художники) пользовались одной, а после взяли да и заменили её на противоположную. И назвали эту новую систему прямой, а старой присвоили – через несколько веков – название обратной. Звучит крайне нелепо, не так ли? Тем более нелепо, что во языках многих христианских народов понятие «прямой» связано с понятием «правильный, честный, истинный», а противоположны прямому – кривда, лукавство, отступничество. Знаменательно уже само по себе это лингвистическое противоречие: неужели мир иконы строится по законам, обратным всему прямому и правильному, так что это прямое и правильное предстает профанным, поверхностно иллюзорным, бездуховным?
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: