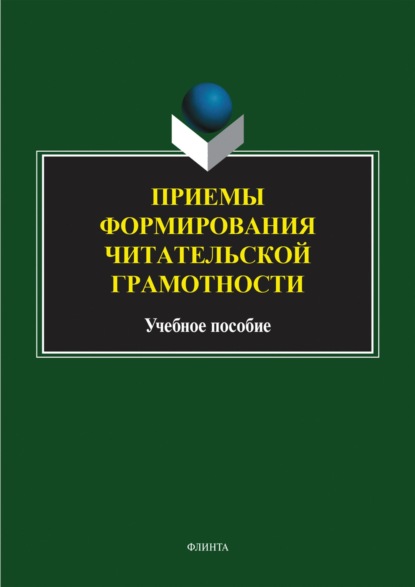По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Эфир
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Его фигура выпрямилась, плечи перестали сутулиться, морщины разгладились, а черты лица наполнились волей и решимостью. Он стоял у стола, сведя руки за спиной и широко расставив сильные ноги. Он был похож на воина, идущего на битву.
В этот же миг сферы изменили цвет на блестящий стальной и, растянувшись в тонкую текучую пленку, создали вокруг беседующих гигантский непроницаемый купол.
Маркус перестал улыбаться и ёрничать.
Старик начал говорить:
– Проявление длится уже несколько месяцев. Вы все это знаете.
– Да, – тихо сказал Маркус.
Старик кивнул.
– Вчера я был в этом доме. Это тот самый небольшой городок. Сейчас вокруг того места улицы и другие дома. Я не увидел ничего необычного. Простые люди. Простые чувства. Но мы не узнаем, пока не попробуем. В прошлый раз я был один. Мы всегда знали, что должен идти один, – старик остановился, подбирая правильные слова. Я не понимаю, почему тогда проявление закончилось ничем. Наверное, я считаю виноватым себя. Наверное, вы все это знаете.
Он снова остановился. Авиламита смотрела на него большими синими глазами и качала головой, говоря «нет».
– Сейчас я хочу, чтобы Авиламита пошла со мной. Мы знаем… Знаем, что это не по правилам. Но и четких правил у нас нет. Я не говорил ни разу. Но когда проявление закончилось на мне, это вырвало у меня внутри стержень. Я прошу помощи.
– Да, – снова сказал Маркус, понимающе и с почтением глядя на старика.
– Если у нас не получится, – продолжил он, – я прошу, чтобы Маркус, Кайми и Мария тоже присоединились.
Услышав невидимый ответ, старик кивнул:
– Хорошо, спасибо, – и тяжело опустился на скамью, рядом с Маркусом.
Тонкий стальной купол дрогнул на самой вершине и, распадаясь на тысячи мелких шариков, ссыпался на траву.
Они снова сидели друг напротив друга – старик, красавица Авиламита и добродушный Маркус.
И тут неожиданно для всех, даже для самой себя, Авиламита легким быстрым движением протянула руку и накрыла теплой ладонью уставшие пальцы старика. Осознав, что случилось, он поднял на нее полные благодарности глаза и положил на ее ладонь свою ладонь.
Маркус округлил глаза и молча смотрел на сложенные пирамидкой ладони. Даже если бы он сейчас убил павлина и начал его есть, они не посмотрели бы на него.
– Я забыл, – всё так же, не отрывая взгляда от сложенных рук, прошептал Маркус, – мне же надо вернуть птицу. Я же обещал.
За это время павлин успел исследовать всю северную стену дома, тщательно выклевывая и проверяя на съедобность десятилетней, а то и большей, давности семена, почистить перья и даже один раз распустить хвост. Заметив резкое телодвижение Маркуса в свою сторону, он попытался отскочить, но было поздно. Великан схватил птицу и направился к выходу. Бедный павлин вытянул шею и собрался что-то хрипло крякнуть, но снова не успел. Не дойдя один шаг до двери, гигантская фигура Маркуса растворилась прямо в воздухе, слегка качнув пространство.
Глава 3
Где-то между Волгой и Уралом. Конец девятнадцатого века.
Климентий Павлович вышел на крыльцо дома.
Он вглядывался в узкую проселочную дорогу, уходящую вдаль, к городу, и силился понять, в какую сторону движется маленькая серая точка повозки.
На несколько километров вокруг не было ни одного дома, ни одной деревни, и даже мельницы не строили в направлении нехорошего дома. Дорога, выходящая из ближайшего города, обрывалась здесь, у порога, на котором сейчас стоял Климентий Павлович.
Он не любил, когда приезжали повозки, но каждый день выходил на порог, спускался на три каменные ступеньки вниз и стоял в ожидании. Дни, когда никто не приезжал, были радостным событием для доктора. Климентий Павлович их всегда ценил.
Уже через десять минут стало понятно, что повозка едет к дому. По-другому и быть не могло. Но надеяться Климентию никто запретить не мог. И он надеялся.
За спиной доктора из-за приоткрытой массивной двери появилось сморщенное лицо. Это была его помощница – маленькая глубокая старушка. Она просунулась между косяком и тяжелой дверью и стала говорить дребезжащим голосом:
– Климентий Павлович, душа моя, что вы там камни греете? Как довезут, вас позовут. Мимо еще ни разу не проехали. Вас там мальчик спрашивает. Он бледный сегодня.
– Я иду уже, Антонина. Что вы тут? Идите, идите работать.
Климентий Павлович быстро поднялся по ступенькам и, заталкивая дребезжащую Антонину внутрь, зашел в дом. Несколько чисто убранных комнат были украшены связанными Антониной пледами и сплетенными ею же широкими абажурами для керосиновых ламп. Свет от них, и так тусклый, в красоте абажуров терялся вовсе, но Антонине нравилось, и доктор ей не препятствовал. Он, не задерживаясь в комнатах, прошел через весь дом и вышел во внутренний дворик.
Десять соток этого дворика были обнесены невысоким дощатым забором, выкрашенным в белую краску. Вдоль забора разбитые заботливыми руками Антонины же, красовались узкие цветники, а по углам гнездились пахучие кусты сирени. За забором начиналась небольшая лесопосадка, которая окружала весь дом, кроме южной стороны. Посадка наполняла воздух ароматом зелени и шелестом молодой листвы. А с южной стороны забора раскинулся старый яблонево-вишневый сад, который цвел каждую весну и плодоносил каждое лето и осень, без перерыва на год, как это случалось во многих садах той части России.
Во внутреннем дворе, окруженный добротным деревянным навесом, стоял длинный, в один этаж, летний дом. Вернее, летним он был раньше, до того, как доктор выкупил его. Сейчас это был вполне себе теплый и ухоженный приют для тяжелобольных и умирающих людей. Внутри было десять коек, без деления на мужскую и женскую палаты, две печки из красного кирпича, смотровая и операционная. Операционной Климентий Павлович не пользовался практически никогда. Она просто была. А вот смотровая работала постоянно. Антонина ежедневно в ней прибиралась, кипятила инструменты и простыни. Большие приютские окна играли зимой злую шутку с ее обитателями, пропуская много холодного воздуха. Антонина их утепляла, но все без толку. Топить приходилось по два раза в день, поэтому за домом, ближе к забору, стоял отдельный дровяник, куда из города регулярно привозили дрова, потому что часть обязанностей по содержанию приюта была возложена на земскую управу. С осени по весну у них жил еще и истопник, который следил не только за печным отоплением в приюте, но и за каминами в самом доме, регулярно проверяя их и прочищая дымоходы. Это сильно облегчало заботы доктора и Антонины.
Антонина была этаким ангелом-хранителем и для доктора, и для больных. Она вставала всегда с рассветом, убиралась в доме и приюте. Потом готовила незамысловатый завтрак и обед. Всё за один раз. И весь день сновала, как маленькая водомерка, между людьми, кроватями и предметами. У неё всё выходило ладно и быстро. Она никогда не уставала и не жаловалась. Климентию Павловичу иногда было интересно спросить, сколько ей лет и как она жила до того, как попала в приют. Но потом он смотрел на ее маленькие уставшие глаза и так и не решался на вопрос.
Сейчас в приюте было всего четыре человека: мальчик Никитка, слепая женщина лет сорока пяти, мужик из ближайшей деревни, который от невыносимых болей часто кричал по ночам, и старик с переломанными и неправильно сросшимися ногами. Старик рассказывал, что когда-то он был богатым купцом и много разъезжал по стране, но завистники, наняв лихих людей, изувечили его. С тех пор он ничего не помнит, только то, что был богат. Его рассказы слушали молча, кивали и верили.
Такое малое количество народа радовало доктора, но одновременно и огорчало – в начале весны за несколько дней умерло шестеро. Это было самое тяжелое время. Похоронив последнего, доктор закрылся на ключ в своем кабинете и не выходил три дня. Если бы не Антонина, то не стало бы и всех остальных.
Как только доктор вошел в приют, слепая женщина повернулась в его сторону и сказала с видом человека, который был водой в прятки и кого-то нашёл:
– Климентий Павлович.
Доктор быстро ответил:
– И вам доброго дня, – и направился ко второй от входа кровати.
На ней лежал худенький мальчик лет тринадцати. Его серое лицо с большими круглыми глазами и впалыми щеками могло вызвать слезы у кого угодно, но не у Климентия Павловича. Несмотря на свое весеннее трехдневное отсутствие, доктор не плакал уже много лет. Он не был чёрствым и равнодушным. Он просто не мог позволить себе слезы.
– Никитка, что ты? Звал? – спросил Климентий Павлович, присаживаясь на краю кровати и беря мальчика за тонкую, с выпирающими костяшками руку.
– У меня болело сегодня. Всю ночь. А сейчас легко. Будто ангелы воздуха в живот надули, – тихо шептал Никитка, с надеждой глядя на доктора, – авось мне легче? И я к мамке уйти смогу? А?
Климентий Павлович, щупая пульс, лоб, оттягивая нижнее веко мальчика и осматривая болезненные белки глаз, не задумываясь, бубнил:
– Легче – это прекрасно. Это же просто прекрасно. Значит, так и будет, как говоришь. К мамке. Домой. Вот ты молодец. Об этом и думай.
Растягивая слова и продолжая осмотр, доктор несколько раз погладил мальчика по голове, а потом, вздохнув, встал и направился к выходу.
В дверь навстречу ему опять просунулась голова Антонины.
– Антонина Петровна, да вы сегодня в ударе. Дались вам эти дверные косяки, что вы между ними трётесь, – пошутил не улыбаясь доктор и легонько вытолкнул ее во двор.
Антонина, не слыша шутки, снизу-вверх пытливо и с надеждою смотрела на Климентия Павловича. Он остановился, внимательно глядя на свои черные туфли, и, долго помолчав, сказал:
– Уходит Никитка. Видать, сегодня.