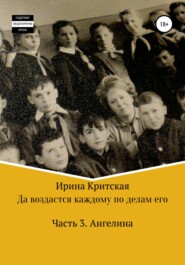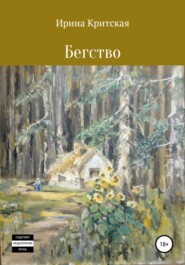По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Да воздастся каждому по делам его. Часть 2. Алька
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
…
– И представляешь, он скачет по улице, конь -то у него здоровенный, сильный, отец на свадьбу отдарил, лучшего в области привел, с ярмарки. Мы смотрим – а мужик без тулупчика, а ведь уезжал – был тулупчик-то. Волос развевается, лицо такое, как будто убил кого, ажник опрокинулося!
Раиса взахлеб, быстро говорила, одновременно качая крохотный сверток в цветастом одеяле и прячась за березу в палисаднике, чтоб не увидели!
– Мы смотрим, а у него кулек поперек крупа коня болтается, он обхватил так, чтоб не свалился. Бааа. А спереди ноги точат босые, женские. Мы аж захолодели. А оно вон что! Он тебя то с лошади снимает, держит так, вроде выпускать не хочет, а у тебя волосья свесились, мокрые, как медь горят. Он их все рукой поправляет, как гладит. И глаза у него такие, Аль. бедовые глаза, как колодцы, черны до дна. Ты вот что! Держись подале, похолоднее будь. А лучше, собирайся- ка ты свою школу и живи до лета. Все спокойней, я те дело говорю. Чего случись, там табор за Чергэн, жену его станет стеной, уходи. А лучше, вон – в Саратов поезжай, к мужику. Там здорово, я жила, век бы там пробыла. Да не судьба.
Аля слушала Раису молча, крутила веточку вербы, уже выставившую пушистые золотые рожки.
– Ладно, Рай. После вербного пойду, мать проводить надо. Мне не нужен никто, даже Лачо, есть у меня все. Да и дети там меня заждались!
Рая жалостно посмотрела, покачала головой.
– Тебе родить -то, когда?
– В июле…
– А мужик? Что?
– А что мужик? Письма вон пишет, писарь
На вокзале мать долго вглядывалась в Алино лицо, потом поправила ей платок и тихонько сказала: "Ты, девочка, беды не наделай. Я её прямо в глазах твоих вижу. Ты не любила ведь мужика, зачем замуж шла? Да еще дите сделали… Я вот что скажу, не срастется, возвращайся. Квартира большая, места хватит, да и рожать будешь в больнице нормальной. Александр уж изменился, так, сорвется иногда. Жить можно. Приезжай". Аля долго смотрела вслед поезду, пока его хвост не растворился в тумане.
…
Пасха откатилась к вечеру, везде валялись красные скорлупки, как будто кто-то целый день бил яркую тонкостенную посуду. Аля сидела на завалинке в палисаднике, под, начинающей зацветать старой вишней и чувствовала, что если она сейчас слопает еще хоть крошечный кусочек вот этого, пышного, с еле заметно ощутимой волглостью и разбухшими изюминами, кулича, то помрет. Растечется прямо здесь, на молодой мураве, дрожащей кисельной кучкой. Огромный кусок лежал перед ней, на тарелочке, и она все равно потихоньку отламывала от него по крошечке. День затухал нежно и свежо.
– Христос Воскрес, соседка! Похристосуемся? На камне сидишь, не застуди, гляди, место-то сладкое. А то, что мужик-то твой скажет?
Высокий, слегка резковатый голосок был незнакомым, неприятным и тревожным. Уже темнело, и в синеватых сумерках яркая женщина в поблескивающем красными искорками платке, завязанном назад, казалась призрачной. Аля подошла к заборчику.
– Я Чергэн. Слыхала?
Чергэн была хороша, той чисто цыганской, грубой, немного вульгарной красотой, которой отличаются цыганки, чья кровь чиста по роду. Слегка портили ее только мягкие, припухшие губы, да и то, не портили, а придавали беспомощность и открытость, беззащитность, ту которая всегда появляется в лицах беременных очень молодых женщин. Черные волосы, сплетенные в толстые волнистые косы, падали из-под платка на грудь. Узорчатый фартук плотно обтягивал очень большой живот. Цыганка поймала ее взгляд: "Чего смотришь? Двойнята там. Мать сказала". Она вдруг схватилась руками за неровные доски забора и прошипела:
– Поди сюда, скажу что. Слухай меня внимательно, сучка. Знаю, мужик мой тебя нашел там, на реке. С тех пор, как подменили его, заворожили. Молчит все, худеет. Добром прошу, отпусти. У тебя вон дите будет, муж есть. Не успокоишься, сгною. Порчу наведу такую, жалеть будешь, что мать родила. А то просто пырну в темном углу, мне терять нечего".
Помолчала. Посмотрела на Алю близко-близко, глаза у нее тянули из Али душу, резали почти ощутимо.
– Не… Вижу все. Не опасная ты. Ты не любишь никого, и Лачо не твой, да и мужик твой не с тобой. Или ты не с ним. Пойду я. Но что сказала – помни!
Наутро Аля тряслась на попутке по оживающей степи к школе. Подъехав поближе, вдруг увидела, как десяток маленьких фигурок, вприпрыжку несутся навстречу. Со всех сторон, повиснув, как грозди, щебетали, дергали, целовали. И обвешанная со всех сторон ребятней, Аля вошла в класс…
Уже совсем стемнело, нежный весенний вечер плыл по деревне и дурманил голову ароматами. Аля открыла дверь в свою комнату и резкий, одурявший запах налетел, чуть не сбив с ног. Она включила свет и чуть не села на пол. Везде, на полу, на подоконнике, на табурете, на тумбочке стояли вазочки, банки, тазики, кастрюльки, битком набитые свежими ландышами. Почти не было листьев, белели одни упругие головки. А в центре стола торжественно красовалось корыто, как будто наполненное белой пеной…
Ночью Аля проснулась от легкого подташнивания. Голова кружилась, она с трудом встала, вышла в коридор и наткнулась на деда Михая. Он посмотрел на бледные Алины губы и пошел к ней.
–Дура ты дура! Ладно эти олухи малолетние. А ты то! Учителка еще.
Он открыл нараспашку окна и выбрасывал ландыши в окно.
Аля обалдело крутила головой и, вдруг, вспомнила: "А сейчас мы поговорим о любимых цветах. Каждый из вас, дети, придумает мне коротенький рассказик, а потом нарисует его красками. Вот мои любимые цветы, например, – ландыши"
И Аля подняла над головой небольшой рисунок с нежным белым цветком
Глава 20. Конец и начало
Наступили школьные каникулы и Аля, неожиданно для себя, вздохнула с облегчением, первый раз в жизни ей захотелось чуть отстраниться от своих ребят и побыть в тишине. Она больше не появлялась в классе, школа закрылась до самой осени, в этом году так распорядилась директор. Жара стояла удушающая. Тяжелый живот тянул, Аля стала неповоротливой и медлительной, да ещё и поправилась сильно, неожиданно от этого похорошев. В её лице появилось нежное, теплое, молочное даже сияние, глаза стали глубокими, ожидающими и очень беззащитными.
Приехала мать, притащила с собой свою подругу Евдокию, худющую, как жердь, быструю, ловкую и живую. Из Саратова на лето вернулась и Галка, она скучала без мужа и все время торчала у Али, помогая по хозяйству. Короче образовалась тесная группа поддержки, Але не давали спуску, ежечасно и ежеминутно дежуря, не оставляя её ни на секунду в покое.
– Алюся, детко золотэнько, ведра не тягай, – басил дед из дальнего угла двора, непонятным образом углядев из-за дровни, что Аля берет у бабки небольшое ведерко с молоком.
– Геля, я без тебя таз отнесу, носильщица нашлась , – отбирала мать таз с выстиранным бельем.
– Аля, молочка иди-тко, парного, – шумела баба Пелагея с погребицы, звеня подойником, – И яечка сырого выпей, вон рябая тамо, под вишнею сронила.
И только в ночь… Ночью, в звенящей тишине своей комнаты Аля, наконец, могла спокойно полежать в тишине и подумать. Дальнейшая жизнь представлялась ей с трудом. В последнем письме Виктор, в очередной раз написал о трудностях, о своих стараниях и необходимости "подождать и потерпеть". На что Аля ответила короткой запиской – "Вить. Я хочу тебе признаться. Я никогда не любила тебя, не люблю и никогда не смогу полюбить. Обман – это не моё. Я и так о многом умолчала! Тот ребенок, которого я жду – не твой, прости. Не приезжай". В ответ Виктор промолчал. Так они и прервались на фальшивой завершающей ноте, просто затаились и ждали, когда она, их мелодия стихнет сама.
Каждый вечер, когда духота спадала и, наконец, можно было вздохнуть, Аля с Галкой выходили пройтись вдоль берега засыпающей тихой реки. У них было любимое место под огромной старой черемухой. Вниз вела лестница к мосткам и там, опустив ноги в теплую, ласковую воду они сидели до темноты, молчали, в основном, иногда тихонько перебрасываясь парой слов.
– Аль. Что ты дальше делать будешь? Ведь одна, с ребенком.
– Ну что поделаешь? Так случилось.
– Здесь оставайся! А что? Бабка посидит с дитем, ты работать будешь. Вон сколько ребят в училище, найдешь кого. Хорошо здесь, спокойно. И еда полезная. Я вот тоже думаю сюда с Вовкой. Он все про детей заводит, но я пока сторожусь, поживем чуть для себя.
– Не, Галк. В Москву поеду, к матери. Надо дальше как-то жить, здесь памяти слишком много. Не хочу.
– Ну, смотри. Я б не спешила.
– Я и не спешу, видишь. Только, знаешь, не легко каждый день Чергэн видеть с мальчишками. Она ведь так и светится, малыши – копия Лачо. И прошло ведь вроде всё, а увижу – захолонет внутри. И не держит. И не отпускает.
– Да, Аль. Я вижу.
– Что ты видишь? Вон у тебя мордаха счастливая, сияет, что сковородка начищенная. Ты только Вовку своего и видишь, коза.
– Та нууууу… Чего там. Вооовку… А ты и вправду – уезжай, пожалуй. Райка тут говорила, что Лачо с семьей на той неделе уходят с табором. Думаю – теперь уж – насовсем. Не вернутся…
Ночью Алю что-то будто толкнуло мягкой лапой в бок и в живот. Она резко проснулась, села на кровати. В отсвете огромной луны были видны стрелки на часах – три. Аля встала, подошла к маленькому окошку, ведущему в цыганский двор, приоткрыла его, вдохнула свежий ночной воздух. Лапа не унималась, толкала не больно, но настойчиво и слегка сжимала низ живота. Сожмет и отпустит… Сожмет и отпустит. Накинув платок на плечи, Аля тихонько, стараясь не шуметь, прокралась через сени, открыла засов и вышла на двор. Ночь, лунная, ароматная, пропитанная запахами зрелого лета раскинула свои черные крылья и лежала покойно, лаская спящие дома теплом и негой.
Аля села под вишней на табурет, расправила спину, затяжелевшую за ночь. И тут, боль разрезала пополам вытянувшееся струной тело. Почти завыв от боли, Аля сползла на землю и скрючилась в позе эмбриона, насколько позволял живот…
Боль плескала на нее свои огненные волны – волна наплывала, закрутив тело в спазме до красных искр в глазах и уходила, отпуская. Аля плохо соображала и почти ничего не видела, что-то случилось у нее с глазами, перед ней плыла белесоватая муть, в мути двоились и троились тени. Она видела только, что по двору металась баба Пелагея, держась за сердце и тоненько, совершенно не похожим на ее, голосом что-то кричала. Видела, что Евдокия, как ворона – в раскрыленном черном платке, упираясь изо всех сил, открывала тяжелые ворота. И Чергэн ( – почему Чергэн? Где Лачо? – мелькнуло в Алиной, воспаленной от боли голове), вкатывала в ворота цыганскую бричку, стоя во весь рост на облучке и залихватски посвистывая.
– Почему же такая адская боль? Господи! Меня сейчас разорвет пополам, у меня просто там треснет что-то, и скорее бы что ли, Господи.
Аля не кричала, ей было стыдно кричать, она просто тихо, почти неслышно выла, и из покусанных губ сочилась кровь. Потом, видимо, ее уложили в бричку, она лежала на мягкой шубе, но от каждой кочки в живот ей вонзали сто огненных ножей. Все плыло…